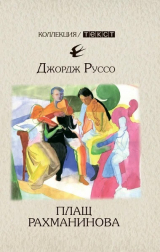
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
У них не было заготовлено никакой стратегии на будущее, смерть Ричарда необратимо потрясла их. Несколько месяцев они, как могли, разбирались в синдроме Вернера, рассчитывая, что Ричард будет медленно угасать, но под их любящим присмотром доживет до двадцати. Они готовы были принести любые жертвы, чтобы он держался, даже помыслить не могли о том, чтобы от этих жертв отказаться. Но падение с пятого этажа (они никогда не наливали это самоубийством), случившееся так скоро после вынесения точного диагноза, полностью уничтожило их ожидания. К Новому 1958 году они все еще ходили кругами и рассматривали разные версии, не произнося слова «самоубийство». Может быть, с Ричарда было довольно. Хотел ли он таким образом уйти пораньше? Несмотря на перерождение организма, он оставался умным молодым человеком и должен был интуитивно понимать, что его ожидает.
Раз за разом муж с женой оценивали каждый возможный мотив: это был несчастный случай, это не было самоубийством, даже несмотря на угнетенное состояние из-за частого пребывания в больнице и отсутствия лечения. Ричард, соглашались они, ни за что бы не выбросился из окна. И все же бесконечные хождения вокруг да около ничего не меняли и парадоксальным образом отдаляли их друг от друга. Их единственный ребенок разбился насмерть, оставив родителей с ощущением, будто они тоже лишились жизни.
На следующий день после смерти Ричарда доктор Зайд прописал им обоим таблетки, которые они принимали четыре недели, но Сэм все никак не мог вернуться к нормальной жизни, держался хуже, чем Эвелин. В нем стала проявляться нехарактерная для него агрессивность. В спорах он мог сказать лишнее. Потом часто брал свои слова назад, но потерял аппетит и стал спать даже хуже, чем при жизни Ричарда.
– Если бы мы не заставляли его заниматься виолончелью, он мог бы сейчас жить! – внезапно заорал он как-то вечером.
– Сэм, он жил для музыки, – возразила Эвелин.
– Я не это имею в виду: Ричарда лишили обычного детства.
– Он умер от редкой генетической болезни, виолончель тут абсолютно ни при чем.
– Да, но я говорю об окне, может быть, он не упал, может быть, он хотел выброситься, – наседал Сэм.
Эвелин убедила себя, что смерть Ричарда была несчастным случаем. И знала, что в глубине души Сэм тоже в это верит – его обвинения были призваны спровоцировать ее, только и всего. Их разговоры, размышляла она, были о них самих, а не о мертвом сыне.
– Ты хотела, чтобы он был твоей копией, – заводился он снова спустя несколько часов.
– Как ты можешь такое говорить, когда я делала все возможное, чтобы…
Перепалки не стихали, Сэм перебивал ее, менял свои доводы в середине спора, фыркал, махал рукой на фортепиано, как будто собирался напасть на инструмент, постоянно шел на конфликт, хотя она не велась на провокации.
Для Эвелин тяжелым испытанием был каждый бесконечный, пустой день, а не ссоры с Сэмом, которые она сводила на нет, прекрасно понимая, что им руководит. Их дни стали одинаково бесцельными, понедельник ничем не отличался от пятницы. Она сидела в кресле, неспособная побудить себя ни к какому занятию и одержимая мыслями о Ричарде: сморщенном седовласом старике пятнадцати лет, воняющим тухлятиной, слепнущим, до крови расчесывающим грубую кожу. Разлагающийся ребенок-старик, редчайшее и самое абсурдное создание, стареющее раньше срока[10]10
В 1970-х Эвелин сказала мне, что именно в это время поняла, почему музыка Рахманинова так действовала на нее в юности. Он знал «в точности, каково это – быть полностью сломленным, достичь дна, не просто переживать тяжелые времена, а находиться в самой нижней точке колеса». Во время этого разговора я задумался: может быть, это Рахманинов в ретроспективе, когда твой сын-подросток умирает у тебя на глазах, – но не решился тревожить ее воспоминания. Эвелин продолжила мысль: дело было не просто в лиризме Рахманинова, в его надрывном воображении и мелодии, но в его осознании того, что он на самом дне. Кажется, я добавил, что у его романтических предшественников – Шопена, Шумана, Форе – не было подобной интуиции и что, возможно, ею обладал только Чайковский благодаря своей сексуальной трагедии, которая могла разрешиться только смертью.
[Закрыть].
Ее навязчивая идея начала жить собственной жизнью, н этому невозможно было помешать. Эвелин часами сидела в одиночестве в одном и том же кресле в гостиной, глядя в пустоту, и перед ее внутренним взором плясали видения нелепых детей в старческих телах, седеющих, уменьшающихся, умирающих, преждевременно превращающихся в копии ностальгирующих о молодости взрослых – таких, какой она сама могла бы стать. Как, спрашивала она, здоровый маленький мальчик за одну ночь мог состариться и превратиться в преждевременную версию человека, которым он никогда не станет? Она беззвучно рыдала.
Эвелин утратила интерес к домашнему хозяйству. Муж с женой почти все время ужинали в ресторанах, двое взрослых, в молчании сидящих за столом. Они знали, что вечно так продолжаться не может: должна случиться какая-то перемена, и когда она произойдет, то унесет с собой все, как прибойная волна смывает все в океан.
Тем летом в Атлантик-Сити внезапно умер Чезар. Его хватил удар, когда он слушал любимую передачу. Михаэла называла это «блаженной кончиной» в шестьдесят пять.
– Твой отец не страдал ни минуты, – хвасталась она так, будто лично договорилась об этом с судьбой.
Потом Лола, старшая сестра Сэма, которая жила в Санта-Барбаре и с которой они за прошедшие годы почти не виделись, объявила, что разводится: они с мужем уже год жили раздельно, и она готовилась переехать с тремя детьми в Лос-Анджелес. Однако, как ни странно, переломным моментом стало возвращение Эвелин к фортепиано.
Лола пыталась записать их на групповую психотерапию для родителей, потерявших ребенка. Доктор Зайд порекомендовал им недавно сформированную группу. Люди собирались по три, четыре, пять человек, иногда больше, чтобы получить утешение, когда жизнь кажется совсем уже невыносимой. Сэм категорически отказался, заявив, что ему будет некомфортно делиться своей личной утратой со «всем миром».
– Как ты можешь называть их «всем миром», Сэм? Они в такой же ситуации, что и мы…
Сэм, перебив, перевел разговор на саму Эвелин и обвинил ее в том, что она вылепила из Ричарда своего клона, и из-за этого его сын не смог пережить потерю музыкальной карьеры и выбросился из окна. Он сказал, что Эвелин больна, что она больная личность и, страдая от утраты собственного детства, без тени угрызений совести украла детство его сына. Какая разница, орал он, стал бы Ричард знаменитым виолончелистом или нет?
– Конечно, он выбросился, дура, – продолжал он. – Выбросился точно так же, как ты оцепенела на сцене. Ричард не задыхался от нехватки кислорода. Он выбросился не потому, что не мог вынести мысли о том, что вечно будет пациентом. А потому что потерял свою идентичность, которую ты украла. Потерял себя, своего отца, все. Ты в этом виновата. – И Сэм зашелся в истерических рыданиях.
Это были бредовые слова, но они произвели на Эвелин благоприятный эффект: высвободили подавляемую тягу к перерождению и вызвали желание вернуть то, что потеряла она сама. Не Таун-холл, ее несостоявшийся концерт и погубленную карьеру, а само фортепиано и тактильные ощущения, которые оно вызывало: нервное взаимодействие пальцев с клавишами, ощущение сноровки, движения. Она перестала смотреть в пустоту невидящим взглядом. Ее пальцы страдали, почувствовала она. И решилась во что бы то ни стало вернуть им то, чего они лишились.
Как только Сэм уходил на работу, она садилась за инструмент и играла по два, три, четыре часа в день. Ее «перестройка», как называет она это в своем дневнике за 1958 год, случилась не в один миг. Она шла несколько месяцев и утолила невыразимое горе утраты. Эвелин никогда не упражнялась по вечерам, когда возвращался Сэм. Долгое время он даже не знал, что она снова играет.
В дневнике Эвелин содержится такая запись:
Возможно, покажется странным, что я скрыла от Сэма, что вернулась к фортепиано, но мне мое молчание казалось совершенно естественным. Это была моя новая жизнь, единственное, что мне осталось после смерти Ричарда, и Сэму в ней не было места. Когда я снова стала играть, то поняла, что моя любовь, которую я питала к Сэму, была ограниченной: конечно, он был отцом моего ребенка, и хорошим отцом, но он никогда не понимал, каково это – «иметь музыку в крови».
И дальше в том же духе, она при этом почти забывает о своем горе:
Я рассказала Сэму о своей панике на дебютном концерте в Таун-холле, когда он за мной ухаживал, и он ответил, что понимает. Тогда, в 1941 году, до рождения Ричарда, я сама колебалась: кошмар был слишком свеж в памяти, чтобы принять его и бесстрастно поведать о нем жениху. Бессмысленно было бы пытаться объяснить концертную программу, особенно сонату Рахманинова, из-за которой мы так спорили с Адель. Сэм бы не понял. Только музыкант знает, что такое нехватка техники, и может оценить, как тяжело играть музыку Рахманинова.
* * *
В следующее десятилетие наши с Эвелин пути разошлись. Не помню даже, когда я узнал о смерти Ричарда. Наверное, в 1958-м, зимой или весной после его смерти, когда я все еще по субботам бывал на Чатем-сквер. В том году я учился в последнем классе Школы исполнительских искусств и готовился играть Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова. Я выиграл в студенческом музыкальном конкурсе и получил в награду дебют в Таун-холле с профессиональным симфоническим оркестром и Джулиусом Гроссманом[11]11
Джулиус Гроссман (1912–2002) был главой отделения музыки в Школе исполнительских искусств и дирижером, который полвека давал бесплатные концерты в Нью-Йорке.
[Закрыть] в качестве дирижера. Я был на седьмом небе от счастья. Смерть, даже смерть бедного Ричарда, представала в моем сознании неким назойливым чудищем, которое следовало гнать от себя.
К тому же мое внимание занимало другое – недавно появившееся стремление к чтению, атмосфере книг, приобретенному знанию, подогреваемое желанием увидеть мир за пределами Бруклина. Мои родители были троюродными братом и сестрой, которые поженились по настоянию родителей, моих дедушек и бабушек. Мать была необразованной, но рыдала, когда слышала классическую или этническую музыку; отец мог бы окончить аспирантуру в Колумбийском университете и получить степень по романской филологии, если бы не помешала Великая депрессия и ему не пришлось пойти на Орчард-стрит с тележкой с яблоками по десять центов. Это был брак по расчету, который не стоило заключать: слишком уж разными они были по образу мыслей и эмоциональному складу, их объединяли только общие гены и воспитание в семье эмигрантов.
Мать хотела, чтобы я стал раввином, но ее удовлетворил бы и директор школы, поэтому она постоянно требовала, чтобы я совершенствовался в игре на фортепиано, в расчете на то, что это поможет мне продвинуться либо на первом, либо на втором поприще – уж не знаю, каким образом. Отец, который чуть не лишился рассудка в годы Великой депрессии, тяжело сказавшейся на его семье и на нем самом, надеялся, что я изберу более надежную профессию, лучше всего медицину: «Станешь доктором – ни в чем не будешь знать нужды». Он был атеистом, мать – ортодоксальной иудейкой. Неспособные договориться о религиозном воспитании детей, они предоставили мне и моей сестре Линде самим решать за себя. В моем случае это означало, что я мог заниматься фортепиано, и я делал это по нескольку часов в день, пока однажды моя учительница в школе, афроамериканка по имени Селия Дрюри, которая потом стала деканом в Принстонском университете, не разбудила во мне тягу к знаниям – столь мощную, что временно затмила фортепиано.
Охваченный новым любопытством – жаждой читать, учиться, – я убедил себя, что как бы ни желал играть на фортепиано и строить музыкальную карьеру, сначала нужно отучиться в университете. В 1957 году я подал документы в лучшие вузы Америки: Амхерстский колледж, Гарвард и Йель, – где мне сказали, что у меня хорошие шансы быть принятым. Мадам Анка Бернштайн-Ландау[12]12
Урожденная полячка Анка Ландау (1879–1976) сделала замечательную карьеру как преподавательница игры на фортепиано сначала в Венской консерватории, где была главной ассистенткой Ричарда Роберта, а потом в Музыкальной школе на Чатем-сквер в Манхэттене. В конце концов Хоци определил меня к ней. Ричард Роберт учил Рудольфа Серкина и Георга Желля, а те поспособствовали спасению Ландау от нацистов в конце 1930-х годов и ее эмиграции в Нью-Йорк; письма Ландау к Серкину, в которых она умоляет не дать ей погибнуть в лагерях смерти, можно найти в архивах Джульярдской школы. Еще в Вене Ландау подружилась с Пабло Казальсом и с тех пор всю жизнь поддерживала с ним переписку. Все, что я знаю об игре на фортепиано, я узнал от нее.
[Закрыть], моя учительница из Чатемской школы, послала меня к великому пианисту Рудольфу Серкину; послушав мою игру, тот провел со мной несколько занятий, чтобы подготовить к концерту. Еще я занял призовое место в конкурсе юных исполнителей, проводимом радиостанцией WQXR, и получил возможность выступить в их знаменитой на всю страну передаче. На этом основании Серкин предложил дать мне рекомендации для поступления. В Амхерсте и Гарварде мне готовы были предоставить полную стипендию, в Йеле – нет. Я так быстро влюбился в буколическую атмосферу Амхерста, что мое воображение человека, выросшего на тротуарах Бруклина, где нет ни одного деревца, не могло противиться очарованию его кампуса. Когда декан Юджин Уилсон принял меня как стипендиата Меррилла, я сразу же согласился[13]13
Чарльз Меррилл (1885–1956) учился в Амхерстском колледже, но не окончил его; сколотив состояние в «Меррилл Линч», американской брокерской компании, он учредил в Амхерсте стипендию за достижения в учебе. Наша семья была бедной, поэтому без ежегодной стипендии я не смог бы там учиться. Отец специально устроился на работу ночным делопроизводителем, чтобы его сын мог подать заявление на стипендию Меррилла, позволявшую поступить одному мальчику (в Амхерсте еще не было совместного обучения). Декан Юджин Уилсон придерживался самых новаторских взглядов в вопросах поступления и охотно принимал студентов вроде меня, чей аттестат был далеко не блестящим. Меня бы ни за что не приняли, если бы не мои успехи в игре на фортепиано и отзывы Анки Ландау и Рудольфа Серкина.
[Закрыть]. Гарвард был величайшим университетом Америки, но он не мог соперничать в моем юношеском сознании с пасторальными пейзажами Амхерста. И это я еще не видел пылающие клены в райских лучах осеннего солнца. Все эти события: исполнение Второго концерта Рахманинова в Таун-холле, конкурс WQXR, подача документов и поездки по университетам, принятие решения, где остаться, – произошли в течение пяти месяцев со смерти Ричарда, поэтому неудивительно, что он так быстро потускнел в моем пылком разуме.
Закончив Амхерст, я поступил в аспирантуру Принстонского университета и по окончании получил свою первую академическую должность на отделении английского языка в Гарварде. После нескольких напряженных лет, проведенных там, меня пригласили преподавать в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где я проработал 26 лет. В этот период я восстановил свои отношения с Эвелин.
Мои интеллектуальные интересы изменились за эти годы. В Принстоне и Гарварде я сосредоточился на том, чтобы догнать сокурсников, от которых сильно отставал из-за занятий фортепиано. В моей докторской диссертации в Принстоне рассматривалась роль медицины в романе XVIII века, и после нее все, связанное с медициной, стало играть для меня роль, сравнимую по значимости только с моей прежней страстью к музыке (может, я в душе несостоявшийся доктор?). К 1966 году, когда я стал преподавать в Гарварде, я уже считался специалистом по связи литературы с медициной и ходил на занятия в Гарвадской медицинской школе, чтобы узнать о медицине изнутри.
Особенно интриговало меня одно явление – рост ностальгии, или «тоски по дому», в западной цивилизации. Ностальгия пробудила мое любопытство задолго до смерти Эвелин; в любом случае я не обсуждал с ней эту тему, пока не стало ясно, что ее «поиски Рахманинова» схожи с моими собственными, хотя и гораздо более научными, исследованиями. Но мы говорили о ностальгии на разных языках: ее язык был интуитивным, ненаучным, систематически никак не связанным с ее жизненным опытом – уж точно не язык историка. Мой интерес к ностальгии, скорее всего, возник в процессе перехода от музыкальной карьеры к академической, когда я понял, что образ мыслей – это в некотором роде тоже дом, «ментальный дом», ничем не отличающийся от кирпичных. Вне всяких сомнений, на мой интерес к прошлому ностальгии повлияло, может быть, даже в большей степени, еще и то, что я во многих аспектах принадлежал к меньшинству: ребенок эмигрантов-сефардов, начинающий пианист, как и Эвелин, но, в отличие от Эвелин, интеллектуал и гомосексуал – в 1970 годах к этим фактам добавилось еще недовольство жизнью в Америке, а потом, в 1993-м, желание эмигрировать. За четыре года до этого, в 1989-м, когда умерла Эвелин, моя неприязнь к Америке достигла пика[14]14
Читатель может спросить, что именно мне не нравилось. Я был профессором Калифорнийского университета и вместе с моими коллегами жил в 1970-х и 1980-х при режиме нашей консервативной звезды кино, губернатора Калифорнии, а потом президента США Рональда Рейгана. В эти два десятилетия университетская мораль все более разлагалась, нам постоянно урезали бюджет, и, поскольку наш губернатор, а потом президент страны, из второразрядных голливудских актеров поднялся к славе и к национальным выборам, общий характер жизни в Лос-Анджелесе стал тяготеть к индустрии развлечений, а не к науке, несмотря на его университет мирового уровня. Но, без сомнений, главная причина моей неприязни была историческая и культурная: мои интересы лежали в области высокой культуры, тогда как в Лос-Анджелесе насаждалась поп-культура, и практически вчерашний день уже считался «прошлым»: например, современное здание 1949 года на Сансет-стрип подавалось рекламой как «старинное нормандское шато с высокими потолками». Как историк культуры я жил в городе без истории, которая интересовала бы меня (конечно, здесь полно местной истории), и не надеялся, что она когда-либо появится, даже начал писать книгу под рабочим названием «Стертые из истории».
[Закрыть].
Исторический путь ностальгии и трудности, которые он у меня вызвал, косвенным образом дополняли друг друга. Слово «ностальгия» ввел доктор Хофер, военный врач из Эльзаса, в конце XVII века[15]15
Иоганн Хофер (время деятельности – ок. 1680-х) описал своих больных ностальгией солдат в знаменательном трактате под названием Dissertatio Medica de nostalgia (Базель, 1688). Английский перевод вышел в журнале Bulletin for the History of Medicine, 2 (1934). В эпоху Просвещения врачи пытались определить, какие органы сильнее всего поражает ностальгическая тоска, и предположили, что они находятся в области груди и брюшной полости, в основном сердце, печень, желудок и селезенка. Их теория совпадала с представлениями о меланхолии, существовавшими в более раннюю эпоху Возрождения: в тот период анатомическая наука также была сосредоточена на той же области – отсюда представления о сплине, что с английского переводится как «селезенка», о том, что хандра вызвана испарениями в теле или подавленными телесными жидкостями. Но эта долгая медицинская традиция, идущая со времен Хофера, не должна оттеснять другую ностальгию – универсальную тоску, связанную в первую очередь с памятью, а не с органами в брюшной полости. Памятью о прошлом, истории и коллективном эмоциональном наследии, накопленном народами. Эта другая ностальгия, ее бессимптомная разновидность, заключенная в памяти, является не индивидуальной болезнью, а всеобщим заболеванием, основанном на коллективной памяти и травме. Это та ностальгия, которую Фрейд назвал «зловещей», или unheimlich, в своем знаменитом одноименном эссе, где объявил ее фундаментальной структурой человеческой жизни, по сути своей связанной с влечением к смерти. В этом смысле сам психоанализ Фрейда рассматривает возвращение «домой» через овеществление и последующий разбор детских травм. Таким образом, ностальгия конкретного индивида у Фрейда становится не тоской по физическому дому, а поисками утраченного детства, вызванными неспособностью адаптироваться к взрослой жизни. Но такое описание ностальгии оказалось слишком сложным для восприятия, после того как психоанализ отчасти утратил свои позиции в середине XX века. И если Фрейд с его собратьями-пси-хиатрами приватизировали эту другую бессимптомную ностальгию, то остальные полностью убрали ее из своей сферы и поместили в промежуток между индивидуальной и коллективной памятью, особенно в обширной среде эмигрантов. Наконец именно эта другая непонятная ностальгия в своих изначальной фрейдистской и постфрейдисткой версиях так властно взывает к коллективному русскому воображению, побуждая к поискам «родины». Только такой сложный контекст может объяснить, как поздний романтик Рахманинов запутался в ее скользкой сети.
[Закрыть]. В 1980 году это явление все еще не было достаточно изучено, в особенности соотношение двух его аспектов, медицинского и немедицинского: от того, что выдающаяся литература со времен «Одиссеи» Гомера описывает как тоску по дому, стремление к ойкос, дому, как называли его греки, до включения ее симптомов в свои труды военными врачами вроде Хофера на заре Нового времени.
Чем больше я изучал прошлое ностальгии, тем сильнее убеждался в невозможности собрать воедино все ее проявления. Она слишком широко распространилась за века, претерпела слишком много метаморфоз, и все ее мультикультурные традиции: европейские, азиатские, африканские, американские – просто невозможно описать одной моделью. Я пришел к выводу, что только микроистория – частный случай, рассказанный с мельчайшими подробностями, – позволит мне продемонстрировать, как соединяются различные медицинские и немедицинские аспекты ностальгии.
Помню, как все восьмидесятые годы прошли в поисках подходящего персонажа этой микроистории, но каждый предложенный мною кандидат был тут же отвергнут. Первая слишком хорошо известна и ее ностальгию уже много раз описывали, у второго ностальгия не слишком развита или слишком мало биографических данных, третий – нетипичный случай, четвертый – незначительная фигура, которая никого не заинтересует. Исторический случай или эпизод подошел бы под критерий микроистории, но выбрать его оказалось еще труднее, чем исторического персонажа. Как может один случай из чьей-то жизни выразить всю биографию?
Путь ностальгии от того момента, как Хофер впервые ее так назвал, интриговал целый штат медицинских историков, особенно то, как она проявилась среди моряков Нельсона и в годы Гражданской войны в Америке. Но литературоведы конца прошлого века все еще занимались тем, что соотносили ее проявления с разными конкретными эпохами: романтизмом, викторианской литературой, модернизмом, русским кинематографом, Джойсом и Набоковым в изгнании, ностальгическими стихотворениями русского поэта Иосифа Бродского[16]16
«Будущее ностальгии» Светланы Бойм (NewYork: Basic Books, 2001) остается самым полным исследованием истории ностальгии в русской культуре; автор не касается только русской музыки. Любопытно, что Бойм обходит молчанием русского кинорежиссера Андрея Тарковского (1932–1986), чей фильм «Ностальгия» мог бы послужить блестящим примером той тоски по России, которую испытывали проживавшие на чужбине современники Рахманинова. Протагонист фильма, писатель Андрей Горчаков, уезжает в Италию, чтобы изучить биографию русского композитора XVIII века Павла Сосновского и мечтает вернуться в Россию. Однако другой фильм Тарковского, «Андрей Рублев», еще тоньше передает тот тип ностальгии, что испытывал Рахманинов по старой России, через образы икон, церковных колоколов (огромный бронзовый колокол на земле), берез, языческих обрядов в лесу, мальчика, пьющего колодезную воду из кадки матери, изб, запаха смолы, скипидара и льняного масла, разлетающихся в воздухе семян одуванчиков. Сцены «Андрея Рублева» происходят либо на лужайках возле озер, либо в домах, где зрителю видно, как сквозь щели в них заливает дождь.
[Закрыть]. Но ни одна историческая личность не бросалась в глаза как «ностальгическая» до такой степени, что ее переквалификация полностью изменила бы ее восприятие, а если кто и бросался – как Набоков, – то его уже изучили.
Заметки Эвелин, подобно поэтическим каплям дождя, просочились в мое сознание и стали преследовать меня. Конечно же Рахманинов – то, что мне нужно! Осознание этого потрясло меня, не потому что было неожиданным, а потому что у меня ушло на него столько времени. Я спрашивал себя, как я, который с успехом исполнил Второй концерт Рахманинова на выступлении, полученном в награду за победу в конкурсе, который столько читал о композиторах за десятилетия, прошедшие с моего дебютного концерта в Таун-холле в 1958-м, как я раньше не узнал в Рахманинове своего персонажа? Музыка была моей родной областью знаний: музыке я стал учиться задолго до филологии, и уж тем более медицины, – я должен был догадаться, что мне подойдет кто-нибудь из великих композиторов. Вот только кто? Композиторы-романтики овеяны ностальгией и меланхолией: Шопен, Шуберт, Шуман, Брамс – точно так же, как поэты-романтики. «Зачем здесь, рыцарь, бродишь ты, один, угрюм и бледнолиц?» – по выражению Китса[17]17
Из стихотворения La Belle Dame sans Merci, перевод Л. Андрусона. (Прим. переводчика.)
[Закрыть]. Но их биографы уже сказали все, что можно было сказать. Никто не оспаривает ностальгический статус романтиков, и утверждение, что Байрон и Шелли страдали ностальгией, вряд ли было бы новостью в 1990-е годы. К тому же романтическое течение само по себе служило проводником ностальгии, поэтому писать, к примеру, о ностальгирующем Шопене, или ностальгирующем Шумане, или ностальгирующих символистах было бы то же самое, что изобретать колесо.
Переместимся на век вперед, когда появился модернизм – парадоксальная эстетика отречения от прошлого и одновременной тоски по нему – и все изменил. Прокофьев, Стравинский, Шостакович – это если брать только русских композиторов-модернистов – с презрением отвергли ностальгические мотивы в музыке, однако в их произведениях остались яркие следы ностальгии, принявшие вид иронических и пародийных музыкальных форм, которые кажутся какими угодно, только не ностальгическими.
Точно так же и с великой русской пятеркой композиторов, «Могучей кучкой»: Балакиревым, Бородиным, Мусоргским, Римским-Корсаковым и Цезарем Кюи[18]18
К тому же «Могучая кучка» собиралась в Санкт-Петербурге, а Рахманинов ассоциировался с Москвой. Кюи, выражавший их общее мнение, ругал Рахманинова за его романтизм, пережиток ушедшей эпохи, и неодобрительно писал о Втором концерте для фортепиано.
[Закрыть] – их музыка брала начало из других источников и расцветала на ностальгических мотивах, в первую очередь подчеркивая свои русские корни. Чайковский и Скрябин были слишком оригинальны, чтобы отнести их туда же: первый обладал всеми описанными характеристиками, но также и уникальным, по-детски простодушным голосом, а второй, Скрябин, был слишком аллегоричным и мистическим, чтобы подводить его под общую классификацию.
Как же вписывается сюда Рахманинов? Никак: запоздавший романтик, вторичный композитор, неспособной вырваться из всепоглощающего сентиментального шаблона, и один из самых выдающихся пианистов своей эпохи[19]19
Шопен, Шуман и Брамс тоже были пианистами, но не дотягивали до уровня Рахманинова и, в отличие от него, не занимались этим профессионально под руководством американского менеджера Чарльза Фоли. Они были сначала композиторами и уже потом пианистами, которые выступали обычно только для того, чтобы представить миру свои произведения. Если бы Бетховен никогда не писал музыки – абсурдное предположение, – никто не запомнил бы его как величайшего пианиста своего поколения, и то же самое касается Шопена, но Рахманинов, бесспорно, не имел себе равных среди пианистов своей эпохи, за исключением, возможно, Иосифа Гофмана. Если уж сравнивать Рахманинова с величайшими пианистами ушедших эпох, то стоит вспомнить Клару Шуман, а не Роберта.
[Закрыть], что сдерживало его развитие как композитора. Однако разные поколения по-разному соотносили друг с другом композиторов и пианистов. Интерес XXI века к личным взаимоотношениям покойных композиторов кажется пережитком бытовавшего в XIX веке представления о художниках как людях с психологическими отклонениями. Переломные моменты в жизни художника постоянно рискуют остаться незамеченными, когда все внимание поглощено его мелкими неурядицами и серьезными увлечениями, финансовыми и любовными неудачами, проблемами со здоровьем.
Биографы Рахманинова, признавая его тоску по прошлому, уничтоженному сначала революционерами в царской России, а потом, в 1917 году, большевиками, не предлагали деталей. В их сочинениях отсутствует какой-либо контекст: социальный, экономический, политический, даже символический и апокалиптический. Большинство писало так, будто Рахманинов жил в платоновской пещере в отрыве от жизни и культуры, будто он был не из плоти и крови. Однако даже забытая Эвелин, отнюдь не музыковед, знала, что в представлениях о Рахманинове есть нечто мелкое. Ее отождествление себя с ним не поддавалось рациональному объяснению, хотя она разузнала многие факты из его жизни и играла его музыку. Она до такой степени ему сочувствовала, что как будто поселилась в его личности и сделала его своим символическим домом.
До 1990-х у меня было неровное ощущение от Рахманинова. Я чувствовал, что с его общепринятым образом что-то не так, но не мог сформулировать, какие аспекты нуждаются в переоценке. Однако за те годы, что я провел, разбираясь в ее записях, на мои безумные поиски кривой, по которой за прошедший век менялась Ностальгия (с большой буквы «Н») постепенно пролился свет. Кристаллизовались две фигуры: Рахманинов и Эвелин – оба страдали от ностальгии, хотя жили в разное время в разных местах, обоих она уничтожила и вместе с тем наполнила энергией, оба паразитически питались ею, не в силах сбросить ее оковы.
Но у меня заканчивалось терпение. Я получил несколько национальных грантов на исследование и написание «истории ностальгии», однако чувствовал, что и сам нахожусь в оковах, оттого что не могу найти «правильного» персонажа. Я отбросил десятки претендентов, как туфли или брюки в примерочной, однако персонаж, от которого бы исходило идеальное ощущение ностальгии, все никак не появлялся. В 1990-х повсюду были книги о коллективной памяти и травме, но только сочинение гарвардского слависта профессора Светланы Бойм показало мне моего «правильного» персонажа[20]20
См. прим. на с. 135.
[Закрыть]. В своей книге «Будущее ностальгии» она не упоминает о Рахманинове, творце, застрявшем между высоким романтизмом, так называемом Серебряным веком русской культуры конца XIX века, и пришедшим ему на смену в музыке и литературе модернизмом, – отщепенце, ставшем заложником исторических обстоятельств и собственной неспособности двигаться к чему-то новому.
* * *
Я не верил своей удаче, предвидел грядущие трудности. Действительно ли Рахманинов – нужный мне персонаж? Действительно ли Эвелин в те годы, что мы не виделись, была одержима «правильной» (правильной для меня) ностальгической личностью? Но самое главное – связь между историями Эвелин и Рахманинова. Я и тени сомнения не испытывал, что для постижения трагедии Рахманинова мне нужно сначала разобраться в трагедии Эвелин, но согласятся ли со мной другие? Великому биографу не пришлось бы рассказывать об Эвелин Амстер, чтобы убедить читателей в трагичности судьбы Рахманинова.
Такова была суть дилеммы, и она порождала множество вопросов, на которые я не мог ответить. Например, что происходит, когда в связанных между собой историях фигурируют люди одного поколения и когда – разных? Каким образом одна история приводит к глубокому пониманию другой? Эвелин и Рахманинов населяли разные ментальные вселенные; если я смогу удержать эти вселенные в своем сознании как параллельные, повлияет ли это хоть на одну из них? Почему бы не написать две книги? И кому принадлежит эта история? Это история их обоих: и Эвелин, и Рахманинова – и оба они были реально существовавшими людьми; или же, напротив, пусть они и были реально существовавшими людьми, но мое воображение превратило их в вымышленных персонажей. И это не настоящий Рахманинов, писавший музыку, а некая воображаемая психологическая модель.
Поэтому я страдал, мешкал и ничего не писал. Когда мое отчаяние достигло апогея, маятник качнулся в противоположную сторону, и я стал размышлять о том, как мне повезло, что я знаю единственного человека, способного решить мою проблему. «Нет Эвелин – нет Рахманинова», – предупреждал я себя. И даже думал время от времени: «Ну и что, если я не напишу “Плащ Рахманинова”? В мире и так уже полно книг».
Одна идея подавляла остальные – идея постоянного перехода между параллельными вселенными: Эвелин и Рахманинова – двух людей, которые никогда не встречались, оба уже умерли… Что сказали бы они друг другу, замкнутый композитор, захваченный ностальгией по России, и моя подруга, сыну которой судьба сулила стать великим виолончелистом? Философы и историки очень много писали о состоятельности теории параллельных вселенных. Так почему же я должен так беспечно от нее отказываться?
Немногие люди, которых я посвятил в свой замысел, восприняли его с недоумением. «Что это за история», – повторяли они и в довершение спрашивали, того ли самого Рахманинова я имею в виду. Никто не сомневался, что статус голливудской знаменитости автоматически наделял Рахманинова здоровым телом и здоровым духом, но ничто не могло быть дальше от истины. Некоторые знали, что он был очень высоким, другие – что у него были аномально большие кисти рук[21]21
Следствие синдрома Марфана, обычно проявляющегося в длинных конечностях и особенно в больших кистях рук.
[Закрыть]. Кое-кого больше заинтересовала прогерия Ричарда. Они никогда не слышали о такой болезни… «Бедняжка Эвелин, как тяжело ей, наверное, пришлось», – говорили они и просили «сосредоточиться на больном сыне». Годами я слушал их отзывы, гадая, как мне избежать судьбы, которой я больше всего страшился: написать две книги вместо одной (книгу о Рахманинове и книгу об Эвелин) или одну под названием «Плащ Рахманинова» (имея в виду представления Эвелин о его сценическом образе и мою психоаналитическую реконструкцию его ностальгической замкнутости) и потом узнать от критиков, что мне не удалось соединить две части, две параллельные вселенные.
В новой фактологической биографии Рахманинова нужды не было: Сергей Бертенсон выпустил исчерпывающую книгу о жизни великого композитора в 1956 году[22]22
Касательно Бертенсона и других биографов Рахманинова см. прим. на с. 157.
[Закрыть]. Меня привлекали скорее представления о том, какова может быть его новая культурная биография – ее масштаб, границы, ощущения, – биография, которая очертила бы контур господствующей над ним ностальгии и показала, какой урон эта ностальгия нанесла его жизни и творчеству. Если главное в Рахманинове – его музыка, то всем любителям музыки, особенно классической, необходимо уяснить, почему он сочинял именно так, почему величайшие его произведения, за которые мы его любим, все написаны до того, как он покинул Россию в 1917 году, и почему после эмиграции вдохновение его оставило[23]23
Новая биография тем более нужна, поскольку ведущие исследователи русской музыки оставляют Рахманинова «за кадром» и не упоминают о нем даже в историческом контексте, что особенно примечательно в отношении Ричарда Тарускина, таменитого американского музыковеда и преподавателя Калифорнийского университета в Беркли.
[Закрыть].
* * *
Я рассказал об этих трудностях своей подруге Хелен, особенно о проблеме с двумя книгами. Хелен работала журналисткой в Бруклине и писала для ведущих газет; она была немного младше меня, лет сорока пяти, ни с кем не встречалась, получила докторскую по современной литературе в Йеле, читала запоем в те годы, когда для этого еще требовалось часами сидеть в библиотеке, говорила на полдюжине языков, обладала редкой нейропластичностью ума, что позволяло ей проводить связи между чем угодно, – и никогда ничего не писала, кроме своих колонок.
Хелен велела мне сесть на самолет в Лос-Анджелесе и лететь к ней, в ее летний домик.
– Я редактирую, можем поговорить в интервалах. Вот как мне вспоминается та встреча летом 1992 года.
Я закрыл ноутбук, собрал чемоданчик, прилетел в аэропорт Джона Кеннеди, арендовал машину и поехал к уединенному домику Хелен в Катскильских горах.
– Ничего не выходит. Все плохо.
– Почему плохо? – ласково спросила Хелен.
– Слишком высоколобо. Литературные мемуары для избранных ценителей литературы. Издатели не захотят публиковать очередную скучную биографию Рахманинова. Они не заметят разницы, параллельных вселенных. Или посоветуют мне отбросить Рахманинова и рассказать историю одной Эвелин.
– Но Рахманинов – большая рыба, – ответила Хелен. – Если бы это была книга о Моцарте или Бетховене, ее бы с руками оторвали.
Я знал размер рыбы, но заинтересовать массового читателя не так-то просто. Большинство людей, восхищающихся музыкой Рахманинова, не знают о нем ничего, кроме того что он был русским.
Хелен налила мне щедрую порцию джина с тоником. Стояла духота, окна были открыты. Пахло сосновыми шишками. Мы пили в созданном ею зеленом оазисе, глядя на огромные темные сосны.
– Ну, дорогой, в таком случае как еще ты можешь это написать?
– Я не могу представить это в виде двух книг.
Хелен была умудренным опытом автором, она через многое прошла. Хелен не отличалась особой терпеливостью, и жалобы не производили на нее впечатления. Она перешла сразу к сути:
– Почему?
– Потому что это не две книги, а одна: это история женщины, одержимой Рахманиновым, и ее друга Джорджа, который искал для своей книги правильного ностальгического персонажа вроде Рахманинова и никогда не нашел бы, если бы не Эвелин.
– Ох, как все сложно!
– Да, и мне нужно все это выразить в книге. Я должен убедить читателя, что без одной истории не будет и другой.
– То есть это мемуары о тебе самом?
– Нет, не обо мне, но я – ось, связывающая две параллельные вселенные.
Хелен ухватила мою мысль и высказала ее без всяких геометрических сравнений:
– Итак, есть две параллельные вселенные, Эвелин и Рахманинова, а третья вселенная – это твой новый тип жизнеописания?
– Да, можно и так сказать.
Она была озадачена.
– Две вселенные охватывают два разных мира, но разве смысл не в том, что в какой-то точке они сходятся?
Я возразил:
– Но они не одно и то же.
Она скорчила гримасу:
– В любом случае, милый, это очень сложно.
– Моя новая биография Рахманинова не третья параллельная вселенная, а результат моих многолетних поисков.
Хелен тотчас провела связь:
– Да, ты хочешь показать, что он был идеальным ностальгическим романтиком, и потому это твои мемуары – о тебе самом.
– Да, мемуары мои, но ностальгия Рахманинова.
– Тогда что с Эвелин?
– Ты имеешь в виду – с ее душевным складом?
– Ну да, если ты это так называешь.
Намек Хелен на легкую цензуру с моей стороны поставил меня в затруднительное положение. Все эти годы мне было тяжело критиковать Эвелин в свете ее тройной трагедии – как препарировать женщину, которая лишилась единственного ребенка? И тем не менее я попытался.
– На ее душевный склад повлияли бесконечные потери, – обороняясь, ответил я. – Сначала она лишилась карьеры, потом последовали смерть Ричарда и смерть Сэма, и последним ударом стало то, что из=за ее одержимости Рахманиновым люди сочли ее сумасшедшей.







