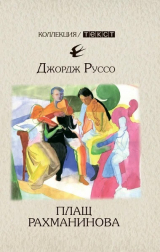
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Этот petit cri[128]128
Слабый вскрик (фр.). (Прим. переводчика.)
[Закрыть] 1906 года – где жить и где писать музыку – мучил его всю взрослую жизнь, если только он не находился в Ивановке. В этой сиюминутной проблеме отражался целый микрокосм большой психологической вселенной, управляемый личностью в зависимости от ее местонахождения относительно родины. «Где писать музыку?» – вопрос исключительной важности, ибо именно это, по его мнению, определяло, сможет ли он писать. Влияние воображаемой Судьбы имело не менее значительные последствия, чем ипохондрия и скрытность. Он любил некоторых крестьян в Онеге и Ивановке (второй усадьбой владела его жена, но он любил ее даже больше, чем Онег, или, по крайней мере, был сильнее привязан к ней физически) и включил их представления о благочестии в свою одержимость колоколами, временами года и судными днями.
Рассматривая его преклонение перед Судьбой в наши дни, мы понимаем, что оно было неподдельным, особенно потому, что в идее Судьбы первостепенное значение имела ее «русскость». Ибо, эмигрировав в Америку, он так и не отказался от идеи Судьбы, молился в Калифорнии русским богам, почитал русских духов места и даже окружил свою кровать – символическую зону благополучия – иконами святого Сергия. И умер как искренне верующий, под знаком его покровительства.
Будет ли слишком большим оскорблением его памяти предположить, что даже эта версия Судьбы была кичем? Иногда в его действиях прослеживаются черты кича, особенно в его повседневных страхах и фетишизации русских вещей и предметов. Почему он не придерживался более практического взгляда на композиторское искусство и не задумывался о том, какие произведения пройдут проверку временем? Каким он запомнится? Столь мало достижений у столь огромного таланта. И столь упрямое нежелание – как он сам признавал в течение жизни – меняться, двигаться вперед, вносить нечто новое в свою музыку. Будем честны, будем жестки: если убрать кич, останется ли от позднего Рахманинова что-то, что можно было бы поставить в один ряд с Бетховеном и Брамсом?
Но мы не должны забывать о полном наследии Рахманинова. Не все, что он создал, было кичем. Многое, но не все. Как писал музыкальный критик Дэмиен Томсон, «…его риторика скрывает идеи, смущающие своей оригинальностью, представленные с помощью темных красок, резкого ритма и странной текстуры, которая не становится ближе для понимания с каждым новым прослушиванием»[129]129
Дэмиен Томпсон, отзыв на биографию Рахманинова Майкла Скотта в The Telegraph, 2 августа 2008 г.
[Закрыть].
Эти несочетаемые голоса появляются и снова исчезают. Оригинальный Рахманинов, тоскующий Рахманинов, Рахманинов, пишущий кич. Композитор, который удивляет, который трогает, который неспособен сотворить нечто новое. Ностальгия – самый надежный ключ к его тайному сундучку, к его душевному складу. Пожалуйста, поверните ключ вправо.
Снится ли Рахманинову Россия в его гробнице в Вальгалле? Ему удалось посмеяться последним. Он вовсе не умер. Ему не нужно так обреченно бояться островов смерти и их мрачных обитателей в белом, приглядывающих за гробами. Даже здесь, среди трупов, он живет. Его концерты в исполнении величайших современных пианистов до сих собирают самые большие и престижные концертные залы по всему миру. Эти произведения не умрут и не исчезнут, в отличие от произведений Метнера или Николая Рубинштейна, хотя вечно завистливый Метнер и сказал когда-то язвительно, что Рахманинов ради могучего доллара принес себя в жертву западной индустрии развлечений. Если число почитателей хоть о чем-то говорит, если в vox populi еще осталась мудрость, Рахманинова будут помнить до тех пор, пока люди не перестанут играть классическую музыку.
Даже это ностальгическое жизнеописание вносит свой вклад в поддержание памяти о нем.
Часть III
Рахманинов глазами Эвелин
Рахманинов был мертв и лежал в могиле, но что стало с Эвелин – той Эвелин, которая уже не могла больше отделить себя от памяти о нем?
Когда брак затрещал по швам и Эвелин с Сэмом стали чужими друг другу, «увлечение Рахманиновым», как она это называла, никуда не делось. Ни дня не проходило, чтобы она не думала о композиторе-пианисте. Он был единственным, что неизменно связывалось в ее сознании с «той жизнью», ее прошлыми годами (как она их называла), полными «всевозможных злоключений». Она погружалась в мечты наяву, вспоминала, как играла его произведения, даже тот ужасный день в Таун-холле, представляла себе его жизнь, разделенную на Америку и Россию, и думала о том, что должна прочитать о нем что-нибудь.
Однажды Сэм рано вернулся с работы, около двух часов пополудни, и застал ее, когда она упражнялась Второй сонатой Рахманинова – тем самым произведением, которое она должна была играть на дебютном концерте. Утром она приняла ванну, вымыла голову, надушилась и надела то красное бархатное платье, которое было на ней в Таун-холле.
Сэм поставил машину в гараж, зашел через заднюю дверь, как обычно, и, заслышав шум, прошел в гостиную, где застыл, потрясенно уставившись на нее. Он никогда раньше не видел, чтобы она надевала «символическое платье», попавшее в опалу после неудавшегося дебюта, и так помпезно играла Рахманинова, словно находилась на концертной сцене.
Он смотрел на нее, пока она продолжала играть. Потом Эвелин остановилась, подняла руки, поправила складки красного платья и посмотрела на него искоса, не вставая с сиденья.
Муж с женой окаменели, словно случилось некое большое разоблачение. Потом, после нескольких долгих мгновений, Сэм молча развернулся, вышел, сел в машину и уехал. Эвелин понятия не имела куда, однако это событие ознаменовало новую фазу в их взаимоотношениях. Отныне они были людьми, которые жили под одной крышей, но едва разговаривали друг с другом.
Сэм вернулся через несколько часов и перебрался в комнату Ричарда. Эвелин не знала, разозлился ли он. Потому ли, что она изображала, будто репетирует в сценическом наряде, или из-за ее жестов? Он впервые видел жену в такой позе: день возвращал ей энергию, но вечером она опять погружалась в депрессию.
После этого их отношения совсем развалились. Сэм постепенно перестал с ней общаться, потом начал встречаться с другими женщинами. Они звонили и просили передать ему сообщение (знают ли они, что Сэм женат, гадала Эвелин).
Три месяца спустя Сэм собрал чемодан, сам сделал себе завтрак, после чего вышел из дома. Его не было всю ночь, на следующий день Эвелин несколько раз позвонила ему на работу. Секретарша каждый раз отвечала, что Сэм вышел, но он так и не перезвонил.
– Сэм сегодня пришел на работу? – вежливо спрашивала Эвелин секретаршу. – Это его жена.
Все время находилась какая-нибудь отговорка: он обедает, он с клиентом, он перезвонит позже, но он не перезванивал. Эвелин решила, что он все-таки там, а не под колесами грузовика, и не стала обращаться в полицию. Две недели спустя пришло письмо от адвоката с требованием по всем вопросам, касающимся дома и банковских счетов, связываться с его клиентом Сэмом Амстером только через него.
Сэм так и не вернулся. Его адвокат два-три раза в неделю слал Эвелин сообщения по поводу счетов в банке и дивидендов с акций, и один раз она получила от него длинное письмо, объяснявшее, что его клиент не хочет развода, ему просто нужно время побыть наедине с собой.
Эвелин испытала облегчение. Ей тоже нужно было время, чтобы побыть в одиночестве, поупражняться на фортепиано и просто посидеть, глядя в пространство и размышляя о том, что значил «акт исчезновения» Ричарда. Это был ее новый эвфемизм для смерти. Как Ричард может сегодня быть здесь, жить в их доме на Дартмут-стрит, а на следующий день исчезнуть? Что есть жизнь, если из нее так просто выселиться?
А потом Эвелин переменилась. С маниакальным рвением вернулась к фортепиано, стала играть по нескольку часов в день, систематически нарабатывая технику, часами упражняясь в попытке преодолеть те техническое трудности, с которыми она столкнулась в дни учебы у Адели. Ее рука была слабее, чем в двадцать лет, но она медленно возвращала себе мастерство, необходимое, чтобы сыграть те произведения, которые она запланировала на дебютный концерт: Листа, Шопена, Рахманинова. Если Сэм вернется, она примет его обратно, а ежели нет, учительство поможет ей скоротать время и предоставит ей источник дохода, благодаря которому она сможет ходить на концерты в Манхэттене.
Несколько месяцев спустя Эвелин узнала, что у Сэма новая женщина двадцати четырех лет, туристический агент; она недавно вернулась в Куинс после работы в зарубежном офисе. Об этой женщине ей рассказала пожилая дама, ходившая в тот же салон красоты. Эвелин познакомилась с пассией Сэма несколько лет назад, во время болезни Ричарда, и та ее пожалела. Когда Эвелин рассказала ей, что Сэм от нее ушел, она разрыдалась.
Судя по всему, Сэм обратился в агентство знакомств и успел сходить на свидания с несколькими женщинами, пока наконец не сошелся с Джойс, которая была полной его противоположностью: быстрая, активная, уверенная в своих силах и умеющая добиваться своего. Ей нужен был состоявшийся мужчина постарше, лет сорока.
По словам приятельницы из салона красоты, они жили в квартире в Восточном Элмхерсте, недалеко от Сити, чтобы Сэму удобно было ездить в офис. Джойс тоже не стала бросать работу, их видели – сказала подруга – в ночном клубе в Бруклине, на другой стороне Вильямсбургского моста.
Эвелин испытала облегчение, узнав, что о Сэме есть кому позаботиться. За время болезни Ричарда он стал совсем беспомощным, а смерть сына словно вернула его в младенческое состояние. Но на этом сочувствие Эвелин заканчивалось. Ей было достаточно знать, что Сэм не попал в беду и не собирается покончить с собой.
Ее поиски хороших учеников, желающих обучиться игре на фортепиано, принесли желаемый результат. Одни советовали ее другим, и через полгода она уже набрала достаточно учеников разного уровня, чтобы заполнить день. Игра на фортепиано и уроки дали ей дело, хотя и не могли заглушить боль утраты. Она нутром чуяла, что грядет что-то еще…
Примерно через год адвокат Сэма прислал письмо, извещавшее, что у его клиента рак желудка и он изъявляет свои пожелания относительно похорон. Сэм составил новое завещания, по которому все отходило Эвелин, и умолял ее похоронить его рядом с Ричардом. Он хотел ортодоксальные иудейские похороны с раввином.
Она отправила вежливый ответ и спросила о его состоянии – завязалась переписка, из которой стало ясно, что Сэму недолго осталось. Рак проявился поздно, на той стадии, когда мало уже что можно сделать, перешел на кости и лимфоузлы и был неоперабельным.
Еще Эвелин написала, что навестит его дома или в больнице, если он пожелает. Произошедшее с ним несчастье казалось не карой судьбы за супружескую измену, а несправедливостью, постигшей порядочного человека, которому еще не было пятидесяти. Сэм был заботливым мужем и отцом, горячо любил Ричарда и был вне себя от горя, когда выяснилось, что у сына прогерия; его неожиданный уход из дома и внебрачные связи были следствием скорее отчаяния и запутанности, чем отказа от семьи. Чем дольше Эвелин размышляла об этом, тем сильнее жалела Сэма: всего четыре года назад у него умер сын, а теперь смерть пришла за ним самим.
За месяц до его смерти с ней связалась медсестра из больницы в Куинсе, а не адвокат. Эвелин приехала в такую знакомую ей клинику и нашла Сэма тремя этажами ниже палаты Ричарда. У него изо рта торчали трубки – говорить он не мог. Она взяла его за руку. Это была печальная сцена: страдая от боли, он то и дело ронял слезы и пытался сказать, как любил жену с сыном – самое важное, что было у него в жизни.
Тогда она видела Сэма в последний раз, но этот визит оживил в ее памяти смерть сына. Она организовала похороны, все еще чувствуя боль от лаконичного сообщения больничной администрации о смерти Ричарда, и похоронила их рядом на еврейском кладбище в Форест-Хиллс. Ричард умер в ноябре, Сэм – в апреле. Было еще холодно, и она надела то же черное платье с тем же поясом. После похорон с ней домой вернулись двое его родственников и несколько партнеров по работе. Они принесли цветы и шоколад, посидели с ней несколько часов, оплакали утрату «молодого» человека и ушли.
Неожиданно она поняла, что рада окончательной пустоте в доме на Дартмут-стрит, озаренной светом дня, как обезоруживающе хмурое лицо Ричарда в ее воспоминаниях, когда он наконец вылез у нее из живота. Смерть Сэма пробудила воспоминания о его ухаживаниях, свадьбе и счастливых месяцах после рождения Ричарда. Но Эвелин тогда была другим человеком, талантливой девочкой, влюбленной в фортепиано, которая на дебютном концерте поддалась панике, и папиной дочкой, не получившей никакого серьезного образования, кроме музыкального. Болезнь Ричарда преобразила ее, впервые в жизни сделав исследователем: она прочесывала библиотеки в поисках информации о редкой болезни сына и заодно стала читать книги и журналы, чтобы повысить уровень эрудиции. Сэм никогда ничего не читал, только смотрел телевизор.
Конечно, она не радовалась его смерти, но они разошлись три года назад и даже раньше, когда был еще жив Ричард, стали настолько чужими друг другу, что их брак превратился в привычный ритуал. К тому же ей приходилось справляться с собственными демонами. Ее возлюбленным снова стало фортепиано, и она мечтала вернуться к нему в озаренной пустоте дома на Дартмут-стрит. Воспоминания о Ричарде преследовали ее, и все чаще и чаще к ним присоединялась тень Рахманинова, по каким причинам – она и пыталась узнать, как написала в своем дневнике.
* * *
Я был потрясен, когда Эвелин рассказала обо всем этом во время наших телефонных разговоров. Подумать только: стерта целая глава моего прошлого, разбито зеркало моего идеализированного детства! Ричард мертв, Сэм тоже, их величественный дом с сияющим концертным роялем опустел, и только великодушная Эвелин живет там одна, чувствуя себя покинутой. Я подумал: поверили бы другие люди в странную историю ее жизни или она слишком невероятна? По ее словам, теперь у нее было больше времени на «увлечение Р.» и она все больше убеждалась, что Адель была права, но если бы она согласилась на более легкую программу, говорила мне Эвелин, ее карьера все равно не сложилась бы. Она придерживалась не слишком высокого мнения об объяснениях психологического плана и уж точно не верила в подсознательные причины своей паники. Ее пальцы открыли ей правду.
Эвелин всегда верила, что «увлечение Р.» зародилось бы, даже если бы дебют прошел успешно. Меня заинтриговала одна фраза в дневнике за 1963 год: «Мое фиаско было чудом, предначертанным судьбой, и теперь меня переполняет энергией моя новая решимость узнать, кем на самом деле был Р.». Я не мог вообразить, чтобы сам когда-либо написал такую фразу. Ей было всего сорок пять.
Она верила, что ее преследует призрак «Р.», величайшего пианиста XX века, извлекавшего из инструмента звуки, которые никто другой не мог извлечь. Ее «увлечение Р.» не ограничивалось его техникой и игрой на фортепиано в целом, она хотела понять человека, всю свою жизнь посвятившего поискам «дома». Не потому, что он был кочевником, или изгоем, или одержимым смертью и стремящимся попасть в Вальгаллу, – нет, он искал географический дом, способный заменить Россию. Эвелин была далека от академического мира, однако она почти представляла ницшеанскую борьбу его души, ищущей постоянного пристанища в своем паломничестве, которому она не смогла бы дать имя.
Однажды, во время телефонного разговора, я спросил ее, откуда она черпает информацию.
– Какие книги вы читаете?
– Да практически никакие, – ответила она. – Так, статьи в газетах, концертные программки, то-се.
Однако я знал, что она пристрастилась к библиотекам, с тех пор как заболел Ричард. Откуда-то она брала информацию.
Эвелин все повторяла, даже в письмах, что теперь Ричард и Сэм оба мертвы, она наконец-то свободна и может разгадать, кем же на самом деле был Рахманинов, даже если для этого ей придется последовать за его памятью на край земли. Однажды она даже ошарашила меня словами: «Это стоит большего, чем успешная карьера».
Эвелин стремилась создать новую себя, что нелегко для сорокапятилетней вдовы, пережившей многочисленные травмы. Она перекрасила дом в разные цвета и сменила обои. Купила новую машину. Уроки отвлекали ее, но не могли заменить Сэма и Ричарда. Она гуляла с маниакальной частотой, по пять-шесть раз в день, ковырялась в саду, ходила за продуктами, готовила для трех подруг, которые навещали ее в Куинсе, и еще она читала взахлеб. Читала с карандашом в руке, обводя заинтересовавшие ее пассажи, делая заметки, оставляя на страницах жвачку и щедро проливая на них кофе, как видно по ее дневникам.
Однажды она подчеркнула в журнале предложение, утверждавшее, что «браки заключаются в подсознании». Эти четыре слова жужжали у нее в голове, словно неутомимая муха. То, что автор не ссылается на источник, ее не смутило; идея показалась ей интересной, и она стала размышлять над тем, что же автор имеет в виду. Значит ли это, что любое влечение предопределено, раз основано на подсознательных факторах, о которых никому ничего не известно?
Идея поистине захватила ее, и она стала подходить к ней философски, рассматривая как ключевую причину браков всех своих знакомых. Вита вышла замуж за Барри, потому что их подсознание… Бренда вышла замуж за Джерри, потому что их подсознание… точно так же ее родители и родители друзей. И только Сэм не подходил, почему же она вышла за Сэма?
Она стала одержима своим подсознанием, постоянно обращалась к нему с вопросами и никогда больше не позволила себе беспечно влипнуть в очередной брак. Если бы только она понимала свое подсознание раньше, сказала она мне однажды, ее ждал бы иной брак, не такой пустой, как с Сэмом. Одна идея переходила в другую, пока все они не отвергались. Ее преследовало и собственное прошлое. Как-то раз она прочитала в «Нью-Йорк тайме» некролог Бенно Моисеевича, великого еврейского пианиста, рожденного на Украине, но получившего британское подданство, и вырезала его, гадая, как сложилась бы ее жизнь, не поддайся она панике тогда в Таун-холле. Адель Маркус обожала Шопена в исполнении Моисеевича и водила своих студентов на его концерт незадолго до не-состоявшегося дебюта Эвелин в 1939 году.
Она воспринимала все эти дразнящие идеи как погружение в интеллектуальность, удовольствие, столь же насыщающее, как еда и напитки. Несколько лет спустя она увлеклась драматургом Эдвардом Олби, обладателем Пулитцеровской премии, и его пьесой «Неустойчивое равновесие». Тремя годами ранее, в 1963-м, она сходила с друзьями на бродвей-скую постановку другой пьесы Олби – «Кто боится Вирджинии Вулф?» и совершенно влюбилась. Позже она прочитала, что пьеса собрала все награды за лучшую драму. Она следила за ее номинацией на Пулитцеровскую премию в категории «драма» и пришла в ужас, когда Консультативный совет, состоящий из представителей Колумбийского университета, исключил пьесу на основании «богохульства и омерзительных сексуальных тем». Эвелин отправила в несколько газет письмо с возражениями, но его не напечатали, что еще усилило ее гнев. Потихоньку у нее формировались независимые идеи.
Ей казалось, что ее интерес к «Неустойчивому равновесию» проникает в суть вопроса, почему люди никак не могут достичь счастья. Тем октябрем 1966 года она смотрела постановку пьесы в театре Мартина Бека на Бродвее и пришла в такое воодушевление, что сделала себе рождественский подарок – место в первом ряду на декабрьском показе. «Актерская игра была великолепна, – гласит ее дневник, – и Джессика Тэнди потрясающе справилась с ролью Агнес». Она стала одержима главными героями, Эдной и Гарри. Она бесконечно повторяла про себя сюжет и в конце концов записала его в дневнике своими словами. Из ее записей я собрал вот такой синопсис:
Эдна и Гарри приезжают к лучшим друзьями – Агнес и Тобиасу – с чемоданами. Их напугало нечто непонятное (что?) и они слишком боятся возвращаться домой. Просят разрешения переехать к своим лучшим друзьям. Тобиас радушно принимает их и селит в комнату своей дочери Джулии, где они прячутся большую часть пьесы. Гарри, старейший из живых друзей Тобиаса, говорит, что после десятилетий дружбы у него есть право переехать к нему в дом. Дочь Джулия тоже возвращается домой, только что бросив четвертого мужа. Каждый раз, когда Джулия разводится, она возвращается к родителям, однако на сей раз ее комнату захватили Эдна с Гарри, и она закатывает истерику. Требует, чтобы они уехали, заявляя, что у нее нет никаких обязательств перед ними. В конце концов они собирают вещи, но не раньше, чем устраивают сцену в присутствии всей семьи. Гарри снова объясняет, почему они пришли: им было страшно дома. В третьем акте Тобиас с Гарри разговаривают тет-а-тет, и Тобиас повторяет, что у супругов есть право остаться. Он добавляет, что присматривать за Гарри – его обязанность, то есть дружба есть ответственность за друга. Жена Тобиаса Агнес спрашивает супругов, приютили бы они их, Агнес с Тобиасом, если бы они поменялись местами. К потрясению хозяев, Эдна отвечает: «Нет». Разрыв приводит к тому, что обе пары теряют нечто жизненно важное – «неустойчивое равновесие». Но в чем оно заключается? В центре утраты, бесспорно, идея дома. Даже дружба, составляющая суть философского конфликта пьесы, рассматривается через дом: одна пара покидает свой дом, чтобы переселиться в дом лучших друзей. Их действия предполагают, что источник страха находился в их собственном доме. Может быть, они находились в пустом доме одни?
Таков был странный синопсис, составленный Эвелин, и она приписала, что, возможно, все неправильно поняла, поэтому внимательно следила за теми моментами, где употребляется слово «право», особенно во время просмотра в декабре. После она стала внимательнее читать все газеты в надежде, что отзывы ответят на ее вопрос, но так ничего не нашла. Не было никаких оснований исключить «Неустойчивое равновесие»: ни нецензурной брани, ни изобилия сексуальных тем – и Эвелин возрадовалась, когда прочитала, что Олби получил Пулитцировскую премию.
Потом, читая «В поисках утраченного времени» Пруста, она наткнулась на одну фразу, которая тоже захватила ее внимание. Это был эпизод, где Сван проводит параллели между всем и вся: мужским и женским, любовью и смертью, микрокосмом и макрокосмом, – и его мысли перекликались с ее идеей подсознательного.
«Она?» – спрашивал он себя, желая понять, что это такое; ибо тайна личности, твердят постоянно, есть нечто больше похожее на любовь и на смерть, чем на наши расплывчатые представления о болезнях, – нечто такое, что мы должны исследовать очень глубоко из страха, как бы сущность не ускользнула от нас[130]130
Марсель Пруст. «В поисках утраченного времени», перевод А. Франковского. (Прим. переводчика.)
[Закрыть].
* * *
Эвелин держалась четыре года со смерти Сэма, слета 1963-го до 1967-го. Потом, 23 ноября 1967 года, наступила десятая годовщина смерти Ричарда, которую она встретила одна в доме на Дартмут-стрит. Была среда, канун Дня благодарения, когда вся Америка закрывается и ее граждане спешат из своих офисов домой, к семьям.
На новой машине она доехала по Куинс-бульвару до Сто шестьдесят четвертой улицы, остановилась на парковке больницы, дошла по тротуару до окна в палату Ричарда и стала разглядывать то самое место, куда он упал… бросился? Она стонала до тех пор, пока из окна на четвертом этаже не выглянул какой-то больной старичок, с жалостью на нее посмотревший; после этого она сбежала.
Еще она рассказала мне, что летом 1967 года купила новую толстую биографию Рахманинова, написанную Сергеем Бертенсоном в 1956 году. Она медленно читала ее три месяца, делая отметки на полях в своей новоприобретенной манере. Некоторые факты стали для нее открытием, сказала она, но трактовка показалась неубедительной.
«Он не чувствует пульса композитора, – писала она мне возбужденно, – и не понимает, что для него было самым важным». О чем бы я ни говорил с ней той осенью по телефону, она все время переводила разговор на Бертенсона. Стала одержима его сочинением в пятьсот страниц.
Я рассказал ей то немногое, что мне было известно о Бертенсоне: он жил в России и знал Рахманинова, долгое время изучал российские архивы, потом переехал в Америку, подружился с семьей Рахманинова, особенно с сестрами Натальей и Софьей, и умер в Лос-Анджелесе всего несколько лет назад, в 1962-м, уже увидев свою книгу изданной.
Эвелин до сих пор жила в одиночестве на Дартмут-стрит. Она легко могла бы узнать больше о «настоящем Рахманинове», если бы только заглянула в квартиру 96 дома 170 на Западной Семьдесят тртьей улице в Манхэттене, где в то время жила двоюродная сестра, она же свояченица Рахманинова Софья Сатина, но Эвелин было невдомек. Софья уже приближалась к девяностолетнему возрасту, она так и не вышла замуж и могла считаться экспертом в вопросах биографии кузена.
В 1917 году, когда Рахманиновы бежали из России, она осталась в Москве, преподавала ботанику на Московских высших женских курсах, потом получила такое же место в Дрездене, но в конце 1920-х, истосковавшись по сестре Наталье и Рахманинову, пересекла океан и получила высокую исследовательскую должность в знаменитом научном центре Колд Спринг Харбор на Лонг-Айленде. Здесь она оставалась до Второй мировой, а потом, вскоре после того как Рахманиновы поселились в Калифорнии, переехала в Нортгемптон, штат Массачусетс, где устроилась в лабораторию генетических экспериментов колледжа Смит.
В Нортгемптоне Софья собрала самые важные воспоминания о Рахманинове тех, кто знал композитора, и после его смерти в 1943 году частным образом издала книгу, так и называвшуюся: «Воспоминания о Рахманинове», – к которой потом добавилась недавно открытая Эвелин биография Бертенсона. Здесь Софья оставалась до 1966 года, а потом энергичная восьмидесятисемилетняя старушка переехала на Западную Семьдесят третью улицу, где написала сохранившееся письмо (о Рахманинове и Эдионе) мужу американской пианистки, который интересовался, можно ли услышать где-нибудь голос великого пианиста Рахманинова. Она ответила что Эдисон пытался записать его голос примерно в 1920 году. Софья могла бы многое порассказать Эвелин, вот только Эвелин не знала, что она до сих пор жива. В биографии Бертенсона ни слова не говорится о жизни Сатиной после смерти Рахманинова – женщина, игравшая в истории композитора центральную роль, не удостоена внимания в книге Бертенсона[131]131
Сейчас легко укорять Эвелин в том, что она не провела полноценных поисков Софьи Сатиной, однако в 1966 году связь сводилась к обычной почте, крайне медленной и требовавшей терпения улитки. В биографии Бертенсона не содержалось ни намека на то, что Софья до сих пор жива, и уж тем более подсказок где ее можно найти. К тому же Эвелин, несмотря на свою тонкую интуицию, не была исследовательницей. Она прочесывала библиотеки, читая все, что находила, однако ее подход был довольно беспорядочным. Она с головой погружалась в тему, которая ее захватывала, как пьеса Олби, а потом переходила к следующей одержимости. После смерти Ричарда только Рахманинов оставался ее главной страстью, от начала и до самого конца.
[Закрыть].
В 1968 году Эвелин написала воображаемый ответ Бертенсону в своем дневнике:
Повезло вам, Рахманинов, что вы не пережили войну и не увидели пятидесятые. В противном случае судьба уготовила бы вам новые горести, ничуть не слабее тех, что принесли большевики, суицидальные зятья и неугасимая ностальгия. Ваши письма в Россию, особенно то возмутительное, которое было опубликовано в «Нью-Йорк тайме» 15 января 1931 года и в котором вы критикуете российское образование, могли навлечь на вас подозрения в том, что вы русский шпион. Ничего из того, что вы могли бы сказать в свою защиту во время «холодной войны», не развеяло бы этих подозрений. Если бы вы застали эру Маккарти – когда Бертенсон наносил последние штрихи на вашу биографию, а Софья Сатина следила за каждым его движением из Нортгемптона, Массачусетс, – вас могли бы допрашивать по обвинению в антиамериканских действиях. Шумиха подорвала бы ваше здоровье и здоровье вашей жены Натальи, отправив вас в могилу так же быстро, как злокачественная опухоль.
Верно подмечено, подумал я: Маккарти точно взялся бы за Рахманинова. Но почему Эвелин даже в голову не приходило, что Софья Сатина до сих пор жива? Его письмо в «Нью-Йорк тайме», которое она прочитала на странице 271 книги Бертенсона, привело к тому, что в России запретили играть его музыку – запрет, сохранявшийся на протяжении всей его жизни. Помню, как, сидя над дневниками Эвелин, я был поражен тем, сколько всего она читала и помнила. Тем летом 1968-го я переводился из Гарварда в Колумбийский университет и забыл спросить, почему она не подумала про Софью.
Я поселился в Лос-Анджелесе в начале лета и позвонил Эвелин в Куинс: она сказала, что тоже переезжает на Запад! В Нью-Йорке ее больше ничто не удерживало. Михаэла с Чезаром умерли. Все ее близкие люди были мертвы. Ее речь была путаной. Понимает ли она меня?
Мы проговорили, должно быть, целый час. Она сказала, что переезжает в Беверли-Хиллз в поисках зацепок, которые не смог найти Бертенсон, – теперь он уже не мог сделать это, он умер. Она продала дом со всем его содержимым, включая большой рояль, и взяла билет на поезд. Купит себе маленькое пианино, когда обживется, и возьмет всего два чемодана, один – полностью заполненный книгами и записями, среди которых был и ее экземпляр Бертенсона, весь в пометках. Она все сравнивала предстоящую поездку на поезде с путешествием Рахманинова из Санкт-Петербурга. Не мог бы я встретить ее на вокзале Юнион-Стейшн и отвезти на такси в отель «Беверли-Уилшир» на бульваре Санта-Моника, потому что он находится так близко от места, где умер Рахманинов?
Она пожила там несколько недель, пока не нашла относительно недорогую квартиру на Венис-бич. Помню, что мало виделся с ней в последующие недели. Семестр был в самом разгаре, нужно было сидеть в комиссиях, ставить оценки на экзаменах, и город еще не оправился от потрясения после убийства Роберта Кеннеди-младшего 5 июня.
Но мы говорили по телефону. Эвелин утверждала, что бросила прежнюю жизнь, потому что хотела понять, что лежало в основе меланхолии Рахманинова (по ее выражению), и через его горе понять свое собственное. Если он мог пересечь океан в те годы, когда еще не было самолетов, то и она сможет пересечь страну. Еще она назвала себя эмигранткой – пожизненной эмигранткой, потерявшей столь важную для нее концертную карьеру, сына, мужа и, наконец, родной Нью-Йорк.
Ее голос в трубке теперь звучал спокойнее, она говорила яснее и казалась даже слишком трезвомыслящей, словно ее пассивная разумность была результатом какого-то дурмана. Я сказал ей, что летом уезжаю проводить исследования в Лондоне и вернусь в конце сентября. Она отправила мне несколько коротких писем, в которых не было никаких откровений: она обживается на новом месте и чувствует, что поступила правильно.
Когда я вернулся в Колумбийский университет, она стала менее предсказуемой: одну неделю вела себя спокойно, вторую – маниакально. Начался семестр, и я знал, что не смогу проводить с ней много времени. Я всего лишь первый год преподавал в Колумбийском университете и не слишком хорошо справлялся. В душе я оставался жителем Восточного побережья, неспособным, в отличие от Эвелин, легко переключиться. Я чувствовал, что, возможно, мне даже придется уйти, однако этого не случилось.







