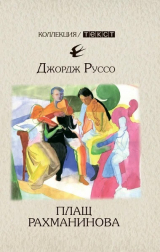
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Я не мог убедить Эвелин в несостоятельности ее представлений о достатке Абрамсов тех лет, когда Америка изнемогала от Великой депрессии. Вместо этого я обращался к ее воспоминаниям об Адели: «Каково было у нее учиться? Придерживалась ли она баланса между техникой и чувством музыки? Поощряла ли она вас играть так много Рахманинова?»
На одном занятии, по рассказам Эвелин, Адель объяснила, что дебютный концерт – это презентация молодого пианиста музыкальному миру, в особенности критикам. Твоя одежда должна быть элегантной, ты должна выглядеть столь же пленительно и двигаться столь же грациозно, как очаровательные дебютантки, которые впервые выходят в свет на Парк-авеню. Волосы должны быть идеально уложены, тщательно подобранные украшения – подчеркивать достоинства внешности. Туфли очень важны, поскольку зрители смотрят, как ты нажимаешь на педаль. Все взгляды устремлены на тебя, от таких дебютов зависит будущая карьера, поэтому платье и макияж нужно выбирать так же придирчиво, как репертуар. Действительно ли Адель в это верила?
Адель еще не стала самым известным преподавателем игры на фортепиано в Америке, и среди ее учеников еще не было той плеяды знаменитых пианистов, которых она будет учить после войны: Байрона Джайниса, Вана Клиберна, Стивена Хафа, Гаррика Олссона и других. Она рассказала Эвелин свою историю: младшая из тринадцати детей раввина, эмигрировавшего из России и так и не заговорившего по-английски, она училась у Иосифа Левина в 1930 годах и совсем недавно у Артура Шнабеля в Джульярдской школе; по ее словам, они были очень требовательными учителями. Левин учился в Московской консерватории в одном классе с Рахманиновым и Скрябиным, а Шнабель бежал из Германии в Америку от нацистов.
Для юной Эвелин эти пятничные уроки мушки и истории были непрерывной серией эпических событий, о которых она рассказывала Мишле, а та коротко пересказывала сияющему Чезару.
– Они все евреи, Эвелин! – восклицала Михаила, вздымая мизинец к небесам, как будто Господь их слушал.
– Да, мама, но Рахманинов со Скрябиным не были евреями!
– Но ты еврейка, поэтому она тебя и взяла. Ты из ее народа, – отвечала Михаэла, упирая на слово «народ».
– Она взяла меня, потому что у меня есть талант!
Михаэла не слушала, она всплескивала руками:
– Представь, каково будет оказаться в компании таких знаменитых евреев.
Побежденная Эвелин отвечала, что «отец Адели был раввином».
– Кантором? Тогда, наверное, она выросла с музыкой.
– Она строга, но хороший учитель.
Тем временем бывший портной-отступник Чезар, ныне процветающий меховщик с подающей надежды дочерью-пианисткой, мечтал кое о чем ином – о бальном платье. С тех пор как он впервые услышал, что Эвелин для концерта нужно бальное платье, оно поселилось в его воображении. Предстоящий концерт наполнял его большей гордостью, чем если бы это была свадьба, – замуж может выйти кто угодно, но вы только подумайте, он приехал из Барлата почти без гроша в кармане, а теперь будет представлять свою талантливую красавицу дочь, Эвелин Абрамс, всему миру.
Где? В Таун-холле на Сорок третьей улице Манхэттена. Адель и сама недавно выступала там с концертом, одним из многих ее нью-йоркских концертов. В зале были мягкие красные сиденья и большая сцена с огромным роялем «Стейнвей». Два часа Эвелин будет сидеть там одна-одинешенька, представлял Че-зар, и все взгляды будут прикованы к его дочери.
С приближением большого дня Эвелин нервничала все сильнее. Родители отвечали за платье и гардероб – туфли, духи, драгоценности, – тогда как дотошная Адель сосредоточилась на подборке репертуара. Однако вмешался непредвиденный источник конфликта – Сергей Рахманинов.
Как уже отмечалось, Адель с Эвелин не могли договориться по поводу концертной программы. Адель внушала Эвелин, что ее необходимо спланировать с величайшим тщанием, не более семидесяти минут в сумме на два отделения. Избранный репертуар должен продемонстрировать сильные стороны молодой исполнительницы, а также широкий спектр музыки, которую она способна играть.
Концерт, целиком посвященный Бетховену, подойдет для ветеранов, говорила Адель, но не для дебютантки. Эвелин должна начать с короткого классического произведения на разогрев, например, Баха или Скарлатти, потом сыграть сонату Бетховена, чтобы показать способность справиться с большими музыкальными формами, после перерыва продемонстрировать виртуозное владение техникой, возможно, с помощью Шопена, Шумана или Листа, и закончить игрой на бис.
По мнению Адели, для завершающего произведения неплохо подошел бы Прокофьев: он был тогда в моде. Многие дебютанты играли его блестящую токкату, чтобы закончить концерт на бравурной ноте, но Эвелин хотела закончить Рахманиновым, ее любимым композитором. На самом деле она хотела все второе отделение посвятить Рахманинову, особенно его прелюдиям, и закончить Прелюдией до-диез минор, «самым знаменитым фортепианным произведением в мире», как называл ее Чезар.
Адель была потрясена, когда услышала, что Эвелин хочет включить Рахманиновскую Сонату для фортепиано № 2, вызывавшую большие трудности у ее учеников. Эвелин согласилась начать второе отделение с Шопена или Листа, но отказывалась вычеркнуть Рахманинова. Это было самое сложное произведение во всем репертуаре, оно не принесло бы ей никаких бонусов и могло только все испортить,
– Эвелин, – увещевала Адель, – на исполнение Второй сонаты уходит от двадцати до тридцати минут, даже в сокращенной версии Горовица. Она сожрет все второе отделение.
– Знаю, Адель, но она мне так нравится.
– Тогда ты не можешь оставить прелюдии Рахманинова.
– Но если первое отделение будет коротким, нельзя ли сделать второе подлиннее? – молила Эвелин.
– Отделения должны быть одинаковыми по времени.
– Но мне нравятся прелюдии.
– Эвелин, не ставь все на одну карту, это неблагоразумно. Рахманинов очень сложен технически. Если что-то пойдет не так, все будет испорчено.
– Но Рахманинов – мой любимый композитор.
– Это не важно, это твой первый концерт! – с досадой отвечала Адель.
Ее манера говорить всегда завораживала Эвелин; даже сейчас, несмотря на разногласия, она обладала над ней властью, и Эвелин внимательно слушала, как если бы Адель была ей более мудрой матерью, чем Михаэла.
– Лучше уменьшить риск, разбить программу на три композитора-романтика, по десять минут на каждого.
Эвелин понимала доводы мудрой наставницы. Она была пылкой и решительной, но не твердолобой. Она никогда не забывала о своем первом маленьком выступлении в школе на Чатем-сквер – о свободе, которую тогда почувствовала. Если бы она добилась того же ощущения и в этот раз, совместив недавно обретенное мастерство со своей страстью к русскому, она смогла бы завоевать критиков.
Три ярких отзыва, повторяла Адель, решат ее судьбу; три плохих отзыва – и ее карьера будет уничтожена, не успев начаться, вот и все. Второго шанса не будет.
Эвелин сходила на несколько дебютных концертов в Таун-холле: Адель сказала ученикам, что это обязательно. Проанализировав их программы, она пришла к выводу, что слишком разнообразный репертуар не дает зрителям увидеть особенности исполнителя. Некое смутное качество в музыке Рахманинова, некое je ne sais quoi[7]7
Не знаю что (фр.). (Прим. переводчика.)
[Закрыть] в его мелодиях, в их гармонии, неотступной тоске притягивало ее к нему. Она не смогла бы дать определение этому качеству.
Как-то серым ноябрьским днем, за три месяца до дебюта, Михаэла завела разговор о туфлях для концерта. Они должны быть достаточно удобными, чтобы нажимать на педаль, но из лакированной кожи и сиять в лучах прожектора – зрители глаз от нее оторвать не смогут. У Адель на такие мелочи не было времени, но Михаэла заявила, что это должны быть лакированные лодочки. А потом неожиданно сменила тему и ни с того ни с сего спросила Эвелин, интересуется ли та мальчиками.
У Эвелин не было парня. Мальчики забавляли ее, но не вызывали романтических чувств.
– Эвелин, дорогая, когда-нибудь ты выйдешь замуж, пора об этом задуматься – тебе исполняется двадцать.
– Я выйду замуж еще через много лет, почему я должны думать об этом сейчас?
– Нужно с чего-то начинать, Эвелин, как и в случае с фортепиано, ты начинаешь с мелочей.
– Мама, мне нужно сосредоточиться на карьере.
– Карьера, – Микаэла произнесла это угрожающее слово, раскатывая «р». – Кар-рьера не обязательно исключает мальчиков.
– У меня нет на это времени, мама, я должна тренироваться, есть Адель.
– Эвелин, Эвелин, ты не понимаешь, что я пытаюсь сказать. Разве Чезар забросил нас, когда занялся мехами?
– Меховщик – это не то же, что пианист.
– Ты же не можешь всю свою любовь отдать фортепиано, даже у Клары Шуман был Роберт, который подарил ей с десяток ребятишек, – надулась Михаэла.
– Я не Клара Шуман, я – это я.
– А что после дебюта? В жизни есть не только концерты, Эвелин, даже если у тебя все получится.
– Подумаю об этом после дебюта.
– Не надо недооценивать любовь, Эвелин, не надо.
– Я не недооцениваю ее, но сейчас моя любовь – это фортепиано, – Эвелин повысила голос, чтобы показать серьезность своих слов.
Нельзя любить предметы, любят живых существ…
Когда Михаэла произнесла эти слова, будто философскую истину, внутри у Эвелин будто что-то щелкнуло: внезапно ее охватило ясное осознание – возможно, подпитываемое юношеским бунтарством, возможно, выросшее из сердца девушки, тонко чувствующей боль и надрыв, – что она должна играть Вторую сонату Рахманинова, ведь это именно то, что любит она. Свои новые доводы она решила изложить Адели на следующем занятии, тем более что концертные программки должны были быть напечатаны к Рождеству.
Адель слушала, беспокойно хмурясь. Сама она никогда не играла Рахманинова на людях (Эвелин узнала причину годы спустя). Несколько минут Адель терпела разглагольствования своей заносчивой ученицы, а потом, когда не могла больше выносить этот балаган, резко осадила ее:
– Эвелин, твоя программа опасна, безумна, нелепа. Ты попусту упрямишься. Ведешь себя импульсивно. Хорошо, балладу Шопена, «Мефисто-вальс» Листа, парочку прелюдий Рахманинова из опуса 23 или 39, но никакой Второй сонаты.
Но Эвелин решилась: почему она должна врать самой себе о том, какую музыку на самом деле любит? Великая соната не была «неодушевленным предметом», как думала простушка Михаэла, это был живой дышащий организм, и у нее были с ним отношения через живое дерево фортепиано, которое, в свою очередь, было столь же способно чувствовать, как и любая тварь на земле. Эвелин годами слушалась Адель во всем, но сейчас, впервые в жизни, оказалась не готова уступить.
Вот как она описала мне на Венис-бич в 1970-х свою размолвку с Аделью. Я слушал, затаив дыхание, не веря своим ушам. В ее возрасте я ни за что не смог бы поступить так же.
* * *
14 января 1939 года наступило слишком скоро и застигло всех Абрамсов в состоянии лихорадочной подготовки. Михаэла отмечала дни на новом календаре с изображениями Всемирной выставки. Даже Бенджи, которому было уже семнадцать, обзавелся дорогим костюмом и длинным пальто. Чезар и Михаэла разоделись так, будто заново устраивали свадьбу; два-три десятка приглашенных ими в Таун-холл друзей тоже принарядились. Кузен Джоджо – его настоящее имя было Хаджа, но никто не мог его ни выговорить, ни написать, с помощью родителей, прибывших из Старого Света поколение назад, он получил первоклассное образование в Колумбийском университете и стал биржевым брокером на Уоллстрит – так вот, этот Джоджо пообещал привести богатых клиентов; если им понравится то, что они увидят (он так и сказал «увидят», а не «услышат»), они могут инвестировать в карьеру Эвелин. Вита, соседка Абрамсов с Орчард-стрит, всегда говорившая с некоторой театральностью, тоже собиралась прийти, каждый раз заявляя при виде Эвелин, что та станет яркой кинозвездой.
– Интервью, – бормотала она, жестикулируя, – репортеры, статьи в газетах… Михаэла, твоя дочь станет знаменитостью, знаменитостью!
Эвелин столько раз репетировала в полном концертном облачении, что чувствовала себя в нем совершенно свободно: двигалась, жестикулировала, скрещивала руки, пробегала по клавишам, особенно в сонате Рахманинова. Ее наряд включал узкую, украшенную золотом тиару, удерживающую волосы в пучке, маленькие серьги с драгоценными камнями, черные лакированные туфли-лодочки, на которых настояла Михаэла, и самое главное – красное бальное платье без пояса, открывавшее стопы.
Все эти дары для обожаемой Эвелин, как и многие другие до них, большие и маленькие, поступили от Чезара. Теперь, когда важный день уже был не за горами, он предложил, чтобы Эвелин надела на концерт маленькую меховую накидку – его собственного особого кроя, – но мать с дочерью его отговорили. Никто, сказала Михаэла, не надевает на дебютный концерт меховые накидки. Это было бы так же нелепо, как надеть кольца с браслетами: руки пианистки должны быть совершенно свободны.
14 января выдалось холодным и ясным. Дул промозглый ветер, и температура никак не поднималась. Эвелин знала, что ей придется ходить в перчатках, пока она не выйдет на сцену. Холодные пальцы были поцелуем смерти. Три пары шерстяных митенок она держала зажатыми под мышкой вместе с нотами, чтобы на всякий случай еще раз просмотреть их, пока ждет. Она уже попрактиковалась на рояле Таун-холла несколько дней назад и чувствовала, что может управлять инструментом, но не представляла, как громко или тихо ее музыка будет звучать для зрителей.
Адель научила ее пяти правилам выступления на концерте, которые она множество раз записала и затвердила: 1) помнить, что каждый твой жест виден зрителю, поэтому никаких гримас, вздохов и как можно меньше движений торса; 2) если рояль сдвинулся с места, нужно притвориться, что он стоит неподвижно, и тихонько поправить банкетку; 3) ни в коем случае не останавливаться, даже если погаснет свет или на тебя упадет занавес; 4) никаких духов, потому что может оказаться, что у тебя на них аллергия и ты чихнешь; 5) если люди в зале кашляют, не обращай внимания и притворяйся, что не слышишь. Администратор сказал Эвелин, что в нужный момент позовет ее из гримерки. Когда он вошел, она грела руки в шерстяных митенках.
Едва услышав зов, она вскочила, отбросила перчатки, выпрямилась и прошествовала на сцену, как принцесса, полная радостного волнения, с одной лишь мыслью в голове: где сидит Адель? Эвелин узнала бы ее, если бы это был первый ряд. Она поклонилась, села за рояль, разгладила красное платье, поправила банкетку, смахнула пыль с клавиш белым шелковым платком, подняла руки, готовая приступить к короткой токкате Баха, и на долю мгновения повернула голову к зрительному залу.
Что за вселенная открылась перед ней! Огромная, необъятная чернота, в которой мерцали редкие звездочки – отблески искусственных бриллиантов, хрустальной люстры. На нее смотрел целый мир, галактика, созвездия и их земные представители в облике учительницы, родителей, родственников, друзей и других учеников. В голове мелькнуло: что она здесь делает? Создает иную вселенную, отправляют религиозный ритуал, собирается лететь на Луну?
А потом демон нанес удар. Ее пронзили ледяные иглы галактического холода. Время остановилось. Она застыла. Не только руки и пальцы – и голова, и глаза тоже. Она словно потеряла сознание и перенеслась в царство кошмаров, где единственным цветом был черный. Необъятный Таун-холл, казалось, превратился в открытый космос или, по меньшей мере, в планетарий, а его тусклые огоньки – в далекие звезды на небесной тверди. Она не видела сидящих людей, только необъятную галактику мерцающих звезд, стершую из ее памяти причину, по которой она оказалась здесь. Ее охватило жутковатое ощущение, будто пальцы больше не соединены с ладонью. Все тело онемело, стало холодным, как льдинки за полярным кругом.
Эвелин сидела так, застыв, минуты две, потом восстановила крупицу былого самообладания и повторила заученные движения: поправила скамью, смахнула пыль, подняла руки, – и тогда ей в голову пришла мысль, что Чезар в первом ряду поймает ее, если она упадет со сцены.
Теперь она могла думать только о Чезаре: «Папочка, где ты?» Исчез Рахманинов, исчезла Адель, исчез целый мир, и осталась одна Эвелин на сцене в ожидании теплых папиных рук. Ей было так холодно. Она заледенела. В помутившемся сознании была всего одна ясная мысль: она не может играть. Ничто не заставит ее тело двигаться.
Она подождала еще минуту, потом встала, улыбнулась – жалкой улыбкой, говорившей зрителю, что что-то пошло совсем не так, – повернулась и тихо ушла со сцены тем же путем обратно в гримерку.
Ее рвота хлынула на синий плюшевый диван, не успела она захлопнуть за собой дверь. Потом снова, когда она добежала до туалета – сначала в раковину, потом в унитаз. Щеки полыхали, внутренний лед превратился в тропический жар. В комнате было пусто, еще горел свет. Эвелин вернулась к двери, захлопнула ее, повернула ключ в замке, выключила свет и, сделав глубокий вдох, упала в мягкое кресло.
В дневнике написано, что она не помнит, сколько времени провела так: с закрытыми глазами, приоткрытым ртом, колотящимся сердцем. Когда она пришла в себя, Михаэла с Чезаром растирали ей руки – по одному на каждую руку, – а Бенджи смотрел на них с таким потрясением, будто она умерла и родители пытались ее воскресить.
– Не волнуйся, милая, – приговаривала Михаэла сквозь слезы, качая головой. – Это еще не конец света. Мы отвезем тебя домой, и ты поспишь.
Чезар и сам выглядел оцепеневшим, как пару десятилетий назад, когда трансатлантический лайнер пристал к острову Эллис. Словно мертвый, он наблюдал, как Михаэла приводит в чувство их дочь, и единственной фразой, пришедшей ему на ум, было: «Я взял такси. Мы едем домой». Тихим голосом он все повторял и повторял ее, словно дрожа.
Эвелин не помнила, как они ехали в такси, как она заснула в своей кровати, но наутро она проснулась с тяжелой головой, не чувствуя ни малейшего желания играть Рахманинова. Она уставилась на свое пианино, как на какой-то инородный объект, и стала думать, что же с ней случилось.
– Я играла? – спрашивала она себя. – Неужели я забыла, как играла? Где отзывы? Почему я ничего не помню?
Семейный доктор явился осмотреть ее около полудня, ничего не обнаружил и сказал Михаэле, что «Эвелин придет в норму через несколько дней, но, если будет дальше плакать, дайте ей эти таблетки».
Эвелин еще не плакала – слезы пришли потом, и она рыдала, держась за спинку кровати. Дней пять она не выходила из комнаты, отказывалась есть, и Михаэле пришлось кормить ее с ложки насильно, держа язык пальцем. Эвелин просто хотелось остаться одной и спать. Думать она могла только об Адели; она представляла, как та восседает в первом ряду Таун-холла, положив властную правую руку, которую Эвелин так хорошо знала по их занятиям, на подбородок, как распекает ее за выбор сонаты Рахманинова. Эвелин была уверена, что всему виной какой-то сглаз, но не «красная угроза»: сталинские репрессии, известиями о которых пестрели заголовки газет по всей стране, в те годы пугали многих американцев. Эвелин знала об этом по урокам истории, но не могла винить в случившемся провале никого, кроме себя. Она повторяла себе, что произошедшее никак не связано с тем, что программа была полна русской музыки. Нет, она сама все испортила.
Мысли о суициде не приходили ей в голову: для этого она была слишком уравновешенна. Михаэлу с Чезаром случившееся несчастье не сломило. В конце концов, они не заставляли дочь стать пианисткой.
Спустя неделю она несколько восстановилась и вернулась в свою Школу исполнительских искусств, которую и я, как расскажу позже, посещал двадцать лет спустя. Но она пропустила пятничный урок фортепиано, будучи не в состоянии и помыслить о том, чтобы встретиться с Аделью.
Адель избавила ее от этой агонии. Вскоре из Джульярдской школы пришло письмо, вызывающее Эвелин в кабинет декана факультета фортепиано, где тот коротко изложил ей новости. Адель больше не будет ее учить – ей не нужно идти на следующее занятие. Эвелин вольна обсудить этот вопрос с комиссией по фортепиано, чтобы ей назначили другого педагога, но решение Адель окончательно.
Неожиданный разрыв отношений с преподавательницей подорвал дух Эвелин гораздо сильнее, чем фиаско на сцене, – мысль о том, что она подвела Адель, не послушалась ее, безрассудно отринула совет насчет Рахманинова и своевольно настояла на своем выборе репертуара. Все кончено, думала Эвелин, ее мир разрушен. И теперь ей придется провести всю жизнь с мыслью о последствиях.
Эвелин рассказала, что потом, много лет спустя, узнала, что у Адели тоже были проблемы, связанные с боязнью сцены, и ее учителям приходилось бегать за ней по комнате (она была одной из первых молодых привлекательных американок, учившихся у легендарных русских эмигрантов, которые перебрались в Америку в начале XX века; наверняка пианисты вроде Иосифа Левина с большим удовольствием давали ей уроки) – неудивительно, что она с такой непреклонностью советовала Эвелин не брать Вторую сонату Рахманинова. Эвелин узнала об этом на приеме у стоматолога в Калифорнии, когда поселилась на Венис-бич. В приемной рядом с ней сидел один русский, лет сорока, с сильным акцентом. Они разговорились, и он поведал Эвелин, что был пианистом и в шестидесятых годах учился у Адели Маркус в Джульярдской школе. Его карьера так и не сложилась, но он сходил на несколько ее концертов в Нью-Йорке, во время которых она так нервничала, что даже теряла память. Он сказал, что это сильно повлияло на нее в юности и стало причиной, по которой она занялась преподаванием, на что частенько пеняли ей критики. По его словам, она выходила на сцену белая, как привидение.
– Великий педагог, но так себе исполнительница, – сказал он.
* * *
Всю весну 1939 года Эвелин собирала себя по кусочкам. В их доме во Флашинге никто не упоминал о случившемся, в школе одноклассники разговаривали с ней так, будто ни о чем не знали. Микаэла утешала дочь сладкими словами, залитыми сиропом материнской любви, Чезар расхваливал другие ее достоинства, приговаривая, что она будет замечательной женой какому-нибудь красивому еврею, а Бенджи был занят своими заботами, хотя Эвелин отмечала, что при взгляде на нее на его лице появлялось выражение стыда. Ей казалось, что он вообще ее избегает.
За это время Эвелин ни разу не села за фортепиано: чтобы восстановить душевное равновесие, ей требовалось отыскать иной интерес в жизни. Она никогда не думала о другом учебном заведении, нежели Джульярдская школа, и не чувствовала никакого желания преподавать. Михаэла убедила ее записаться на дорогие секретарские курсы, но она почти не посещала занятия. Ее грызло сознание того, что она провалила дебютный концерт: ее карьера завершилась, даже не начавшись. Когда Ривка – подруга Михаэлы, добросердечная женщина, которая пеклась об Эвелин, как о собственной дочери, – предложила устроить ей свидание вслепую, с незнакомым, Эвелин подумала: почему бы и нет. Она призналась себе, что в двадцать лет опыта в свиданиях у нее, как у двенадцатилетней, и неплохо бы с чего-то начать.
Джоел Фенголд оказался ужасным занудой. У них было мало общего, химической реакции не возникло, и Эвелин не захотела с ним больше встречаться. Он высокий, приятный в общении, но скучный, сказала она матери. Когда эти слова дошли до Ривки, та восприняла неудачу гораздо болезненнее, чем сама Эвелин, и больше не пыталась ее сватать, но через контакты Михаэлы вскоре последовали другие предложения свиданий. Эвелин не искала мужа: она просто чувствовала, что, если хочет выжить, должна идти вперед. На сцене она слишком близко подошла к финальной черте, нужно было перестать «заигрывать со смертью».
Чезар предложил ей поучиться несколько лет в колледже свободных искусств. «У моей дочери должен быть диплом» – такова была его новая позиция. Михаэла не поддерживала эту идею: «Может быть, она хочет завести семью или вернуться к фортепиано». Втайне она надеялась, что Эвелин отважится на еще один дебют, но не осмеливалась сказать об этом вслух. Сама же дочь совсем запуталась. На нее тяжело повлияла пустота, оставшаяся после Адели: казалось, ничто не в силах ее заполнить.
Расцвел и облетел в 1939 году кизил, на смену ему пришла июльская жара, во время которой Эвелин проработала месяц в коннектикутском лагере, где ей хорошо платили. Вернувшись в августе домой, она застала отца с красными опухшими глазами. От тетушки из Барлата пришло письмо, извещавшее о смерти обоих его родителей. Первым умер отец, мирно скончался в семидесятилетием возрасте, окруженный всеми Абрамовичами Старого Света, а через пять дней за ним последовала его хворая жена – они попросили, чтобы их похоронили в одной могиле.
Михаэла рыдала, вспоминая, как свекр Абрамович ущипнул ее на счастье перед отплытием, сунув ей под блузку кошель с золотыми монетами. А Чезар теперь все время смотрел в пустоту, как будто приветствуя родителей в потусторонней вечности. Он был огненным человеком, легко приспосабливался, но иногда становился настолько же молчаливым, насколько бывал уверенным и кипучим, и сейчас, в своем горе, он словно погрузился в думы о том, где же находится это потустороннее – некая неизведанная земля за пределами Нью-Йорка, Америки, Атлантики, даже за пределами недавно загубленной карьеры его дочери. Утрата поглотила его. Чезар щипал себя, чтобы убедиться в том, как далеко от Барлата он находится. Эвелин никогда еще не видела отца таким хмурым.
Не знать своих дедушку с бабушкой – одна из величайших потерь в жизни, но Эвелин была еще не готова ее осмыслить, вместо этого она сосредоточилась на собственной потере и молилась о своем возрождении, интуитивно мечтая либо перейти в обыденный мир, либо волшебным образом вернуться к Адели и тому блестящему миру, который та олицетворяла
В конце сентября 1939 года в «еврейском Флашинге», как называла его Михаэла, отмечали иудейские праздники. Семейство Абрамсов поехало в синагогу в районе Форест-Хиллс, а оттуда пешком добралось до Гликов – их старейших друзей с тех времен, как они поселились в Куинсе, – чтобы вместе с ними и еще тремя семьями отметить Йом Кипур. У Гликов гостил сын кузена из Бруклина, Сэм Амстер, молодой человек на пару лет старше Эвелин. Он показался ей старомодным, но с выразительным теплым лицом. В своем дневнике Эвелин использовала слово «теплый» в значении «вызывающий эмоции», как в классическом музыкальном произведении. Сэм был светлокожим, среднего роста, на несколько сантиметров выше Эвелин; поначалу он держался застенчиво, но Лили Глик посадила его рядом с Эвелин за длинным столом, уставленным ее лучшим фарфором, и он открылся.
Он рассказал ей, что в июне окончил Городской колледж Нью-Йорка, получив диплом в сфере бизнеса и после праздников собирается приступить к работе в отцовской фирме по импорту и экспорту тканей. Отец подарил ему машину в честь выпуска и пообещал хорошую начальную зарплату; если все пойдет, как запланировано, он унаследует его место среди директоров. У него были две младшие сестры, которые отмечали Йом Кипур с друзьями. Амстеры жили в Бруклине, в большом доме на Бед-форд-авеню рядом с Проспект-парком, держали горничную, сенбернара и винтажный белый «кадиллак» во дворе.
Сэм не хвастался, но Эвелин уловила суть: Амстеры были чрезвычайно обеспечены. Несколько даже философски он поведал ей, что в самый тяжелый период Великой депрессии – лето 1939 года, – когда миллионы американцев не могли найти работу, его семья чувствовала себя вполне комфортно. (В своем дневнике Эвелин отмечает, что он выделил это слово, будто прекрасно сознавая привилегированное положение Амстеров.)
Теперь, когда у него были диплом, работа, машина, для полноты картины недоставало только девушки. Эвелин не охватило мгновенное влечение, но в его присутствии она чувствовала себя комфортно, безопасно. Он казался порядочным, даже скромным, несмотря на обеспеченность его семьи.
Михаэла молча наблюдала за ней с противоположного конца стола. Едва Абрамсы оказались за порогом Гликов, как она принялась забрасывать Эвелин вопросами, на которые сама же и отвечала, не успевала та рта раскрыть. Яркое воображение Михаэлы уже нарисовало, как дочь идет к алтарю. Чезар отнесся к перспективе более сдержанно, настороженность в нем на этот раз возобладала над энтузиазмом, но даже его воодушевили ясные намеки Михаэлы.
Одно свидание вело к другому, и не успела Эвелин оглянуться, как они с Сэмом «стали встречаться».
– Он такой милый мальчик, – повторяла Михаэла. Даже Бенджи перестал притворяться, что находится в блаженном неведении относительно их романа.
Эвелин чувствовала, что у нее нет выбора. Судьба постановила ей «выйти замуж за мужчину, а не за фортепиано» – милостивое решение, которому она покорилась по собственной воле. Она была умной женщиной и после «трагедии» стала все чаще предаваться рефлексии. Она не могла бы назвать себе ни единой причины, чтобы отвергнуть Сэма, помимо той лишь – ив ней она была уверена, – что она его не любила.
Она до сих пор была девственницей. Михаэля часто наставляла ее, что еврейская девушка должна хранить девственность до первой брачной ночи: если жених еврейской девушки обнаружит, что она не девственница, он ее бросит и аннулирует брак. Этот нелепый обычай приводил Эвелин в замешательство, но она сказала себе, что готова хранить девственность, пусть из конформизма. Ее разум приспосабливался. Она начала представлять себя потенциально замужней, потом реально замужней и, наконец, разведенной: Сэм с «фортепиано» были главными соперниками в этом новом душевном конфликте. Она сознавала абсурдность этих мыслей, но в то же время знала, что Адель поняла бы, что значит «отдать девственность фортепиано» и «развестись с фортепиано».
Они встречались всю зиму, потом весну 1941 года, и с каждым свиданием Сэм становился все порядочнее. Он никогда ее ни к чему не подталкивал, всегда держал слово и, казалось, обладал золотым характером. «Безукоризненный» – вот определение, которое стало с ним ассоциироваться. Он не раз целовал и обнимал ее, но не пытался соблазнить. Именно она превращалась в вожделеющего партнера.
Впервые в жизни ее мысли, не только тело, обратились к сексу. Несколько раз она делалась агрессивной, пыталась вовлечь его в занятие любовью, но он категорически отказывался. «Мне нужна жена, – говорил он, – а не шлюха». Как ни странно, она почувствовала себя увереннее после того, как он произнес это слово, и стала постепенно рассказывать о своей жизни с Аделью в Чатемской школе, а потом в Джульярдской. Описала свое оцепенение в Таун-холле, ощущение того, что она сейчас упадет в пропасть на краю мира. Сэм преисполнился благоговения перед ее болью, даже нашел способ успокоить ее сердце, растравленное воспоминаниями.







