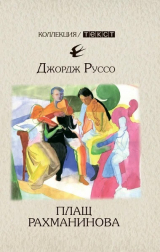
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Однажды Сэм упросил ее сыграть для него. Поначалу она отказывалась – она ведь так давно не упражнялась, – но Сэм настаивал, и она вообразила, что он не верит, будто всего лишь чуть больше года назад она стояла на сцене Таун-холла, готовая ослепить мир Рахманиновым. Они заключили договор: она потренируется несколько недель и только потом ему сыграет. В назначенный день она нервничала – это было не мучительное волнение перед концертом, а тревога, вызванная тем, что она готовилась обнажить перед ним душу. Сэму нравилась классическая музыка, но он не разбирался в стилях и композиторах. Она сыграла Шопена, чтобы разогреться, потом Рахманинова. Сэм пришел в восторг и сказал со слезами на глазах, что ему открылось новое окно в ее душу; теперь он просто обязан на ней жениться, даже если его родители не согласятся (как же им согласиться в свете бюджетного дисбаланса?), а когда они поженятся, Эвелин будет учить их детей музыке и они унаследуют таланты матери.
Весной 1941-го, сразу после Песаха, Сэм сделал предложение, и они поженились на Хануку, в воскресенье 14 декабря 1941 года, ровно через неделю после того, как японцы совершили налет на Перл-Харбор. Родители Сэма хотели, чтобы им дали время спланировать свадьбу сына. По обычаю, в еврейских семьях чек выписывает отец невесты, но Сэм скромно передал, что его родители желают большую свадьбу на несколько сотен человек и конечно же не ждут от Абрамсов, что те ее оплатят.
Чезар с Михаэлой испытали облегчение: они боялись, что денежный вопрос сорвет сделку. У них были сбережения, но конец 1930-х не слишком благотворно сказался на состоянии Чезара: богачи покупали меха вплоть до 1936 года, а потом перестали, и к 1939–1941 годам его доходы резко упали. Какую-то сумму он скопил на то, чтобы арендовать зал в Таун-холлле для выступления Эвелин и покрыть сопутствующие расходы, особенно на бархатное платье, а также заплатить комиссию менеджеру, если дебют окажется успешным, но у него не было лишних нескольких тысяч на пышную свадьбу.
Разгорающаяся в Европе война подспудно грызла Чезара. Его родители недавно умерли, но все еще оставались дядюшки, тетушки и кузены, и он почти ждал, что в любую минуту нацисты сметут с лица земли Балканы и уничтожат проживающих там евреев. Дневник Эвелин передает его высказывания дословно, как будто ради исторической достоверности, а не для того, чтобы отвлечься от помолвки. Чезар всегда отождествлялся с Румынией, а Михаэ-ла – вовсе нет: она считала себя американкой. И все же Чезар оживился и поцеловал дочь, когда услышал хорошие новости о том, что дата свадьбы назначена: «Моя дочь подарит мне первого внука». Это был такой сдержанный поцелуй, что Эвелин буквально могла прочитать его мысли – отцовская версия полупоцелуев Сэма, которыми тот одарял ее на прощание. Сэм ходит на цыпочках, как Чезар, думала Эвелин, потому что он тоже джентльмен, уже в двадцать три.
Тем летом Сэм подарил ей бриллиантовое ожерелье, а потом показал сочетающееся с ним венчальное кольцо – скромный, но чистый бриллиант в восемнадцать каратов, оправленный золотом. 15 декабря они отправились в медовый месяц на автобусе «Грейнаунд» из Манхэттена до Ки-Уэста и, вернувшись перед Новым годом, въехали в маленький, но элегантный двухэтажный кирпичный дом на Дартмут-стрит в Форест-Хиллс. Когда Эвелин впервые заглянула внутрь, она увидела новенький черный рояль «Стейнвей», перевязанный огромной красной лентой. «Для Эвелин от Сэма с любовью, 27 декабря 1941», – гласили ярко-красные буквы.
* * *
Дальше записи в дневниках Эвелин становятся хаотичными. В них указано, что одиннадцать месяцев спустя, в воскресенье перед Днем благодарения, 22 ноября 1942-го, родился Ричард Амстер – в тот самый день, когда Советская армия окружила немцев под Сталинградом. Но в тот момент Россия была бесконечно далека для Эвелин, несмотря на то, сколько отдала она когда-то музыке Рахманинова. И День благодарения, американский праздник, она воспринимала как должное, без всякого символизма – уж точно не связывала его с тем, что в минувшее воскресенье у нее родился сын. Для Эвелин 22 ноября было радостным днем, который не могли омрачить даже тускнеющие воспоминания о катастрофическом дебюте. Конечно, на сцене она запаниковала, но рождение Ричарда прошло как по маслу с того момента, как у нее начались схватки и Сэм отвез ее в Флашингскую больницу. Вскоре в руках у Эвелин оказался пухлый здоровый младенец нормального веса с любопытно поглядывающими на нее карими глазищами и розовой кожей. Бывшая пианистка заметила, что его крохотные пальчики телесного цвета напоминают тесто и реагируют на прикосновение влажной хваткой вокруг ее пальца.
Сэм вел себя по отношению к малышу менее восторженно, просто с опаской следил, как тот растет. Он предсказал, что Ричард пойдет в мать, и так и вышло: он напоминал ее внешностью, телосложением, выражением лица, жестами. Ему еще не исполнилось года, а его глаза уже следили за Эвелин, когда та играла на рояле. В два года он уже сам бренчал по клавишам, а в три Эвелин стала давать ему уроки. Она чуть ли не рыдала от его успехов, и даже Сэм был поражен.
Эвелин научилась «быть матерью» без постоянных подсказок Чезара и Михаэлы. Два года назад материнство было последним, о чем она думала, теперь же она постигала азы, узнала, к примеру, что игра на фортепиано успокаивает ее тревоги по поводу Ричарда и прогоняет ощущение собственной неполно ценности. Дела компании Сэма пошли а гору, к за два года с 1939-го, к тому моменту, как США объявили войну Японии, его зарплата увеличилась вдвое – за всю войну им ни разу не пришлось беспокоиться о деньгах. Другая забота Эвелин – воспоминание о паническом страхе, охватившем ее на сцене, – тоже сошла на нет; ее вытеснил кричащий малыш и отчасти брак, растущая привязанность к Сэму. Она повторяла себе, что, несмотря на панику, уничтожившую ее карьеру, она должна снова научиться играть, чтобы развлекать друзей.
1943 и 1944 годы пролетели, как на крыльях, и счастливая мать не могла надивиться тому, как ее прекрасный ребенок загасил стыд за неудавшуюся карьеру. Шла война, люди умирали, семьи рушились – какое у нее было право эгоистично горевать о личной утрате? Фортуна повернулась к ней лицом, материнство ей шло, и даже если муж не разделял большинство идей, возникающих время от времени у нее в голове после рождения Ричарда, – особенно ощущения того, что она должна однажды вернуть утраченные позиции, – он был хорошим человеком. Все же иногда она ловила себя на том, что фантазирует, как снова выйдет на сцену, – глупые фантазии, она это знала, но не могла их полностью искоренить.
Поэтому она упражнялась, а любопытный Ричард время от времени слушал.
– Это прелюдия Рахманинова?
Ну конечно же, как мило со стороны Сэма узнать! Год спустя, в 1947-м, Ричарду исполнилось пять, и она решила, что он готов, чтобы она давала ему полноценные уроки игры на фортепиано. Когда он превзошел все ожидания, она решила купить ему еще и струнный инструмент, дорогую миниатюрную виолончель. Через два года Ричард уже хорошо играл. Если он станет профессионалом, они смогут играть дуэтом – мать с сыном, – а потом и с другими инструментами. По мнению Эвелин, это был вовсе не эгоистичный план, а способ укрепить молодую семью из трех человек. Даже нейтральному Сэму, который ни на чем не играл, понравилась идея о сыне-виолончелисте: готовясь унаследовать отцовский бизнес, он превратился в трудоголика. Домашняя музыка поможет ему расслабиться.
Война мало повлияла и на мужа, и на жену. Новорожденный младенец позволил Сэму избежать призыва. Они следили за нацистской угрозой по радио и ужасались, как почти все американцы, тем зверствам, о которых сообщалось, – в них было трудно поверить. Когда-то Эвелин надеялась, что проживет достаточно долгую жизнь, чтобы посетить места, где родился Рахманинов, но война уничтожила эту надежду: разоренная Европа была последним местом, куда ей хотелось бы отправиться. Географически места сражений и лагеря смерти находились так далеко, что Эвелин не понимала, какое вообще все это имеет отношение к ним с Сэмом, если не считать того, что туда отправляли «американских мальчиков». Даже Михаила не выказывала особенного интереса, поскольку ее родители уже умерли. Они скончались в начале сорокового, еще до вступления Румынии в войну на стороне стран оси Берлин – Рим – Токио. Михаэла заверила Эвелин, что ее дедушка с бабушкой, к счастью, не застали оккупацию их родины немцами.
Музыкальный прогресс Ричарда оказался феноменальным. Он быстро освоил виолончель, что потрясло его преподавательницу, местную даму из Куинса, которая училась в Маннес-колледже в Манхэттене. В шесть лет он стал играть дуэтом с матерью. Примерно в это время Ричард попросил маму, чтобы она нашла ему другого учителя фортепиано.
Просьба привела Эвелин в смятение. А вдруг он наберется плохих привычек? Первые год-два, как она хорошо знала, были существенны для будущего. Вдруг талант будет испорчен? Ока излила свои сомнения по поводу просьбы Ричарда Сэму. Поговорила с его учительницей по виолончели и некоторыми разбирающимися в вопросе друзьями. Наконец Эвелин решила отвести его в школу на Чатем-сквер, положение которой после войны упрочилось. Шел 1949 год.
Сэм отвез их на Манхэттен воскресным днем а начале октября. Трое учителей по струнным инструментам десять минут слушали, как Ричард играет, и тут же объявили Эвелин и Сэму, что их сын принят. Им нужно будет платить за занятия, потому что они указали в анкете, что в состоянии это делать. Стипендии выдавались только нуждающимся.
Ричарда определили к чешскому эмигранту средних лет, специалисту по малышам. Каждую субботу Эвелин стала возить Ричарда из Куинса до Клинтон-стрит по новой ветке метро, как возили ее саму почти два десятилетия назад.
Ричарду было семь, и он был самым маленьким учеником, поступившим в Чатемскую школу. Я уже рассказывал, как Эвелин пригласила меня к ним в гости на его седьмой день рождения, и описал произошедшую тогда катастрофу. Ее последствием, как осознал я годы спустя, стала бесконечная благодарность к великодушной Эвелин, особенно усилившаяся оттого, что мы с Ричардом стали друзьями.
Путь Ричарда был ярче моего. Выступив в десять лет на студенческом концерте в Чатемской школе, он потряс всех видных слушателей, которые посещали эти вечера. Глава школы Хоцинов написал Амстерам, что их сын феноменально талантлив и на них лежит моральная обязанность помочь ему раскрыть потенциал. Он также сообщил, что хорошо помнит Эвелин, хотя не совсем уверен в причине, по которой она ушла из музыкального мира.
Эвелин отнеслась к письму скептически, с беспокойной настороженностью: история могла повториться. Ричард мог потерпеть фиаско. Препятствием могло стать что угодно. Они с Сэмом посовещались и спустя несколько недель явились в кабинет Хоцинова, чтобы обсудить возможности. Хоцинов сказал, что Ричарду следует перейти в Джульярдскую школу к Леонарду Роузу (1918–1984), главному преподавателю игры на виолончели в Америке, который занялся педагогической практикой пару лет назад, в 1947-м. Уроки будут дорогими, но Хоцинов тактично намекнул им, что состоятельные Абрамсы не должны препятствовать карьере сына только потому, что его мать однажды запаниковала на сцене.
Слова Хоцинова больно задели Эвелин. Так, значит, все знали, все помнили, даже этот знаменитый музыкальный критик, чье имя в Америке известно каждой семье. Ее провал был достоянием общественности.
Леонарду Роузу недавно исполнилось сорок. Ведущий виолончелист Америки, он уже играл с оркестром, которым дирижировал сам Тосканини. Как и Эвелин, он рос в эмигрантской семье, его родители приехали из Киева, и он мог поговорить с родителями Ричарда о том, каково это быть детьми неграмотных выходцев из Восточной Европы. «Знает ли Роуз?» – спрашивала себя Эвелин, мучимая стыдом. На занятиях с Ричардом он тактично называл ее «прекрасной пианисткой», но Эвелин не ведала, известна ли ему вся ее история. В любом случае десятилетний мальчуган, которого, по словам Роуза, нужно взрастить, не лишив при этом детства, приводил его в восхищение.
– Пусть Ричард движется своим темпом, не надо его торопить, иначе он состарится раньше времени.
Он повторил этот совет на нескольких уроках.
Во всех этих вопросах Сэм занял место позади, и с образованием одаренного сына прекрасно справлялась Эвелин. Она была вдумчивой, тонко чувствующей женщиной; последним, чего ей хотелось, было навязать Ричарду «карьеру». Если Ричард действительно так талантлив, как убеждал их Хоцинов и подтвердил Роуз, он найдет свой путь – она в этом не сомневалась. А если нет, она будет счастлива и тому, что сын здоров. Так она рассуждала сама с собой.
Брак с Сэмом был для нее далеко не так важен, как Ричард. Они с мужем любили друг друга, но, по ее мнению, Сэм никогда не понимал ее, а она – его. У тебя есть муж, и у тебя есть сын – каждый из них означает что-то еще. Будучи вдумчивой натурой, в глубине души Эвелин понимала разницу между буквальным и символическим значением. К ее изумлению, Сэм вдруг заявил, что хочет еще одного сына, который когда-нибудь станет помогать ему в бизнесе. Несколько лет назад они уже пытались завести второго ребенка, но безуспешно и тогда стали подумывать об усыновлении, но потом разговоры сошли на нет, и Эвелин стала ошибочно полагать, что они смирились. На самом деле мысль о новой беременности или усыновлении приводила ее в ужас. Ей был нужен только Ричард.
Сын стал всей ее жизнью. Она «начала с чистого листа», как шептала себе в экстазе. Больше упражнялась на фортепиано, стала играть с местными камерными музыкантами и подумывала о том, что, если создаст устойчивый квартет, то однажды снова сможет выступать, и это будет хорошим примером для начинающего Ричарда. Сэм тоже вел себя так, будто к ней вернулись силы, будто он получил возрожденную жену-пианистку, и продолжал настаивать на усыновлении (только мальчика). В свободное время он играл с Ричардом в мяч и катался с ним на велосипедах. «Отец с сыном», – кивали им соседи. Но в душе Сэм более склонялся к обычному детству для Ричарда. Эвелин хотела сделать из сына выдающегося виолончелиста, хотела, чтобы у него было все то, что потеряла она.
В 1952 году Ричарду было десять, и он становился многообещающим юношей: физически здоровым, смышленым, непреднамеренно язвительным для десятилетнего ребенка и эмоционально стабильным. Друзей он не завел, за исключением мальчика из Бруклина – Джорджа, – который сломал ему виолончель.
Эвелин оставалась вполне довольна своей семейной жизнью: у нее был муж, который ее любил, обожал их сына и прекрасно их обеспечивал. В 1951 году они переехали в Форест-Хиллс, в дом побольше, где у нее была своя просторная музыкальная комната. Родители Сэма купили им также домик во Флориде, где они проводили несколько недель на каждое Рождество. Чего еще ей было желать? Михаэла с Чезаром достигли шестидесяти и переехали в Атлантик-Сити на побережье Джерси. Все дедушки с бабушками упивались осознанием того, что их внук – многообещающий «юный виолончелист», хотя Амстеры редко их видели. На поздравительных открытках к дню рождения они называли Ричарда своей «знаменитостью».
Леонард Роуз оказался образцовым учителем: внимательным, тактичным, компетентным. Он был не только знаменитым виолончелистом, но и терпеливым наставником для юных музыкантов. В дневниках описывается каждый урок: что Ричард играл для Роуза, что нового выучил. Ричард быстро все схватывал, но не упражнялся денно и нощно, как его мать в детстве. Ему это было не нужно: он был в десять раз талантливее Эвелин. Чтобы подготовиться к весеннему концерту в Джульярдской школе, ему хватало аккуратного посещения занятий. Стоял 1953 год, ему исполнилось одиннадцать с половиной. Студенческий концерт прошел триумфально: никакой нервотрепки, никаких сюрпризов, он отыграл на отлично, и в конце все аплодировали. Роуз улыбнулся и сказал, что скоро Ричард сможет принять участие в конкурсе.
* * *
Однажды летом 1953 года, подходя за завтраком к столу, Эвелин случайно остановилась прямо над головой Ричарда и заметила седой волос Всего один. Она внимательно осмотрела его шевелюру и больше ничего не обнаружила. Разве у одиннадцатилетних мальчиков бывают седые волосы, спросила она себя. Сэм сказал, что это пустяки, но Эвелин не убедил. После этого открытия она стала тщательно присматриваться к сыну… и чем больше присматривалась, тем более странные симптомы обнаруживала.
Она заметила, что тембр его голоса постепенно становится все выше и тоньше. Поначалу – несколько месяцев назад – она не придала этому значения, но теперь, когда к голосу добавился седой волос, она встревожилась.
Еще она заметила, что его тело пахнет по-другому, будто тухлой рыбой. Она ничего не сказала Сэму, но стала принюхиваться к Ричарду каждый раз, когда могла приблизиться, не вызывая подозрений. Она где-то читала, что родители и дети млекопитающих интуитивно чувствуют друг друга. Они с Ричардом несколько часов в неделю проводили в непосредственной близости, когда она помогала ему готовиться в музыкальной комнате к занятиям с Роузом. Неприятный запах возник совершенно неожиданно, после того как она заметила седой волос.
Несколько дней спустя, когда они с Сэмом легли в кровать, у Эвелин случилась истерика. Сэм крепко ее обнял:
– Тебе просто кажется, Эвелин. Мальчики часто пахнут в пубертатном возрасте. И я не заметил никаких изменений в голосе. Что такое один седой волос? Они бывают даже у младенцев.
Но Эвелин продолжала рыдать, скорее жалобно, чем сердито.
– Сэм, что-то не так. Я знаю своего сына. Нужно, чтобы его осмотрел врач.
Сэму пришлось согласиться. А через несколько вечеров Эвелин снова разрыдалась. Сэм выключил свет и обнял ее, спрашивая себя, не с ней ли что-то не так, а вовсе не с Ричардом. Эвелин написала в дневнике, что отчетливо запомнила тот вечер, поскольку тогда впервые поняла, в какую трясину их затягивает.
Неделю спустя доктор Герман Зайд, их семейный врач, отвел Эвелин в свой кабинет, пока медсестра помогала Ричарду одеться.
– Я не знаю, что сказать, Эвелин, это все очень странно. Возможно, это просто совпадение, что вы заметили запах одновременно с седым волосом.
Зайд говорил медленно, осторожно, с обстоятельностью многолетнего опыта. Его симметричный профиль и галстук-бабочка в голубой горошек делали его еще солиднее. Эвелин с Сэмом были его пациентами с тех пор, как переехали в Форест-Хиллс.
– А перемена в голосе, которую вы заметили, может быть следствием гормональных изменений. Предлагаю пока наблюдать.
Ричарду сказали, что визит к врачу был обычной проверкой. Той ночью, перед тем как лечь спать, Эвелин с Сэмом обсудили каждый пункт рекомендаций доктора Зайда. Сэм счел их разумными, но Эвелин одолевали сомнения.
– А вдруг это что-то серьезное? Чем быстрее мы выясним, тем лучше. Начнем лечить на ранней стадии.
Появились новые седые волосы, потом еще. Нос тоже изменился: весь как-то обвис, будто скукожился, кожа побледнела и огрубела. Запах усилился, теперь он напоминал зловоние немытых подмышек, как будто Ричард был чернорабочим, трудившимся на жаре. Леонард Роуз, которому приходилось приближаться к Ричарду на занятиях, тактично молчал, но рабби Элман, наставлявший Ричарда перед бар мицвой, отметил изменения в голосе.
Через семь месяцев Ричарду исполнялось тринадцать – возраст, в котором еврейские мальчики проходят символический ритуал, после чего считаются мужчинами. Рабби Элман послал Эвелин записку, в которой спросил, заметила ли она, что у Ричарда стал выше голос. В ответе Эвелин посвятила его в ситуацию, добавив, что, возможно, им придется внести в ритуал изменения.
Доктор Зайд знал больше, чем говорил, но из деликатности не хотел их тревожить. Он понял, как хрупка Эвелин, еще много лет назад, когда она только стала его пациенткой, видел, как она восстанавливается после провала на дебюте, к тому же ее материнство протекало не совсем гладко. Эвелин тогда утаивала информацию о своем прошлом, и доктор подозревал, что она делает это и сейчас. Вернувшись с Ричардом через несколько недель, она попросила его осмотреть кожу сына, его руки. Эвелин заметила, что цвет изменился, появилась грубость, которой она не видела раньше, когда они аккомпанировали друг другу.
Ричард недоумевал, почему мать таскает его к очкастому доктору Зайду, который осматривал и ощупывал его, измерял ему ладонь линейкой, а потом уводил Эвелин в свой кабинет и там что-то тихо говорил, пока Ричард ждал снаружи с медсестрой.
– Эвелин, вы правы, это ненормально, но я не знаю, что это. Думаю, нужно направить Ричарда к специалисту.
– Какого рода специалисту?
– Дерматологу.
– Хотите сказать, дерматолог отвечает за изменения в голосе, седые волосы и запах тела?
– Вы правы, Эвелин, я не знаю, к чему отнести запах.
– Я тоже. В первый раз, когда я почувствовала, воняло, будто от тухлой рыбы!
– Это странно, но может оказаться, что это всего лишь следствие строения его кожи.
– Он же не шизофреник? – Она произнесла это страшное слово так, будто готова была упасть в обморок.
Эвелин обмякла в кожаном кресле; сердце колотилось, ей казалось, что она тонет. В голове доктора Зайда пронеслась мысль о редком заболевании, о котором он слышал однажды, но даже не мог вспомнить его медицинского названия, – преждевременном старении детей. Несколько десятилетий назад он был на одной лекции в медицинской школе, и там говорили об этом заболевании, называя его недавним открытием. Оно было таким редким, что лишь несколько докторов столкнулись с ним единожды в жизни. За три десятка лет доктор Зайд ни разу не видел ни одного случая и не слышал о нем от коллег. Конечно, симптомы Ричарда могли относиться к чему-то другому, однако его кожу должен осмотреть специалист.
– Думаю, нам стоит что-то сказать Ричарду, – сказал он.
– Но что? – послушно спросила Эвелин.
– Давайте скажем, что есть подозрения на кожное заболевание, которое может помешать ему играть на виолончели. И нужно проконсультироваться со специалистом.
Эвелин с Сэмом согласились, что так будет лучше. Они усадили Ричарда и передали ему слова доктора Зайда. Прием к дерматологу был назначен на следующую неделю.
Ричарда это не встревожило. Он не замечал никаких седых волос и запахов, на уме у него было другое: школа, наставления перед бар мицвой, виолончель, к которой он крепко привязался, и желание сделать так, чтобы Леонард Роуз остался им доволен. Он восхищался Роузом и хотел ему угодить. В тот момент он осваивал несколько сонат для виолончели, требующих много практики. Ему казалось, что мать со своей одержимостью седыми волосами раздувает из мухи слона – его это скорее забавляло, чем пугало, словно седые волосы придавали ему зрелости и солидности.
Настал день приема у врача. Родители с сыном поехали в клинику. Доктор Ньюкамер казался более склонным к тревоге, чем доктор Зайд. Высокий мужчина лет шестидесяти в окружении трех ассистентов и двух медсестер. Он расхаживал с полузакрытым глазом, отчего казалось, будто глаз поврежден из-за какого-то несчастного случал. Каждые несколько минут он открывал его и держал открытым, в какой-то мере доказывая этим, что может его контролировать.
Доктор пригласил Ричарда в свой кабинет. Эвелин с Сэмом остались ждать снаружи. Когда медсестра позвала их внутрь, доктор попросил Ричарда остаться. Он сел за свой большой стол и предложил родителям тоже сесть, как будто должен был сделать знаменательное объявление.
– Мы будем пристально наблюдать за Ричардом. Возможно, здесь не о чем беспокоиться, но с сегодняшнего дня мы за ним наблюдаем, в особенности за его зрением.
– Зрением? – вырвалось у Эвелин.
– Его зрение даст ответ.
– Что вы имеете в виду? – снова спросила Эвелин в полнейшем замешательстве.
Сэм промолчал, хотя тоже не понял, что Ньюкамер имеет в виду.
– Это часть картины седых волос и огрубевшей кожи.
Ни один из родителей не слышал о таком наборе симптомов у подростка, но доктор Ньюкамер не стал смягчать удар. Веко над полузакрытым глазом поднялось несколько раз, когда он сказал:
– Есть заболевание с такими симптомами, вызывающее преждевременное старение детей. Оно такое редкое, что у Ричарда, скорее всего, его нет и окажется, что симптомы относятся к чему-то другому. Но мы должны учитывать такую возможность.
– Как оно называется? – робко спросил Сэм, озадаченный не меньше жены.
– Прогерия, – ответил доктор Ньюкамер, – то есть преждевременная старость.
– Как ее лечить? – спросила Эвелин.
– Никак. Лечения не существует.
Эвелин обмякла, у Сэма помутилось в голове. Лечения не существует, болезнь неизлечима, это конец – примерно таковы были мысли каждого.
Ньюкамер продолжил, глядя на их полные отчаяния лица:
– Не впадайте раньше времени в панику. Случай прогерии приходится на одного ребенка из миллиона. Это такая редкая болезнь, что никто из нас с ней не сталкивался. Я – ни разу. Знаю человека, который сталкивался. Доктор Джон Кук из Бостонской детской больницы диагностировал несколько таких случаев, но в Куинсе ни одного не было. Большинство врачей даже не будут рассматривать такую возможность. Сомневаюсь, что это окажется прогерия, но считаю своим этическим долгом сообщить вам, что такая вероятность существует[8]8
Моя книга воссоздает людей, места, ментальность, а также систему знаний, существовавших в то время; таким образом, прогерия в «Плаще Рахманинова» изображена такой, какой представлялась в 1950-х, а не в наши дни, когда ее исследования сделали большой шаг вперед, несмотря на отсутствие фармакологического или иного лечения. Прогерия была открыта в 1886 году британским хирургом Джонатаном Хатчинсоном (1828–1913), а потом, в 1897 году, независимо от него описана Гастингсом Гилфордом (1861–1941), другим британским хирургом. После Первой мировой войны болезнь стала называться синдромом Хатчинсона-Гилфорда, иногда синдромом прогерии, однако еще не получила статус чрезвычайно редкого генетического заболевания, чьи симптомы напоминают признаки старения, проявившиеся в крайне юном возрасте. В 1920-х годах прогерия обсуждалась настолько широко, что вдохновила Ф. Скотта Фитцджеральда на написание рассказа «Загадочная история Бенджамина Баттона», экранизированного в 2008 году с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт: главный герой рассказа, Бенджамин Баттон, родился семидесятилетним стариком и к концу жизни становится младенцем. Хотя термин «прогерия» относится ко всем заболеваниям, характеризующимся симптомами преждевременного старения, им часто называют конкретно синдром Хатчинсона – Гилфорда. В 1954 году, когда Ричарду поставили диагноз, в медицине уже предполагали, что болезнь генетическая, но это не было доказана Слово «прогерия» происходит от греческих слов «про», что значит «до» или «преждевременно», и «герас», что значит «старость». В 1950-е было еще не ясно, насколько эта болезнь редкая, но сейчас статистически установлено, что синдром Хатчинсона – Гилфорда приходится на одного из восьми миллионов рожденных детей. Дети, рожденные с прогерией, обычно умирают в промежуток от десяти до двадцати с небольшим лет, но во времена Ричарда об этом еще не было известно. Ни Амстеры, ни их врачи не знали, что прогерия – генетическая аномалия, которая возникает как новая мутация и редко наследуется. Однако к девяностым годам было зафиксировано несколько семей, особенно в Азии и Европе, в которых прогерия переходила из поколения в поколение и в некоторых, менее типичных случаях, поражала всех детей у одних родителей. Сегодня ученые особенно интересуются прогерией, потому что она помогает в исследованиях нормального процесса старения.
[Закрыть].
Они вызвали такси в офис доктора Ныокамера и вернулись домой. Все молчали. Сэм чувствовал облегчение от того, что он не за рулем: он был слишком потрясен, чтобы вести машину. Как такое возможно, сказал он Эвелин, чтобы единственного сына поразила эта непроизносимая напасть, этот смертный приговор, чтобы он старился с ужасающей скоростью, словно стремился за ночь сойти в могилу? Теперь Сэм был еще более напуган и взвинчен, чем Эвелин. Он не мог заставить себя произнести это слово на «п», но запомнил его. «Прогерия», – крутилось у него в голове. Как у такого талантливого н здорового ребенка, как его сын, могла возникнуть «прогерия»? Все Амстеры были здоровыми – никакого рака, никаких редких болезней – и умирали в почтенном возрасте от сердечного приступа.
Эвелин подошла к проблеме тоньше, но открыла Чезару с Михаэлой лишь долю правды. Так она могла, не вызывая подозрений, проверить историю болезней ее румынских дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек. Она то и дело спрашивала: не помнят ли они, чтобы у кого-нибудь в Барлате были редкие болезни? Чтобы кто-нибудь преждевременно постарел? Обзавелся седыми волосами? Михаэ-ла ничего такого не помнила. К чему эти странные вопросы?
Когда они вернулись, Эвелин приготовила кофе и поставила на стол маленькие шоколадные кексы, которые испекла вчера вечером. Сэм удалился в спальню. Часы пробили полдень, она посмотрела прямо на Ричарда и, не отводя глаз, стала наблюдать за тем, как он ковыряется в обеденной тарелке. Заметна ли ему невыносимая тревога в ее глазах? Эвелин чувствовала, что сама седеет.
Пока она смотрела, перед ее глазами вместо сына встал облик угрюмого старика, дряхлеющего прямо на глазах, не по дням, а по часам, как эти кошмарные цветы, что вылезают из-под земли в ускоренной съемке. Она вдохнула гнилостный запах, глядя на увядающее выражение его лица – лица человека, уставшего от жизни. Внезапно она с ужасом поняла, что имел в виду Ньюкамер. У их сына болезнь, которая старит его раньше времени! К ритуалу бар мицвы, назначенному на ноябрь 1955-го, Ричард будет выглядеть лет на двадцать или тридцать… или совсем поседеет, а на следующий год у него вообще не будет волос. Сколько ему осталось?
Потянулись еженедельные визиты к доктору Ньюкамеру. Эвелин сама отвозила Ричарда по понедельникам, к 16:00, пока Сэм работал. Она написала Леонарду Роузу, что ей нужно «поговорить с ним конфиденциально», и, когда несколько дней спустя разговор состоялся, Роуз пришел в замешательство. Он никогда не слыхал о такой чудовищной болезни: чтобы мальчик неожиданно состарился? Роуз заверил Эвелин, что руки Ричарда все такие же сильные и с каждым днем он все виртуознее владеет смычком – как же он может стареть, если его моторика улучшается?
Каждый понедельник сотрудники Ньюкамера ощупывали, измеряли и записывали. После четвертого визита Ньюкамер попросил коллегу офтальмолога из Манхэттена проверить Ричарду зрение. Эвелин отвезла Ричарда в больницу им. Слоуна-Кеттеринга, где ей сказали, что у мальчика развивается преждевременная катаракта. Специалист отправит отчет Ньюкамеру, который изучит его в свою очередь и отчитается сам.
Две недели спустя доктор Ньюкамер попросил, чтобы оба родителя присутствовали на приеме в четыре часа. Сэм вернулся с работы пораньше и отвез их.
– Думаю, что это все-таки прогерия, но это еще не конец пути.
Сэм спросил, что доктор имеет в виду под «концом пути».
– Возможно, у нас получится замедлить развитие болезни.
– Вы уверены, – спросила Эвелин, – что это прогерия?
Она впервые произнесла страшное слово в разговоре с кем-то иным, помимо Сэма. Ее сердце разрывалось.
Ньюкамер сидел с каменным лицом, глядя скорее на коричневый ковер, чем на сраженных горем родителей, которым он пытался давать советы.
– Мы должны сказать Ричарду, что он, возможно, серьезно болен, – сказал врач, – даже если диагноз окажется ошибочным.
Оба родителя стали возражать, одновременно перебивая его своими мольбами ничего не говорить. Как сказать мальчику перед бар мицвой, что его жизнь окончена? Мальчику, которому предназначено было стать великим виолончелистом? Как сказать ему, что через год он будет выглядеть, как пятидесятилетний, и никогда не станет взрослым?
Ныокамер молчал. Несмотря на всю его умудренность, ему никогда не доводилось сообщать семье пациента о прогерии.
Медицинская этика в Америке – дело рискованное и редко отличающееся последовательностью. Даже в 1950-е годы считалось, что пациенты должны быть осведомлены о своем заболевании, молодые они или старые, способны или нет понять диагноз, – нужно им что-то сказать. Семьи могли воспрепятствовать этому, как сейчас пытались сделать родители Ричарда, но Ньюкамер всегда говорил откровенно – с родителями, когда дело касалось ребенка. Лечения от прогерии не существует, но он прекрасно разбирался во многих генетических дерматологических заболеваниях с симптомом хронической сухости кожи (например, эксфолиативный кератолиз) и знал, как объяснить их родителям. Ньюкамер был убежден, что честность помогает семье смириться с ужасом болезни.
Он предложил обследовать Ричарда еще несколько недель, а потом отправить его в Бостонскую детскую больницу. Его отношение изменилось: Амстеры были богаты, Ричард был их единственным сыном, к тому же талантливым виолончелистом, что делало его особенным – они пойдут на все, чтобы спасти мальчика. Эвелин недавно рассказала Ньюкамеру обо всем: Хоцинове, Леонарде Роузе, Джульярдской школе – и Ньюкамер почувствовал, несмотря на свое обыкновение объявлять диагноз отстраненно, особое желание спасти этого юного человека, сделать дополнительное усилие.







