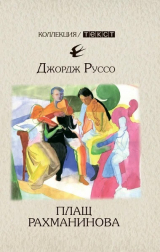
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
На следующий год у Эвелин уже было несколько учеников и она зарабатывала по тридцать центов за урок. Все шло хорошо, пока восьмилетняя Глория не сказала маме, что Эвелин ее укусила. Мать с дочерью пришли к Михаэле с доказательством – красной отметиной на ладони девочки. Михаэла пришла в ужас при мысли, что ее тринадцатилетняя Эвелин могла совершить такое преступление. Эвелин не плакала, но чувствовала себя униженной: ей было стыдно из-за того, что она не могла вспомнить, действительно ли кусала ученицу. Она становилась еще более суровой учительницей, чем Адель.
Но спокойствие восстановилось. Эвелин поняла, что нужно Адели, и давала ей это – методично совершенствовала техническое мастерство. Адель показала ей, что такое мелодия, как ее фразировать, как различать самые разные виды крещендо и диминуэндо, как установить темп и придерживаться его или потерять на свой страх и риск. Чтобы добиться всего этого, Эвелин каждый день упражнялась часами – времени у нее оставалось только на школу. Она стала более замкнутой, обращенной внутрь себя в противоположность чертам, свойственным ее пубертатному возрасту – четырнадцати лет.
Для Эвелин не было ничего важнее Адели, важнее уроков у Адели, ее похвалы, попыток угодить ей, которые редко удавались. Ее успеваемость в школе не страдала из-за занятий фортепиано. Развивалась и ее внутренняя жизнь, подчиненная наставлениям и требованиям Адели, а те были основаны на доверии, какое только властный учитель может внушить своим ученикам.
Однако Михаэлу беспокоило, что дочь меняется и становится непохожей на себя.
– Эвелин, – как-то сказала она, – давай поговорим как мать с дочерью. Что с тобой происходит? Ты так красиво играешь… этот вальс Шопена. Что-то случилось?
– Нет, мама, все в порядке, мне бы только хотелось угодить Адели.
– Значит, что-то не так с этой Аделью. Послушай, дорогая, ты играешь намного лучше, чем у миссис Оноре. Жаль, что у нас нет звукозаписывающего аппарата и ты не можешь себя услышать, – сказала Михаэла, про себя думая, что не стоит говорить это Чезару, иначе он попытается такой аппарат купить.
– Все хорошо, мама, правда. Мое тело меняется… это никак не связано с Аделью. Она вполне нормальная.
Эвелин убедила Михаэлу, но не себя. Она действительно играла лучше – она это знала: ее руки, пальцы росли, техника становилась увереннее, она могла играть быстрее, и громче, и мягче тоже. Но было ли этого достаточно, чтобы возвыситься в глазах Адели? Она терялась перед сложностью поставленной цели. Способна ли она освоить более сложные произведения, которые играли старшие, продвинутые ученики?
Эвелин старалась не слишком сильно себя изводить: волнение не помогало, только вредило. Вместо этого она упражнялась, не покладая рук, и постоянно оттачивала под руководством Адели свои навыки: Бах, Бетховен, Шуберт, Шопен. Ее нисходящие гаммы, восходящие терции и октавы делались все четче, и она ждала дня, когда Адель задаст ей этюды Шопена, как и той девочке, Марсии Шварц из Бруклина, что занималась перед ней.
* * *
Прежде чем продолжить рассказ об обучении Эвелин, я должен объяснить, почему все это для меня так важно: дело не только в том, что Эвелин спасла меня от катастрофы, когда мне было восемь, но и в том, что моя жизнь в юности повторяла ее, хотя я и родился на поколение позже, к тому времени, когда Эвелин Абрамс (урожденная Абрамович) вышла замуж за Сэма Амстера.
Я родился в 1941 году на съемной квартире в Бруклине у потомков евреев-сефардов из Турции. Мать рассказывала мне, что в три года я выпрашивал блокноты, чтобы в них писать, а в четыре – фортепиано, чтобы на нем играть. В те послевоенные годы у них не было денег на фортепиано. Но, как и Михаэла, моя мать откладывала часть недельной суммы на еду и скопила двадцать долларов. На пятый день рождения она купила мне старое потрепанное пианино. Я был на седьмом небе: стучал по выцветшим клавишам и калякал в своих дешевых блокнотах. Мать нашла мне учителя, и к концу первого десятилетия моей жизни я уже играл по-настоящему. Вскоре после этого меня «открыли», и я постепенно стал юным гением, совсем как Эвелин.
Или как мои кузены сефардского происхождения, некоторые близкие, некоторые дальние, особенно из семейств Седака (Нил Седака) и Перайя (Мюррей Перайя). Первые евреи-сефарды, которые приплыли из Турции на остров Эллис около 1900 года, мало что понимали в классической музыке. Они женились между собой, говорили дома на ладино (смесь еврейского с испанским) и радовались тому, как повезло им перебраться в Америку. Их дети первой половины XX века росли с музыкой в ушах: джазом, блюзом, кантри, госпелом, поп-музыкой и даже классикой. И уже их дети – поколение Нила Седаки, Мюррея Перайи, Ричарда Амстера и меня – были одержимы музыкой по причинам, которые никогда толком не исследовались.
В 1930-х годах импресарио Сэмюэл Хоцинов (Хоци), мечтатель и фантазер, основал в Ист-Сайде школу для одаренных детей, куда Эвелин ходила до меня. Хоци был гением: на фортепиано он играл с таким же изяществом, как и обхаживал великих мира сего, находил таланты в неожиданных местах, убеждал родителей посвятить жизнь их талантливым детям и собирал средства на свою школу[5]5
Хоцинов (1889–1964) был практически современником Рахманинова, он тоже родился в России и эмигрировал в Нью-Йорк, когда ему было семнадцать, в 1906-м – год рождения Адель Маркус. В нем рано проявился музыкальный талант, и в двадцать лет он уже выступал с выдающимися виолончелистами, включая великого Яшу Хейфеца, на чьей сестре Полине он женился. Хоцинов также хорошо писал – второй талант, благодаря которому он получил стипендию в Колумбийском университете, где изучал историю и теорию музыки и научился писать критические статьи. Колумбийский университет, входивший в Лигу плюща, был тогда исключительно мужским заведением; там Хоцинов вошел в круг сыновей нью-йоркской элиты и познакомился с миром влиятельных людей – и это в то десятилетие (1920-е), когда детей из еврейских семей туда не принимали и им приходилось учиться в государственном колледже в Гарлеме. В середине 1920-х Хоцинов стал музыкальным редактором в ведущем журнале Нью-Йорка и использовал приобретенные там связи, чтобы завязать знакомство с нужными людьми в мире классической музыки. В 1936 году на посту музыкального директора в Эн-би-си он стал одним из ведущих представителей искусства в Америке. В годы войны он сотрудничал с Артуро Тосканини и написал первую биографию дирижера Toscanini: an Intimate Portrait (1956); критики посчитали предложенный образ спорным, но сошлись во мнении, что биография получилась настолько информативной, насколько вообще возможно. Хоцинов первым открыл множество молодых американских музыкантов из еврейских семей (например, он нашел гениального пианиста Байрона Янкелевича, ставшего известным под именем «Байрон Джайнис», когда тот был еще ребенком, и отправил его учиться к Адели Маркус). Хоцинов написал несколько мемуаров о своей жизни в музыкальной среде, включая A Lost Paradise: Early Reminiscences (1956), описывающие его юность в России как сына раввина, и Day's at the Morn (1956), где он вспоминает, как встречался с разными ведущими музыкантами, в том числе с Сергеем Рахманиновым.
[Закрыть]. Но в годы Великой депрессии много собрать не удалось, а во время войны стало еще труднее, поэтому школа Хоци официально открыла свои двери только в 1946 году. Музыкальная школа на Чатем-сквер ничем не отличалась от таких же изрядно потрепанных зданий к северу от Клинтон-стрит, недалеко от первой квартиры Абрамсов на Орчард-стрит. Выйдя из школы и двигаясь по Клинтон-стрит в сторону Деланси-стрит, ученики оказывались на широком перекрестке, где ветхие дома соседствовали с тросами Вильямсбургского моста, длиннейшего подвесного моста в мире, который сегодня ведет в наиболее ухоженные районы Бруклина.
Вскоре я знал каждый камешек этой дороги, по которой шел к метро, чтобы возвращаться в Бруклин. По субботам на улицах всегда было полно «нью-йоркцев» всех мастей – старых, молодых и по большей части иностранных; магазинчики и забегаловки размером с кладовку и такие же темные были набиты национальной едой и подержанной одеждой; царящая вокруг пестрота и экзотические запахи напоминали скорее картины Лондона XVIII века в стиле Хогарта, чем урбанистическую Америку послевоенных лет. Как и Эвелин до меня, я попал в Чатемскую школу после прослушивания у «импресарио» Хоци, стройного невысокого господина в полосатом костюме. Но я был десятилетним мальчишкой, и мне он казался подобным Зевсу, существом с другой планеты, спокойно бродившим по комнате и щурившим глаза, пока я играл. Это происходило наверху недавно открывшегося Рокфеллеровского центра. Я никогда ни у кого не видел столь беззастенчивого прищура и столь нервных движений. Он назвался Сэмюэлом Хоциновым, потом указал на долговязую женщину в блузке с цветочным узором и представил ее как свою ассистентку Кэролайн Фишер. Она возвышалась над ним, держа в руке желтый блокнот, готовая записывать. Хоци задал мне несколько вопросов, потом указал на «Стейнвей». Помню, как я на цыпочках подошел к роялю и принялся за Гайдна, особенно уверенно играя мелизмы.
После прослушивания меня приняли. Чтобы попасть в послевоенное здание Чатемской школы, нужно было подняться по лестнице из пяти каменных ступенек, открыть двустворчатую дверь и войти в маленький вестибюль с кабинетом по левую сторону, который занимала та самая высокая дама с желтым блокнотом. За кабинетом Кэролайн Фишер находилась просторная комната, которая во времена Эдит Уортон была, скорее всего, светским салоном, а теперь стала концертной залой. На следующих двух этажах располагались кабинеты преподавателей с роялем в каждом, а последние два этажа были разделены на крохотные комнатушки, где ученики упражнялись на пианино, – возможно, когда-то это были комнаты слуг.
Вера Маурина-Пресс – мадам Пресс – практически не поддавалась описанию. Она была не просто легендарным педагогом, о чем я узнал впоследствии (во времена Эвелин ее еще там не было), но и урожденной россиянкой, ученицей самого Ферруччо Бузони. Пресс училась у него в Санкт-Петербурге, а потом, когда он эмигрировал, последовала за ним в Берлин. Американский композитор Мортон Фельдман, родившийся на несколько лет позже Эвелин и, как и я, выросший в Бруклине, стал учеником Пресс примерно в одно время со мной, а когда в 1970 году она умерла в возрасте девяноста лет, он написал в память о ней панегирический ансамбль для духовых инструментов под названием «Мадам Пресс умерла на прошлой неделе в возрасте девяноста лет», – этим произведением любит дирижировать видный оперный композитор Америки Джон Адамс. По словам Фельдмана, мадам Пресс привила ему «глубокое чувство музыки, а не просто музыкальное мастерство». Фельдману было четырнадцать, когда его отец, еврейский эмигрант из Киева, который в отличие от Чезара с его дорогими шубами шил детские пальто, взял мальчика с собой на дебютное выступление Эвелин в Таун-холле, имевшее место, как мы увидим, в 1939 году.
Переместимся в 1949 год, за полгода до катастрофы с виолончелью: моя мать, наслушавшись моих еженедельных рассказов о занятиях с мадам Пресс, дала ей прозвище Древнее Вместилище Ужаса. Пресс с ее ломкими белыми волосами в кудряшках, длинным, словно приклеенным, орлиным носом, длинными высохшими пальцами, которые будто предвещали смерть, и скрежещущим замогильным голосом казалась мне столетней старухой. Она была полной противоположностью миссис Оноре – никогда не улыбалась и не хвалила меня. На втором занятии она сказала, что я неправильно держу руки и протянула собственную правую, чтобы показать, как надо. Ее рука в больших голубых венах была ледяной, словно рука мертвеца, хватающая мою пухлую детскую ладошку. Затем Пресс отстранилась, когда будто собиралась шлепнуть меня, но раздумала. Она положила мне по монетке на каждый палец, чтобы запястье во время игры не двигалось, и проскрежетала, что я не научусь хорошо играть, если монетки не останутся на месте. А если они упадут, пригрозила в качестве следующего испытания обмотать мне пальцы бинтами.
Мадам Пресс заставила меня, двенадцатилетнего мальчика, «слезть» с Дебюсси (как будто француз был наркотиком) и посадила на суровую диету из Баха, Бетховена и Шопена: двухголосые инвенции, ранняя соната Бетховена, прелюдии Шопена. Я никак не мог ей угодить – что бы я ни делал, все было не так: тон, ритм, динамика. Я либо двигал запястьем, и монетка падала, либо играл не ту ноту, либо неправильно ее фразировал. Древнее Вместилище Ужаса приходило в негодование.
Как же мне было не вспомнить свое музыкальное прошлое во время последующей дружбы с Эвелин? Я неоднократно рассказывал ей о тех своих уроках, признаваясь, что, возможно, русское происхождение Пресс с ее неповторимым акцентом и ужасными пальцами произвело на меня неизгладимое впечатление и поэтому я никогда не хотел играть русских композиторов. А Эвелин в ответ с нежностью вспоминала уроки с Аделью и свою одержимость Рахманиновым.
Вернемся в 1930 год, когда Эвелин только поступила в еще не открывшуюся официально школу Хоцинова и теперь учится у Адели Маркус. Преподавательница и ученица прекрасно ладят друг с другом, Эвелин говорят, что готова к прослушиванию на радио. Судьи – великие пианисты Иосиф Левин и Артур Рубинштейн, который тогда жил на Манхэттене. Эвелин сыграла шесть прелюдий Шопена и была провозглашена победительницей. Но она еще четырнадцатилетняя девочка, жизнь которой проходит в Ист-Сайде. Каждую субботу, рано поутру, она в одиночестве едет на урок с мисс Маркус, привычно включая внимательность с боем часов. Она съедает свой сэндвич вместе с другими учениками, пришедшими на занятия, посещает обязательные уроки сольфеджио, аккомпанирования, музыкальной теории и камерной музыки. Ее жизнь постепенно входит в привычную колею, вырабатывается рабочая этика, предписывающая ни минуты простоя.
Бетховен предопределил судьбу Эвелин одним субботним утром в октябре 1934 года, когда вместе с двумя другими девочками – скрипачкой и виолончелисткой – она должна была играть одно из ранних фортепианных трио Бетховена перед преподавателем камерной музыки. В таком составе и с этим учителем (Эвелин не запомнила его фамилию – что-то немецкое, вроде Моссбаха или Моссбахера) они занимались впервые. Повелительно восседая на зеленом диване, преподаватель велел трем девочкам начинать, но едва они заиграли, как он накинулся на Эвелин: «Ты не держишь темпо, дорогая, ты играешь слишком фортиссимо, не налегай на педаль, левая рука должна вступать одновременно с виолончелью».
Эвелин не могла утверждать, что это были его точные слова, потому что он гундосил и завывал – его английский был словно из другой эпохи, интонации выше, чем она когда-либо слышала. К тому времени она уже превратилась в спокойную, владеющую собой девушку, но сдерживать слезы было не легче, чем воду, готовую прорваться сквозь плотину. К тому моменту, как деревянные часы на каминной полке показали, что урок закончен, они успели сыграть только первые такты фортепианного трио Бетховена.
Эвелин убежала в туалет наверху, заперла дверь, и из нее хлынула рвота, а затем слезы и сопли. Никто этого не слышал. Она закрыла голову руками, чтобы не было видно, схватила пальто и поехала домой в Куинс. Михаэла заподозрила неладное: по субботам Эвелин никогда не возвращалась так рано. Молча посидев несколько минут на диване в гостиной, Михаэла отправилась к Чезару, просматривавшему счета за столом на кухне, и тихо потребовала созвать семейный совет, на котором Эвелин вынуждена была рассказать, что случилось. Чезар счел, что она должна остаться в школе на Чатем-сквер, но учителя камерной музыки нужно сменить. Михаэла послушалась Чезара, который решил, что не следует ничего предпринимать, пока они не поразмыслят о последствиях.
Они поступили так, как он сказал, однако, в любом случае, все разрешилось на ежегодном июньском школьном концерте, третьем для Эвелин. Она сыграла все двадцать четыре прелюдии Шопена по памяти. Затем последовали громкие аплодисменты и поздравления. Даже Адель ее поздравила, а Чезар с Михаэлой послали большой букет, который доставила на сцену долговязая Кэролайн, скованно поцеловав Эвелин. Хоцинов, каждый год устраивавший прием после концерта, подошел к ней и сказал, что хочет с ней поговорить – в скором времени.
Несколько недель спустя он, верный своему слову, принял Эвелин в зале на первом этаже и попросил ее сыграть какую-нибудь прелюдию. Его ассистентки Кэролайн там не было. Потом он показал Эвелин несколько фокусов, с помощью которых можно сыграть эту прелюдию лучше. Он так и сказал: «фокусы». «Смотри, – говорил он, щуря оба глаза, – можно получить такой же результат проще, если сделать так-то и так-то».
Он говорил и призывал Эвелин отвечать свободно: «Как ты оцениваешь свой прогресс?» – при этом его блуждающие, безостановочно моргающие глаза как будто участвовали в разговоре.
– Ты замечательно играла в тот вечер, – сказал он.
Эвелин поблагодарила, гадая, к чему он ведет.
– Мисс Маркус, – сказал он, – скоро покинет Чатемскую школу и перейдет в Джульярдскую.
Эвелин была поражена.
– Она бы хотела забрать тебя с собой.
Эвелин промолчала.
– Если ты согласна, я пошлю твоим родителям письмо, уведомляющее, что занятия начнутся через месяц. Мы постараемся найти для тебя стипендию. Но вне зависимости от стипендии уроки будут частными и стоить двадцать долларов каждый.
* * *
Михаэла сочла сумму возмутительной, но Чезар поклялся, что найдет восемьдесят долларов в месяц, в то время это было целое состояние. Нью-Йорк захватила Великая депрессия, без работы остались толпы людей, однако Чезар процветал, по-прежнему продавая шубы богачам. Эвелин видела на Чатем-сквер взрослых мужчин, толкавших тележки с чахлыми яблоками и желтоватыми апельсинами. Никто из друзей семьи в Куинсе не потерял работу, но Михаэла постоянно переживала, что это случится. Она даже боялась, что их могут выслать обратно в Европу.
Но что-то изменилось, когда Эвелин покинула Клинтон-стрит: в Джульярдской школе ее занятия с Аделью приняли иной оттенок. Адель была той же Аделью, той же американкой из Техаса, чьи еврейские интонации в произношении бесследно исчезли, если когда и были, – молодой, скромно одетой, всегда с яркой помадой на губах, прямолинейной, уже выказывающей черты великого педагога, каким она станет после войны. У Адели был живой ум, она много смеялась. Какой контраст, думала Эвелин, между ее прямым подходом и мягкостью мадам Оноре с ее Дебюсси. Грациозная француженка была сдержанной и нетребовательной, снисходительной и податливой, тогда как Адель – жесткой и недвусмысленной; она имела в виду то, что говорила, и обстоятельно объясняла последствия провала.
Со временем требования Адели стали казаться Эвелин неисполнимыми, несмотря на четкие указания: сколько часов упражняться, как и что играть, какой прогресс от нее ожидается и как она должна показать себя за испытательный срок в полгода – испытательный срок, который упомянул Хоцинов и о котором Эвелин старалась забыть. Некоторые ученики Адели демонизировали ее, хотя боготворили сам стиль обучения. Ученица Марсия Хеллер, на год-два младше Эвелин, ко всеобщему потрясению заявила, что Адель ее ударила и поставила синяк под глазом – слух, основанный на пустых сплетнях, ясное дело, как презрительно фыркнул Чезар. «Пусть только попробует ударить мою дочь…» – пригрозила Михаэла, потрясая пальцем перед лицом мужа. Но Адель никогда ее не била, как, наверное, не била и Марсию. Но в отношениях учительницы с ученицей потихоньку нарастало несогласие.
Все еще пребывая в экстазе от того, что она попала в Джульярдскую школу, Эвелин забыла об «испытательном сроке», о том, что он либо сформирует ее, либо сломает; тем не менее Адель изложила план: у Эвелин есть полгода, чтобы проявить себя, и по истечении этого срока Адель не обязана учить ее дальше, если она не справится. Хоцинов в обучении не участвовал, но, если Эвелин станет «звездой», это будет считаться отчасти его заслугой.
Эвелин трудилась до потери сознания, чтобы достичь звездности: Шопен, Шопен и снова Шопен – двадцать четыре этюда по четыре, пять, шесть часов в день. Адель почти не задавала Моцарта и Баха; в обязательную программу входило несколько сонат Бетховена, а также немного Шуберта и Шумана. Ученики Адели сплетничали между собой, сравнивали свои занятия, но некоторые из них – как отмечала в дневнике Эвелин – были коварными: рассказывали что-то только для того, чтобы выудить информацию. Например, если тебя спрашивают, какие этюды тебе задает Адель, это означает, что от тебя хотят узнать, насколько ты продвинулась. А вопрос о том, сколько произведений она знает наизусть, был призван выявить, натаскивает ли ее Адель для концерта. Эвелин чувствовала, что превращается в «соревнующуюся язычницу» – странная фраза, записанная ею в дневнике.
Весной (когда проходили конкурсы) давление становилось невыносимым: постоянное сравнение репертуаров, сплетни о том, кто кого натаскивает для прослушивания, кто продвинулся, а кто нет. Эвелин поняла, что угодила в эпицентр состязательной гонки, из которой не выбраться, – и ей было не по себе. Она сама не могла объяснить свое нежелание соревноваться, лишь интуитивно чувствовала его и потому избегала других участников. Некоторые ученики решили, что она бесполезна, и перестали с ней общаться. Эвелин была не против – ей просто хотелось спокойно упражняться в одиночестве.
Михаэла с Чезаром оказывали ей всяческую поддержку и при каждом удобном случае подбадривали дочь. Она все меньше и меньше времени уделяла школе. Когда срок в полгода истек, на прослушивании была одна Адель. Эвелин играла довольно прилично, по памяти и старалась угодить педагогу своей интерпретацией каждого пассажа, каждой фразы. Адель сказала ей, что она прошла: «Тебе семнадцать, и ты должна побеждать на конкурсах, я жду от тебя, что через год-два ты будешь готова дать дебютный концерт».
Конкурсы, по словам Адели, были похожи на прослушивание для американской радиостанции WXQR, которая специализировалась на классической музыке. Сначала отрабатываешь репертуар сольной фортепианной и концертной музыки, потом появляешься перед судьями и играешь те отрывки, какие они попросят. Все зависело от нервов: если ты спокоен и владеешь собой, то у тебя все получится, но иногда нервы берут верх, и тело выходит из-под контроля. Эвелин следовала ее указаниям. Она победила в нескольких конкурсах и проиграла в других. Наградой были маленькие выступления – ничего выдающегося, просто для того, чтобы она привыкла к сцене перед большим дебютным концертом, о котором Адель говорила на каждом уроке.
Их «медовый месяц» с Адель продолжался почти пять лет. Первая крупная ссора, как я узнал из ее записей много позже, произошла в конце 1936 года, когда Эвелин исполнилось восемнадцать. К этому моменту она «обожала Адель», как говорила своим друзьям и писала в дневнике, и чувствовала себя с ней достаточно уверенно, чтобы высказывать свое мнение. Маленькие размолвки случались и до этого по поводу репертуара или техники, в особенности манеры Эвелин держать руки, которую Адель постоянно критиковала, но именно время дебютного концерта оказалось причиной непримиримых разногласий. Эвелин думала, что этому способствовала недавно возникшая холодность Адель, но дело было в другом.
Адель пропустила несколько занятий, сославшись на свой концерт, стала менее терпимой, говорила резче: «Как я ни бьюсь, ты никак не избавишься от лишних движений!» – и один раз почти ударила ее, легонько шлепнула по руке, пытаясь прекратить «лишние движения», с которыми не справлялась Эвелин.
В действительности Эвелин не понимала этой критики. Она почти не шевелилась, старалась двигать пальцами как можно меньше, но, похоже, это получалось само собой. Она даже попыталась объяснить проблему с «лишними движениями» Чезару, который пришел в замешательство, не понимая, что она имеет в виду. Тогда Эвелин решила все отрицать, но это не помогло, а теперь они с Аделью никак не могли договориться насчет репертуара.
На самом деле они не могли прийти к соглашению по двум вопросам: по поводу репертуара и по поводу самого дебюта. Адель предупреждала учеников, чтобы они не стремились к дебютному концерту, пока не будут готовы. «Одно дело спустить корабль на воду, и совсем другое – сделать так, чтобы он поплыл». Если вы не сможете сразу продвинуться по карьерной лестнице, то это будет пустой тратой времени и денег, а пользы не принесет, наставляла она. Но Чезар скопил тысячу долларов и подталкивал свою «звездную дочь». Эвелин и сама чувствовала, что время пришло, но не смогла бы объяснить почему. Дебют совпал бы с достижением ею двадцатилетия, и ей казалось, что она играет не хуже других учеников Адели. Адель хотела, чтобы Эвелин исполняла тех композиторов, которых точно могла осилить: Гайдна, Бетховена, Шуберта, – тогда как Эвелин желала играть Шопена, Шумана и особенно Рахманинова. Они достигли некоего компромисса, и только Рахманинов оказался камнем преткновения, о который разбивалось всякое согласие между ними.
Споры по поводу Рахманинова будили худшее в Эвелин. Не то чтобы она не уважала мнение Адели – уважала, но только что-то шевелилось в ее душе, когда она играла музыку Рахманинова. Его произведения для фортепиано были сложными, зрелыми, требовали больших рук, и внутри нее поднималась какая-то сила: Рахманинова исполняли люди взрослые, «великие имена» – она сможет стать одной из них, если докажет, что играет на том же уровне. Ее доводы были довольно эгоцентричными, если не сказать абсурдными, и имели мало общего с эмоциональной составляющей музыки Рахманинова. Эвелин была талантливой девочкой, великодушной по натуре, и ранние годы ее были полны самых разных противоречий; незаметно для нее самой музыка русского композитора проникала ей в самую душу. Внутренний голос предлагал ей самые разные доводы, и все они отталкивались от Рахманинова:
«Рахманинов самый сложный композитор – в конкурсах побеждают те студенты, которые играют его музыку».
«Способность исполнять музыку Рахманинова доказывает, что ты достиг высшего уровня мастерства. Баха с Моцартом может сыграть кто угодно».
«Из всех композиторов только Рахманинов умеет так передать эмоции».
«Рахманинова играют взрослые для взрослых, а не дети для детей».
Она откровенно записала эти наполовину обоснованные доводы, вспоминая, что верила в них в юности, как я потом обнаружил в ее дневнике. Мне пришлось реконструировать их контекст, чтобы отнести к тем месяцам постоянных сражений с Аделью. Эвелин использовала их, чтобы укрепить уверенность в себе, и, наверное, они звучали у нее в голове во время каждого урока.
До конца я понял ее конфликт с Аделью уже после смерти Эвелин. Мы с ней получили почти одинаковое образование: раннее поступление в Чатемскую школу, уроки фортепиано, стипендии, конкурсы, мечты о сцене, – поэтому я чувствовал в ее воспоминаниях какую-то непримиримую борьбу и в последние десятилетия ее жизни попросил объяснить ее. Она исполнила мою просьбу во время нескольких ужинов на Венис-бич, пользуясь терминами «тогдашняя Эвелин» и «Эвелин нынешняя»: «тогдашней» она называла себя в противоположность «нынешней», женщине под шестьдесят, которая признавала, что была слишком упряма по поводу Рахманинова. Но тогда, в тридцатые годы, конфликт казался непреодолимым.
«Нынешняя» Эвелин рассказала мне, что ею двигали музыкальные и философские побуждения, а также представления о качестве. Она исходила из того, что, хотя Шопен и Шуман были великими композиторами – Адели не нужно было ей об этом напоминать, – Рахманинов находился на совсем ином уровне, вне пределов досягаемости для большинства пианистов ее возраста, и его музыка уже оставила след в ее душе – странную тоску, которую она не смогла бы описать. Она как будто бы уже в те годы испытывала ностальгию ради самой ностальгии – это была не депрессия, а некая безотчетная возрождающая тоска[6]6
Конечно, я не замечал ностальгической струны в характере Эвелин, когда был маленьким мальчиком, сломавшим виолончель Ричарда. Но чем больше мы сближались в последующие годы, тем яснее я ее видел. После того как я начал свое пространное историческое исследование ностальгии, описанное выше (см. прим. 1), я понял, что у Эвелин был самый что ни на есть ностальгический характер и именно поэтому ее так сильно привлекала музыка Рахманинова. Но свои взгляды я раскрыл только к концу ее жизни. Во время долгого телефонного разговора за год-два до ее смерти я объяснил ей, что, в моем понимании, ностальгия – основополагающая черта человеческой природы, универсальное качество, но по каким-то загадочным причинам, которые никто до сих пор не раскрыл, у одних людей она выражена сильнее, чем у других. Мы поговорили о меланхолическом темпераменте, и я пересказал огромное количество литературы на эту тему, о которой не знала Эвелин. Я отважно огласил ей свое ощущение, что в начале жизни у нее не было сознательного представления об универсальной ностальгии (отличной от медицинской разновидности, симптомы которой можно определить). Что после ее многочисленных трагедий, о которых речь пойдет дальше, она постепенно начала понимать, почему меланхолическая музыка Рахманинова так действовала на нее в юности и, возможно, даже каким-то образом повлияла на то, что случилось на дебютном концерте. Далее я сказал, что в основе рахманиновского чувства музыки лежала гораздо более глубокая меланхолия, чем у Шопена с Шуманом. И еще я сказал, как благодарен ей за то, что она неосознанно помогла мне в моем исследовании, придав форму понятиям медицинской и универсальной ностальгии. Однако в конце 1980-х, когда мы с ней разговаривали, я не мог знать, что впоследствии моя реконструкция ее жизни еще больше поможет мне понять ностальгию с исторической точки зрения. После долгих лет поисков подходящего персонажа смерть Эвелин предоставила мне его – Рахманинова, представила как человека и творца. Не просто человека, который так глубоко на нее повлиял, а историческую личность, которую мог бы понять и я, будучи пианистом и профессиональным исследователем.
[Закрыть]. Если она хорошо исполнит Рахманинова на дебютном концерте, то превзойдет всеобщие ожидания и ее карьера стремительно взлетит. Более внятно она не смогла бы объяснить свои чувства, но тогда – в двадцать лет – она была в них уверена и никому не дала бы себя отговорить.
Я заметил, что для юной девушки это была странная позиция. Эвелин согласилась, и на этом разговор оборвался. Если я пытался вернуться к «лишним движениям», она меня останавливала: «Не знаю, что Адель имела в виду». Если я предполагал, что Адель просто к ней придиралась, она переходила ка сторону Адели и начинала ее защищать. Если говорил, что, возможно, у Эвелин были слишком маленькие руки, чтобы играть Рахманинова, она обижалась: «Я же не замахивалась на Третий концерт для фортепиано!» А когда я пытался утешить ее тем, что она могла бы и пропустить опасные первые каденции, она становилась раздражительной.
Дело было не только в том, что Рахманинов (наравне с Шопеном) был величайшим композитором, когда-либо писавшим музыку для фортепиано – этого мнения Эвелин придерживалась до самой смерти, – но и в том, что он каким-то сверхъестественным образом понимал ее, Эвелин. Говорил с ней, вел ее через сложный период юности. Помню, как позднее, в начале 1970-х, она впервые поведала мне об этом, и я подумал, не сходит ли она с ума.
– Говорил с вами?
– Да, – ответила она. – Я слышала его голос у себя в голове.
– Вы уверены, что это был не Чезар?
Тогда она брызгала в меня лимонным соком или коварно выдавливала мне на голову взбитые сливки.
Я не мог поколебать ее веру и часто задавался вопросом, как она к ней пришла. Но она всегда отвечала одной и той же фразой:
– Ты обращаешься ко мне, пятидесятилетней женщине, или к девочке восемнадцати лет?
Я уступал и умолял обеих Эвелин, старую и молодую, объясниться, но моя жажда понять не играла никакой роли. Ничто не могло поколебать ее укоренившегося мнения. Различие было только в большей эрудиции и зрелости, с которыми старшая Эвелин излагала свои доводы: к тому времени в ее голове скопилось уже столько фактов о Рахманинове, что она могла бы написать научную статью. У молодой Эвелин конечно же не было таких познаний – американской девушке в тридцатые годы негде было что-то узнать о нем, поэтому ею руководило только неизъяснимое воодушевление, охватывавшее ее, когда она играла музыку Рахманинова.
Я не отставал:
– Помедленнее, Эвелин, пожалуйста, скажи точнее, что ты имеешь в виду, какая тоска, почему ты думаешь, что он был столь велик?
И она отвечала:
– Чувства, тоска, желание. Когда слушаешь медленную часть Второго концерта для фортепиано, сердце разбивается на тысячу осколков. Это неповторимо.
К тому времени (семидесятые годы) я отлично знал канонические произведения Рахманинова и бросал ей вызов, заявляя, что это просто сентиментальщина, полная жалости к себе, рассчитанная на то, чтобы пробить слушателя на слезу, и не оставляющая места другим эмоциям, игривости, юмору, но Эвелин продолжала распинаться о важности тоски.
– Тоски по чему?
– Ты бы знал, что такое тоска, если бы страдал так же, как я, – рефреном повторяла она.
Как можно сомневаться в словах женщины, спасшей тебя в детстве от катастрофы, когда она раскрывает душу?
Иногда я пытался оставить в стороне личность Рахманинова и подойти к вопросу философски: «Что есть тоска, если композитор постоянно ей потакает?» В ответ мне предъявлялись обвинения в незнании того, как много в музыке Рахманинова энергии, насколько она виртуозна. А когда я возражал, что виртуозность к делу не относится, что музыка многих композиторов полна энергии и требует виртуозности от исполнителя, она отвечала, что только потерявший все понимает, что такое тоска.
Иногда я подходил к вопросу с автобиографической стороны и спрашивал, какие произведения она сама слышала в живом исполнении в конце 1930-х, понимая, что таковых немного и что в то время были только очень дорогие долгоиграющие грампластинки. Она в ответ говорила о Чезаре и о том, как хорошо они были обеспечены. Понимал ли Чезар ее чувства к Рахманинову?
Перед дебютным концертом он купил ей пластинку с частным образом сделанной записью нескольких прелюдий Рахманинова и отрывком Второго фортепианного концерта, который Рахманинов исполнял сам вместе с дирижером Леопольдом Стоковским и Филадельфийским симфоническим оркестром. Один клиент рассказал ему, что фирма RCA Victor собирается выпускать виниловые долгоиграющие грампластинки; они будут дорогими, но он купит ей одну на день рождения. В октябре 1938 года Чезар сводил ее в Карнего-холл, где Рахманинов играл свою знаменитую Прелюдию до-диез минор. (Много лет спустя Эвелин написала красными чернилами на полях дневника, относившегося к тому году: «Понимал ли хоть когда-нибудь папа Чезар мое непреодолимое влечение к Рахманинову?»)







