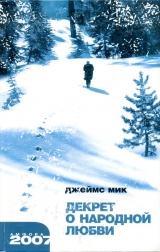
Текст книги "Декрет о народной любви"
Автор книги: Джеймс Мик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Комиссар вскинул брови, поджал губы и почесал затылок дулом нагана. Махнул оружием в сторону Муца, глядящего на Нековаржа:
– Вот пущу офицера в расход, а тебя заставлю телеграф чинить.
– Починить-то, конечно, можно было бы… но я тогда не стану, – отказался Нековарж.
– Ладно, – буркнул комиссар, убирая наган и хлопая в ладоши, чтобы взбодриться и принять решение, – пора провести заседание ревкома.
Пройдя некоторое расстояние, встал в середку стоявших полукругом коммунистов, говоривших по очереди. За пленными приглядывал низкорослый бородатый мужичок в шинели не по росту: молча, не сводя с арестованных парламентеров глаз. Немного погода Бондаренко вернулся, следом брели остальные ревкомовцы.
– Обсудили мы, значит, ваше положение и вот что решили, – начал комиссар.
Все члены ревкома видели большевистский фильм под названием «Зверство», где говорилось о резне в Старой Крепости.
Товарищ Степанов стоял на том, чтобы всех чехов безжалостно перебить за то, как вели себя в фильме.
Товарищ Жемчужин возразил, что некоторые чехи и еврей лейтенант Муц смертоубийство пытались предотвратить.
Товарищ Степанов ответил, что фильм – произведение искусства и что игра актера в роли лейтенанта исказила действительность, в которой не бывает такого, чтоб еврейский офицер пошел против своих же солдат, а его бы за то не хлопнули.
Товарищ Жемчужин возразил: раз образ лейтенанта неправдив, то, может быть, не стоит полагаться и на образы других актеров – откуда знать, делали ли чехи в действительности то, что показано, или нет?
Товарищ Степанов обозвал товарища Жемчужина контрой и клеветником на фильм. Товарищ Титов спросил за капитана Матулу: при эдакой наигранной жестокости – чем не актеришка из буржуазного синематографа? Товарищ Бондаренко сказал: телеграф-то сломан, и неплохо бы, ежели опять заработал. А не починят пленные – так утром с чистой совестью в расход пустим, прежде чем на Язык выйти. Предложение одобрили.
Комиссар провел пленных обратно, к себе в штабной вагон. По дороге Муц чувствовал, что Нековарж беспрестанно на него оглядывался. Делалось неловко. Прежде Муцу доводилось испытывать от Нековаржа уважение и поддержку, но только не благоговение.
– Ну так что? – спросил офицер. – Спасибо, что спас мне жизнь. Отчего ты так смотришь?
– Тебя засняли в фильме!
– Не меня, – поправил Муц. – Я даже не пытался остановить убийства.
– Но по фильму выходит, что пытался, братец, оно нам и на руку!
В поезде Нековаржа под конвоем двух вооруженных красноармейцев отправили чинить телеграф, в комнату за дверью с вывеской «Не входить», предупредив, что чеха ожидает расстрел, если он хоть пальцем тронет книги с секретными кодами.
– Удачи, братец, – напутствовал Муц, и последнее слово отдалось во рту незнакомым вкусом нового лекарства.
– Через полчаса непременно вернусь, братец, вот увидишь! – заверил сержант, скрываясь в тусклом свете, разлитом впереди.
Бондаренко предложил офицеру кресло и позволил устроиться в нескольких саженях от рабочего стола перед дальним окном. Вошел путеец и тотчас вышел, оставив два стакана чаю. Муц обхватил заледеневшими руками чеканный подстаканник. Как там Балашов? Возвращается ли к евнухам в сновидениях былая мужская сила?
Бондаренко согнулся над столешницей, прильнул к стакану, точно обессилел настолько, что не мог поднять. Прихлебывал чай. Откинувшись на спинку стула, выглядел не просто изможденным, но опустошенным. К удивлению офицера, комиссар, несмотря на смущение, заговорил с нескрываемым любопытством.
– Чехи… – произнес Бондаренко, – вечно друг друга готовы поубивать. А зачем? Ты-то, конечно, не из чехов…
– Я гражданин Чехословацкой республики.
– Все в толк не возьму, отчего ваш солдат, Рачанский, своего же офицера прибил. Очень волновался, а товарищ его, Бублик, тот еще сильнее разгорячился, перебивал всё. Не верили, что мы их расстреляем.
– Они были коммунистами, как и вы.
– Ну да, и нам они то же балакали. Случалось, и дело говорили. Но то чехи, а у нас – приказ! Да и говор у них такой, что не разобрать было, что лопочут.
– Вы похоронили расстрелянных?
– Там, на платформе, в хвосте эшелона они.
– У них семьи в Богемии остались.
– У всех семьи.
– Мне придется написать родственникам.
– Всем приходится. Тот солдат, Рачанский, всё твердил об убийстве офицера. То ли похвалы ждал, то ли должности. И всё говорил о том, какой великий революционер пришел в город. Называл его «клинком народной ярости». Кудрявые слова для простого солдата, да нерусского к тому же. Точно заучил где-то. А что, у вас в Языке и впрямь великий революционер объявился?
– Есть беглый каторжник – из образованных, студент. О нем-то Рачанский и говорил.
– Ссыльный?
– Говорит, бежал с каторги за Полярным кругом, с Белых Садов. Зовут Самарин.
Казалось, услышанное ничуть не заинтересовало Бондаренко. Комиссар откинулся назад, балансируя на двух ножках кресла, сомкнув руки на затылке и зевая, рассеянно глядя перед собой. За дверью слышалась работа инструментов по металлу.
– А отчего именно с каторги? – спросил Бондаренко, не глядя на офицера. – Не скупился на краски твой знакомый. В Белых Садах была только одна заключенная, да и та погибла. Так в «Красном Знамени» и написано! – Председатель ревкома поднял газету, лежавшую возле стула на полу, помахал ею перед Муцем и положил на стол. Йозеф почувствовал, как сдавило грудь и как повеяло страшной, близкой угрозой – необъяснимой, крошечной, как игла, и тяжелой, будто гора.
– Может быть, тебя обманули, – продолжал комиссар. – Недавно, несколько месяцев тому назад, советский ученый академик Фролов побывал на воздушном судне в Белых Садах. Ты, должно быть, слыхивал о его экспедиции. Что, нет? – Ободрившись, комиссар нагнулся вперед. – Знаменательное путешествие по Полярному кругу, во имя всего народа, посвященное годовщине Октября. Весь мир следил! Академик Фролов всегда был из наших! Не то что эта гадина из Белых Садов, Апраксин-Апраков. Князь, минералог… На Белых Садах стоял его лагерь, он отправился с экспедицией на Таймыр. Думал, золото найдет, алюминий. Поставил бараки, слуг взял из имения, еще натуралистов с собою привез…
– Так кем же была заключенная?
– Молодая революционерка, бомбистка. Царские палачи дали ее Апраксину-Апракову в употребление.
– В употребление?
– Ну да, на потеху. Буржуазная мораль… И значит, как случилась революция – вот к ним и не подоспели припасы. Там их и нашел академик Фролов. Изголодались, замерзли, умерли и высохли. Что твои мумии…
Муц спросил, как звали заключенную. Бондаренко зашелестел газетой и чуть погодя перевернул страницу:
– Орлова, – сообщил комиссар, – Екатерина Михайловна.
– Товарищ, – вмешался конвоир, – починили!
Офицеру пришлось встать, когда председатель ревкома направился в телеграфную. Муцу удалось перехватить взгляд Нековаржа, мелькнувший за плечами красноармейцев; в обращенном к аппарату сержантском взгляде сквозили радость и приязнь.
Вернулся Бондаренко, принес обрывок бумажной ленты и помахал бумагой перед носом Муца. Подошел. Йозеф дернулся, председатель стиснул офицера в объятиях.
– Победа! – крикнул комиссар и пожал руку. Обернулся и проорал через плечо: – Уведите чеха!
Показался Нековарж в сопровождении часовых. Сержант ухмылялся, Йозеф похлопал товарища по плечам и стиснул руку. Обниматься было не в его правилах.
– Ты гений! – восторгался офицер.
Нековарж пожал плечами и почесал нос.
– Это всё немецкая работа, – произнес чех.
– Товарищ Бондаренко, – произнес офицер, – пожалуйста, телеграфируйте в штаб запрос…
На лице комиссара проступило выражение той самой надежды, что возникла в первую встречу – точно победа Нековаржа над германской технологией убедила председателя ревкома в непобедимости движения, к которому он принадлежал. Однако теперь Муц знал, что надежда обретала очертания лишь на фоне мрачного рока.
– А у нас телеграфист заболел, – сказал Бондаренко, – слег в горячке.
– Сержант Нековарж тоже умеет телеграфировать, – стоял на своем Муц.
– Сообщение требуется зашифровать, – разъяснял комиссар, – вам я коды показать не могу. А кроме меня больше некому. Так что выйдет заминка. От лица русского народа благодарю вас за работу, однако же вас, скорее всего, придется расстрелять, а город возьмут прежде, чем дождемся ответа. Так что придется ждать ответа до заката, а после – выступаем.
Муц глянул на часы. Половина десятого.
– Так у вас же еще часов девять останется, – произнес офицер.
Бондаренко посмотрел на Йозефа ясным взглядом, в котором сквозил призыв к пониманию.
– Мы – путейцы, – произнес комиссар, – и часы у нас выставлены по петроградскому времени. Здесь время бежит вперед на четыре часа. Если от наркомов из штаба Троцкого не будет ответа в течение пяти часов, то вас придется расстрелять, а товарищей ваших – ликвидировать.
– Неужели вам так трудно зашифровать и телеграфировать одну короткую депешу? – недоумевал Муц.
– Но депеше еще дойти надо. Отсюда до штаба – двадцать телеграфных станций, через воюющих всех мастей и расцветок. И разве может такое быть, чтобы ни одна станция не пострадала? Нашито партизаны уж точно должны были белогвардейцам связь в тылу пообрезать, а те, должно быть, в отступлении провода почикали. Но даже если линии уцелели – разве может такое быть, что сообщение телеграфируют в точности так, как было закодировано? Большинство телеграфистов на нашей стороне, даже те, кто под белыми, да только не все! Есть на Урале станция, где дневная смена вывешивает черно-бело-золотой флаг, в память Николая Кровавого, а ночная снимает и вместо прежнего знамени алый стяг вешает. А если сообщение дойдет ни свет ни заря – кто-то должен прочитать его и составить ответ. Да еще обратно телеграфировать, чтобы той же дорожкой прошло.
Муц глянул на Нековаржа.
– Не горюй, братец, – успокоил офицера Нековарж.
Вот и всё, чем мог ободрить Йозефа, а тот понял, что сержанту уже ясно всё, сказанное комиссаром, и что тот уже смирился со смертью. Починка телеграфа оказалась вызовом машине, для постижения которой даже познаний Нековаржа в механике и электричестве и то мало.
Бондаренко по-мальчишески неуклюже подвинул кресло к рабочему столу и нагнулся над кипами телеграфных бланков. Принялся писать, поясняя при этом:
– Я напишу, что вы беретесь до заката представить нам Матулу, живым или мертвым, в обмен за отсроченное наступление и беспрепятственный проход остальных чехов на восток. – Оторвал бланк, поднялся и шагнул в телеграфную. Муц поблагодарил, но Бондаренко не ответил. Закрыл за собой дверь.
Чуть погодя послышалось постукивание – несколько ударов, а после долгая пауза, во время которой комиссар подыскивал кодовые слова. Пленных оставили на попечение пары часовых, стоявших по одному у каждой двери, опустив ружья дулами книзу. Глаза их казались ярче от грязи, въевшейся в кожу лиц.
Нековарж спросил, как зовут красноармейца, стоявшего ближе к нему. Узнал, что звали его товарищ Филонов. Разговаривая, часовой переминался с ноги на ногу, точно тяготился нелепостью оружия. На скрытом бородой лице играла живейшая мимика. Филонов производил впечатление затурканного человека.
– Так ты, товарищ, стало быть, фильм про нас видел? – расспрашивал Нековарж, усевшись на полу возле офицера.
– И что с того?
– А не помнишь ли того актера, что играл чешского сержанта? Собой красавец ли был?
– Тебя же там и вовсе не было! – возразил Йозеф. – Ты же в тот день на вокзале остался.
– Не помню, признаться, – ответил часовой.
Нековарж расстроился.
– А могли бы вставить и меня в фильм, братец, – обратился чех к Муцу, – тогда я бы себя со стороны увидел, вот и починился бы.
– Как это – починился?
– А так, братец. Если парень не нравится барышням, то он – поломанная машина, вот только починиться он не в силах, потому что не видит себя со стороны. Но я-то, братишка, любой механизм отремонтирую, любую штукенцию, что ни дай, только нужно со стороны ее устройство увидеть, в руках повертеть, осмотреть, тогда и сообразил бы, как она устроена. А с собой такой штуки не проделаешь. Я всё пытался барышень оглядывать, как Броучек расписал, чтобы понять, как они работают, а теперь вот думаю: может, это не барышни поломаны, а во мне какая неисправность есть? И я знаю, что могу починиться, кому же как не мне, но себя-то мне и не отремонтировать!..
Муц почувствовал, как в нем вновь зарождается безотчетная, нестерпимая ярость.
– Вот так-то, братец. Жаль, – продолжал Нековарж, – а так бы хотелось себя в фильме увидеть…
– Вполне возможно, что через пять часов тебя так сломают, что и чинить уже не придется, – заверил Йозеф товарища по несчастью, однако же как только высказался, почувствовал, будто лишь усугубил их злоключения, сказав такое вслух.
После мимолетного облегчения перед расстрелом вновь навалилась тяжесть. Мысли понеслись вскачь, но теперь раздумья не сгинули в просторах предчувствия конца. На сей раз они налетели на непроницаемую стену – черную, мягкую на ощупь, однако же непроницаемую, точно обклеенный бархатом утес. В то же самое время другие мысли с легкостью огибали преграду и достигали Анны, и что с нею станет через несколько дней, и Алеши, и Броучека, и даже Дезорта, который, может быть, атаку красных переживет… однако то были странные, блеклые, точно сквозь мутное окошко пролетевшие мысли, ибо думы касались того, что станет после его, Муца, ухода, а те, кого удалось коснуться, отсутствие его, как ни странно, переживут. Не так ли и с привидениями? Мысли о будущей жизни, размышления мертвецов, еще живых, но…
В вагон ввалился грузный вихрастый человек в помятом, заляпанном высохшей кровью, белом халате поверх черного пиджака, годов пятидесяти, с серебристой бородой и волосами, пучками торчащими из ушей; принес бутылку водки и три стакана. Лицо у вошедшего опухшее, сонное, сморщенное, сердитое, будто у новорожденного, которого как ни балуй – не задобришь после страданий, испытанных при рождении.
Сел на место Бондаренко, принялся разливать в стаканы и спросил:
– Чехи?
– Да, – признался Муц.
– А я думал, вас уже расстреляли. Доктор Самсонов. – И представившийся распределил стаканы, подняв тот, что держал в руке.
– И мне бы граммов сто, – намекнул Филонов.
– Солдату на посту пить не положено… Вы что, не знали? – отрезал доктор. – Итак… Чехи… За наше знакомство! Знаете, вы внушаете мне весьма теплые чувства, поскольку я уверен, что товарищество наше продлится всю жизнь… по крайней мере вашу, какая бы малость ни оставалась вам на этом свете. За дружбу до смерти! – С этими словами все трое осушили поднятые стаканы.
– Ты ж тоже на посту, – заметил Филонов.
– Лекарство по рецепту врача, – пояснил Самсонов, вновь разливая водку по стаканам.
– Мне тож лекарство надобно! Всего аж ломает! Лихоманкой скрутило!
– Это пустяки, это всё простуда, – отмахнулся доктор. Опять поднял стакан и выжидательно глянул на Муца.
– Предлагаю выпить за российский телеграф! – провозгласил Муц. Выпили за телеграф.
– Извините, что без закуски, – оправдывался Самсонов. – То ли голод породил революцию, то ли революция – голод? Всё никак в толк не возьму…
– Это из-за того всё, что кровососы навроде тебя с народом имуществом делиться не желают! – вставил Филонов.
Доктор вздохнул:
– Видите ли, я был либералом. Всю жизнь мечтал и друзьям рассказывал: вот дадут свободу, не станет царя, не будет дворянства и священников… Так ждал!.. А теперь, когда мечты осуществились, мне совсем не нравится происходящее. – С этими словами доктор вновь наполнил стаканы и распределил. Нековарж неспешно поднялся и предложил свой стакан Филонову. Тот принял.
– Невероятно! – воскликнул доктор. – Приговоренный к смерти выполняет желание палача! Никогда прежде не видел ничего подобного…
– За победу мировой революции! – рявкнул Филонов и залпом осушил стакан. Помедлив, высосал водку и Самсонов. Муц не отставал.
Рот у доктора вытянулся так, что сделался похож на лягушачий, а нос сморщился.
– Первые лучше прошли, – заметил эскулап.
Распахнулась дверь телеграфной, явился Бондаренко. Деликатно протиснулся мимо Филонова и смерил взглядом врача – тот привстал со стула. В движениях его сквозила некоторая виноватость, точно у актера, изображающего застигнутого в барской библиотеке слугу.
– Сидите, – успокоил врача комиссар, – вы же с нами сотрудничаете…
Доктор сел, а председатель ревкома растянулся на полу, напротив Нековаржа и Муца, опершись затылком в вагонную стенку. Прикрыл глаза.
– Телеграфировали? – спросил Муц. – А, товарищ Бондаренко?
Эскулап, по-прежнему двигавшийся точно пародия на нерасторопного семейного дворецкого, наполнил водкой еще один стакан, опустошив бутылку, и с преувеличенной деликатностью, на цыпочках, будто болотная цапля, доковылял до того места, где устроился комиссар. Бондаренко открыл глаза, глянул вверх, покачал головой и смежил веки. Доктор, всё так же на цыпочках, приковылял обратно, осушив стакан по пути.
Муц предпринял новую попытку:
– Товарищ…
– Да отправил я вашу телеграмму. Спите, чехи. Разве им не положено спать, товарищ доктор?
– Да, – согласился Самсонов, кивая и силясь вытряхнуть последнюю каплю из бутылки себе в стакан. – Если бы сон их оказался глубоким, узнали бы, что уготовано судьбой, и мига бы не прошло. Минуты сна равняются годам, так что за несколько часов до рассвета успели бы прожить целые жизни. По крайней мере, сам я только во сне и живу.
Муц обернулся к Нековаржу.
– Братец, – выговорил офицер, нахмурился, но тотчас же улыбнулся. – Да, теперь-то я понял, что значит это слово. Не смотри на меня так, прошу.
– Как?
– Точно обо мне беспокоишься сильнее, чем о себе самом. Как тебя по имени?
– А зачем говорить, братец? Ведь вернемся к остальным – снова по фамилии звать придется, самому же неудобно будет.
– Можно подумать, нам удастся уйти отсюда живыми.
– Ну, я-то, братец, ничуть в этом не сомневаюсь. Верю я в эту искорку, что по проволоке полетела. Проволока, братец, тонкая, длинная, но искорка – она как свет мчится! Лучше нет средства, чтобы весточку передать. Ни холодно ей, ни голодно, и устали не знает. Вот она здесь, а глядишь – и там уже, в пятидесяти верстах, чуть ли не в мгновение ока долетела. Так что не тревожься, братец. Дошла уже телеграмма.
– Но телеграфистам придется передавать дальше!
– За них я, братец, ручаться не могу. Но ведь для того и сидят телеграфисты, чтобы искорку эту дальше перегонять. Кто они такие, чтобы свет останавливать?
От выпитого натощак голова у Йозефа кружилась, в висках колотило, в глазах резало, и все конечности ныли. Засыпал. Оставалось бороться со сном, чтобы смаковать последние часы. Вот только в вонючем, тесном загоне смаковать было нечего. По звуку комиссарского дыхания можно было без труда догадаться, что он уже забылся сном. Доктор прикорнул за столом, головой на сплетенных гнездом руках. Не спал один Филонов; часовой прислонился к стене, прикладом ружья упершись в пол. В Москве четверть одиннадцатого, а здесь – два часа ночи. Анна, должно быть, уже давно уснула глубоким сном.
– Нековарж, – обратился Муц к сержанту. Йозеф увидел, как между холмов в сибирской ночи пролетали от края до края горизонта вспышки. – Я знаю, как женщины устроены. Сейчас объясню. Ты слушаешь? Нужно уверить дам, будто посылаешь им весть. И не беда, если женщины не понимают кода. Главное – чтобы верили, будто послание важное, что от них зависит, сумеешь ли ты донести смысл. Понимаешь ли, Нековарж? – Но чех уплывал вдаль на льдине и молчал.
Муц пробудился. Телеграф клацал, точно зубы. Часы показывали пять утра по местному времени. Спали все, кроме часовых: те дремали. Йозеф встал. Закричал:
– Товарищ Бондаренко! Телеграф! Ответ пришел!
Вагон ожил. Филонов вскинул ружье и прицелился в Муца. Бондаренко зевнул, моргнул, поскреб пальцами темя и поднялся. Глянул на офицера, кивнул и медленно направился в телеграфную. Проснулся и Нековарж.
Йозефу казалось, будто он чувствует запах пробивающегося рассвета, впитавшего южный ветер и кедровый дух.
– Вот так искорка! – воскликнул чешский сержант.
Вернулся Бондаренко, держа зажатые в кулак бумажные жгутики. Поглядел на Муца, покачал головой:
– Местные известия… Сообщение из Верхнего Лука, по здешней линии. У твоей бабы, Филонов, сын народился.
Часовой покраснел, ухмыльнулся. Начал было «Вячеслав… Славка…», но тотчас осекся и потупил взгляд. Когда вновь поднял глаза, то успел совладать с улыбкой, напустив на себя серьезный вид.
– Никаких поповских имен! – заявил часовой. – Пусть будет Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция и Троцкий! Мелортом назову!
– Мелорт, значит, – повторил комиссар и кивнул. – Хорошее имя, верно отображающее нашу коммунистическую действительность. Действительно, Слава – в самую точку!
– А если внук родится, – просипел сквозь завесу кашля проснувшийся доктор, – то можно и Мелортом Мелортовичем назвать…
Подойдя, Филонов что есть силы заехал доктору по уху. Самсонов вскрикнул, пошатнулся, но не упал. Со стола слетел стакан, покатился по ковру, однако не разбился. Читавший ленту комиссар поднял взгляд.
– Говорил же я вам, доктор, – бесстрастно произнес председатель ревкома, – не издевайтесь над рабочим классом. Было время, когда ваши только и делали, что зубы скалили – то над простыми людьми, то над дворянством, то друг над другом… Но кончилось ваше время. Стоит пошутить над новым человеком, человеком дела, – и вас ударят, чтобы под ногами не путались. Кстати, товарищ Филонов, может быть, ребенку лучше подойдет имя Роза?
Все недоуменно взглянули на Бондаренко.
– Ошибочка у меня вышла, не так прочитал. Дочка родилась.
Муцу не спалось. Телеграф пищал безостановочно. Часовой стрелки на часах будто и не было. Минутная бестолково дергалась, с каждым тиканьем преодолевая одно деление. Отвести от нее взгляд не было сил.
Усевшись на полу, сонный Бондаренко неспешно разбирал телеграфные ленты. Муц смотрел то на часы, то на комиссара и снова на циферблат, однако безучастность брала верх. Точно расстреливать станут кого-то другого, а он, Йозеф, уже мертв, и загробная жизнь его протекает здесь, в вагоне. Неужели уже светает и пробивается в черноте синева?
Шелестел зажатыми в руке бумажными лентами комиссар, храпел доктор, стучал телеграф, и все чудеса света, вся жизнь мира сводились к беззвучному подрагиванию часовой стрелки под стеклом. Оставался час и сорок пять минут. Муц почувствовал: как-то сама собой с ним случилась перемена, вернулась былая бодрость и ясность рассудка. Усталости не было. Пропало головокружение, чувства обострились. За единственный миг удавалось видеть, обонять, чувствовать и слышать больше, чем прежде переживал за день.
Жирные отпечатки пальцев, размазанные по водочной бутылке, яркие латунные гильзы от патронов Филонова, еле уловимый шорох двух концов телеграфной ленты, трущихся друг о друга, щелки под тесовым настилом, на котором сидел Йозеф, запах сухого сапожного голенища и то, как выпячивал во сне челюсть Нековарж…
Вспомнилось описание Могиканина по рассказу Самарина – самоконтроль, дар обозревать прежнюю, нынешнюю и будущую жизни единой панорамой, и поступки точно мазки по картине жизни, не постижимые никому, покуда не завершено полотно.
– Доктор, – заговорил Йозеф, – просыпайтесь, доктор. Проснитесь. Прошу вас. Доктор, послушайте. Это важно. Как вы думаете, может ли человек настолько владеть собой и страстями своими, что будто таится внутри самого себя, точно авиатор внутри аэроплана, и направляться в любую сторону, какую бы ни выбрал, так чтобы другим казалось, будто он – в точности таков, каким его хотят видеть?
– Боже мой, – простонал доктор, – столько смертей, голова раскалывается, а тут еще вы с такими разговорами…
– Но давайте предположим! – не сдавался Муц. – Допустим, человек предстает перед нами то сильным, безжалостным людоед ом-убийцей, то образованным, приятным в общении, обходительным студентом. Указывает ли смена обличий на безумство или же, напротив, на отменное самообладание?
– Мне в студенчестве всегда есть хотелось, – насилу выговорил доктор. – У профессора, что анатомию читал, так бы и съел полтуши. Уж больно упитанный был…
– Да я не о том! – возразил Муц.
Не отрываясь от телеграфных лент, Бондаренко тихо и жизнерадостно спросил:
– Да и почему бы студенту не быть людоедом, а людоеду – студентом?
– Неплохой способ штудировать анатомию, – поддержал доктор.
Бондаренко посмотрел на Муца. Тот протирал глаза, тер по зубам языком.
– Больно уж ваше мышление старомодно, – произнес комиссар. – Такие люди и впрямь существуют, и когда-нибудь всё человечество станет на них похоже, но не тем, о чем вы рассказали. Внутренний авиатор перестанет таиться. Тайны – для капиталистов и буржуазных эксплуататоров. Человек коммунистического общества сделается хозяином своих страстей, ему не нужна будет тайна. Человек сделается гордым. Будет странствовать по жизни в точности тем же курсом, который сам и народная воля проложит. Своим и народным, пока оба пути не сольются воедино, так что и не различишь.
– Но для чего тогда друг друга есть?
– А никто и не говорил, что людоеды будут, – возразил комиссар.
– Если жизнь большинства важнее жизни одного человека, – продолжал Муц, – то отчего бы людоедам и не быть? С чего бы одному человеку не пожертвовать другим и не съесть его ради народного блага?
Председатель призадумался.
– В таком поступке должен быть очень глубокий смысл, – ответил Бондаренко.
– Ах, смысл!.. – вздохнул доктор.
– И разумеется, требуется пленарное заседание соответствующей партийной ячейки, с голосованием…
– Вот, пожалуйте: здравый смысл, справедливость и людоедство… Ну, чем вам не утопия!
– Это всё вы у себя в кабинетах нафантазировали, – продолжал председатель, по очереди улыбаясь Муцу и доктору. – Тут и доводов лишних не требуется, и так ясно, что класс ваш свое уже отживает. После революции все богатства поделят по справедливости и голодных больше не будет. Вы как дети малые. Ни разу в жизни равенства не видели, потому-то и не верите в справедливость. Конечно, откуда же взяться тому, во что не веришь?
– Взять хотя бы Бога… – вставил Муц, – или русалок…
– Заметьте, не я это сказал! – крикнул Самсонов, обращаясь к комиссару и указывая на Йозефа.
Однако Бондаренко ничуть не беспокоило услышанное.
– Куда бы человек ни глядел – нигде, кроме как в своей голове, ни Бога, ни черта ему не сыскать. А вот несправедливость по отношению к другим – повсюду. Я прав, товарищ Филонов?
– Бывало, денно и нощно молишься, – откликнулся часовой, – иконы целуешь, праздники блюдешь, в пост – что твой святой. И отец, и дед мой веру блюли. А тут еще поп, забулдыга, бабник и ворюга, вынь ему да положь половину жалованья за свечи и поминальную! У жены дите народилось. Сын. Здоровый, щенок, загляденье – кровь с молоком. Имя ему православное подыскали: Мефодий. Так поп за крестины руль стребовал. А откуда ж ему взяться? Зима, семье одежа нужна. Пропитания не хватает. А поп уперся: не дашь рупь – не стану крестить. Ну, я не мог такого допустить, чтобы дите некрещеным оказалось, и так уже товарищам половину годового жалованья задолжал, так что вытребовал с хозяина завода задаток, заплатил попу, ну и окрестили мальца. А тот возьми да и расхворайся. Опять, значит, на лекаря денег ищи. Товарищи мои уже косо глядеть стали. Хозяин сказал: дескать, и так ты перед нами в долгу. К попу сходи. Там всё золотом горит, рожа у попа – что часы на вокзале, ест за пятерых, стряпуху себе завел, в доме электричество. Столько лет кровь у меня сосал! Прихожу и говорю: батюшка, одолжи рупь на лекаря. Не могу, грит. Я спрашиваю: что так, я же тебе столько давал? А он мне: не могу, сыне, потому как не мои деньги – Божьи.
Так и помер малец. Наши в мастерской гробик спаяли из ржавой железины. А как в могилу стали класть, тут и поп на кладбище показался. Не кручинься, сыне, о деньгах на похороны, – говорит, – опосля уплотишь.
Доктор открыл было рот, но увидел, как Филонов занес кулак, и промолчал.
Часовая стрелка дрогнула, продвинулась вперед. Муцу подумалось, станут ли его расстреливать во сне и не окажется ли такой исход лучше. Йозефа не тревожила боязнь потерять лицо. Не хотелось умирать через час, но, видимо, придется.
Много ли человеку времени нужно? Год – уже много. Месяц – и то чересчур. А вот недели хватило бы. За неделю можно немало успеть. Стольким поможешь, столько тайн раскрыть можно, если знаешь, что жить осталось семь дней и что после смерти тебя будут добрым словом вспоминать. Настанет последний час – и захочется пожить еще неделю. Никто не готов к смерти через час.
– Председатель Бондаренко, – попросил офицер, – нельзя ли еще телеграмму отправить? Не кодированную. Пустячный запрос. По всем сыскным управам разослать надо бы. Может статься, полученные данные пригодятся после моей смерти вашим дознавателям, чтобы выяснить подлинную личность этого великого революционера из Языка, Самарина. Был, а может, и до сих пор есть такой разбойник и вор по кличке Могиканин. Не могли бы вы запросить полицию, красных или белых – все равно, пусть представят известные им сведения. Кто-нибудь да ответит…
– У нас нет полиции, – ответил Бондаренко. – Коммунисты у товарищей не воруют.
– Так вы не станете телеграфировать?
– Нет.
Медленно кивнув, Муц скрестил на груди руки. Глянул на Нековаржа: казалось, сержант снова видел сны и улыбался. Доктор притих, голова его покоилась на столе.
Офицеру казалось, что этот миг необходимо запомнить, однако же в голову лезли мысли лишь о том, запомнят ли его. Полгода тому назад пришло письмо от пражского дядюшки. Родных не осталось. Нековарж умрет вместе с ним. Анна погрустит, но недолго. Отчего-то сильнее всего хотелось остаться в памяти Алеши. Есть нечто почетное, прекрасное в том, чтобы стать частицей детских воспоминаний. Отцом ему теперь уже никогда не сделаться, но и те мужчины, что лишены отцовства, могут стать родителями – на миг, на час… И впервые почувствовал то, что прежде постигал рассудком или даже предрассудками: трагедию Балашова и Анны, мужа и жены, отца и матери, живущих за версту друг от друга, отрезанных навечно единственным ударом ножа и отныне разделенных вселенской пропастью. И не было в чувстве его ни осуждения Балашова, ни ревнивой злобы на Анну. Руку с ножом, превратившим кавалергарда в кастрюка, направили те же велеречивые духи войны, вины, веры и самоотвращения, что внушали Йозефу презрение к скопцу. И если ему, Муцу, суждено жить дальше, то главнейшим делом для него станет примирить тех, кого он с таким рвением старался разделить. Не то чтобы оставалась надежда выжить… Йозеф вдруг обнаружил, что разглядывает собственный труп на снегу, и подивился его странной неподвижности – тому, как, в сущности, просто остановить столь замечательный механизм. И заснул.








