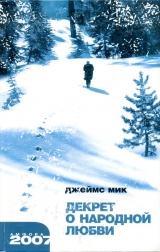
Текст книги "Декрет о народной любви"
Автор книги: Джеймс Мик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Несколькими минутами позже женщина приблизилась к зданию городской управы, вошла во двор, где одиноко стояла заброшенная, точно валенки покойника, конура, в которой держали шамана. Тунгуса видела несколько раз, однажды заговорила, задумав сделать его дагеротип на одной из немногих оставшихся пластинок. Он встал, закинул закованную в цепь ногу поверх свободной, скрестил руки на груди, покачал головой и даже взглянуть на нее отказался. Вероятно, приверженец веры в духов надеялся смутить женщину своей непреклонностью. Хотя случаются на свете такие чудеса, что туземным колдунам и во сне не привидятся, ибо доступны лишь воображению крестьян черноземной полосы или милым, благовоспитанным барчукам из предместий Москвы и Петрограда.
В некотором удалении от лачуги собрались люди, беседуя, засунув при этом руки в карманы, точно вышли на время антракта театрального представления. Обернулись, глядя на Анну. Чехи толпились группками.
Женщина увидела Муца, пребывавшего в некотором смущении, точно он собирался переговорить с Глебом, но она помешала. Стоило подумать о Йозефе – что случалось довольно часто, – и всякий раз вспоминалось именно это обеспокоенное выражение лица, а редкие мечты о замужестве неизменно обрывались образами того, как пытается она отвлечь нового супруга от очередного кропотливого корпения под светом огромной лампы в удаленной комнате. Рядом с этим кандидатом в мужья находился сержант Нековарж, искусный мастеровой, починивший печь и донимавший Анну странными расспросами, наподобие «похоже ли женское сердце на очаг», единственный из командного состава человек, исполненный не менее сильной, чем рядовые, решимости оставить Сибирь при первой же возможности. Солдат Бублик, называвший себя коммунистом, но так и не осмелившийся дезертировать и присоединиться к красным, держался поодаль. Дальше стоял земский начальник Скачков, по-прежнему числившийся представителем гражданской власти в омских архивах белогвардейцев, но лишь на бумаге. Вслед за долгим и успешным опровержением слухов, что город едва ли не целиком населен ужасными чудовищами, предающимися греху столь нелепому, что само имя его отвратительно, уничтожение прежних порядков, цареубийство и взятие города чехами оказали на чиновника воздействие, подобное психическому расстройству. Скачков по-прежнему был в состоянии ходить, разговаривать, есть и пить без посторонней помощи, однако ежедневно, приходя в свой кабинет, усаживался за большой стол со столиком поменьше, поставленным рядом для никогда не захаживавших посетителей, и созерцал пустоту – дрожа, изредка откашливаясь и приводя кипу лежащих перед ним старых документов в порядок, так чтобы края их образовывали ровную линию.
В центре собравшихся стоял Матула. Капитан обращался с жителями Языка играючи, так что Анна поражалась, как еще ему не наскучила забава. Неужели довольствовался тем, что предложено? Казалось, Матулу питает сама тьма, скопившаяся под миллионами таежных деревьев, и что капитан ведет теням учет, подобно тому как иные ведут счет золоту. Обзавелся собственной свитой: Ганак с выступающим носом и выдающейся челюстью, отчего лицо его напоминало собачью морду: безответный офицер Дезорт и жена Скачкова, Елизавета Тимуровна, любовница Матулы, возненавидевшая Анну за равнодушие, с которым та встречала все обращенные к ней колкости. Не видно лишь ненавистного Климента.
Капитан с любовницей хихикали, точно пьяные, но казалось, то был хмель, не сковывавший, а, напротив, ускорявший движения. Матула спросил Анну Петровну, не для себя ли она принесла провиант.
– Мне неизвестно, хорошо ли кормят арестанта, – произнесла женщина. – О заключенном, что был здесь прежде, вы не позаботились.
Елизавета Тимуровна ахнула и неодобрительно прищелкнула языком. В стороне Бублик, изучивший семгу, пробормотал:
– Буржуазия!..
– А я думал, вы можете иметь при себе лишь кошерную пищу, – бойко зачастил Матула. – Разве не потеряли мы шамана? Потеряли! А всё Муц, растяпа. Теряет тунгусов, коней, доверие… Не знаю, хватит ли арестанту времени на трапезу. Может статься, признаю его виновным в мгновение ока. Пиф-паф! Вот и разделим между собой трапезу Анны Петровны… Хлеба и рыбы…
– Пан главнокомандующий, – заговорил Муц, – нам пора.
Десять человек зашли в старое здание суда: тесную комнату со скамьей для подсудимых, сиденьями для публики в два ряда и с большим, на возвышении в несколько вершков над полом, обитым кожей креслом с подлокотниками.
Подойдя к креслу, капитан ткнул его, уселся, вольготно развалясь, достал револьвер, прикрыл один глаз, прицелился в скамью подсудимых, положил оружие на колени и махнул Муцу. Тот кивком послал Нековаржа за арестантом. Остальные расселись по местам.
Через минуту, полную беззвучного ерзанья на сиденьях и покашливаний, раздались шаги двух человек, и в комнату вошел Самарин, а следом Нековарж, упершись дулом винтовки в спину подсудимого.
Оглядевшись, Самарин кивком приветствовал общество, пожелав доброго утра, на что Анна ответила улыбкой, а Бублик вежливо поздоровался и назвал братишкой.
Кирилл собрался было занять место в первом ряду, напротив Матулы, однако же Муц шагнул к нему и, взяв под локоть, отвел к скамье подсудимых.
Подсудимый хотя и удивился, однако же безропотно прошел к указанному месту, где и встал, оглядев всех открытым взором. Взгляд его на миг задержался на Лутовой, и молодой мужчина улыбнулся. Женщина почувствовала, как зарделась, точно гимназистка.
– Именем… – начал было лейтенант, но его перебил капитан:
– Да что с вами такое?!
– Это всё волосы, – пояснил Самарин.
– Но у вас же нет волос!
– В том-то и дело, – согласился подсудимый. Анна, Дезорт и Нековарж рассмеялись. Самарин дважды отряхивал головой, точно одолеваемый оводами конь или больной падучей. – С утра мне обрили голову. Тяжело, семь месяцев проходил с длинными космами. К чистоте не сразу привыкаешь. Спасибо Бублику, – арестант поклонился чеху, тот крякнул, – и Рачанскому, что дали горячей воды, свежее белье, а волосы сожгли.
Дождавшись кивка капитана, Муц заговорил вновь:
– Именем временного правительства Языка, от лица капитана Матулы открываю судебное слушание касательно прибытия прошлой ночью в наш город господина Самарина без документов, приблизительно во время, совпавшее с гибелью шамана. Подсудимый, извольте назвать ваше полное имя, возраст, место постоянного проживания и род занятий.
– Имею ли я право на адвоката? – осведомился Самарин.
– Нет! – отрезал Матула.
– Неужели меня судят? Но каковы же обвинения?
– В том, что личность ваша не поддается установлению, – сообщил Матула. Надул щеки, уперся дулом револьвера в лоб поверх переносицы, почесался, прикрыв глаза. Капитан утрачивал бойкость. Приосанился, лениво глянул на арестанта. – Послушай, дружище, – произнес Матула, – тайга кишит лазутчиками красных, а мы о тебе ни черта не знаем. Вот Муц, например, думает, что ты протащил литр спиртного для шамана…
– Пан главнокомандующий, я вовсе не…
– Не сметь перебивать меня, ты, жид пархатый! К тому же пан Муц полагает, будто ты представляешь опасность для общества. А тут еще и гибель моего прекрасного, доблестного скакуна, он погиб, и кто-то пытался его… – Капитан часто задышал. Вдохи становились все громче и громче, пока Матула не разразился криком: – Сожрать! – Пистолет соскользнул и заелозил дулом по нижней губе. – По эту сторону Урала закон – это я, – спокойно произнес командир легионеров. – Так что выкладывай. Если твоя повесть придется мне по душе – заметь, я говорю не о том, если поверю тебе, а что мне должен прийтись по нраву твой рассказ, – то, быть может, я и отпущу тебя. А нет… что ж, времени на раскаяние, что ничего лучше не выдумал, тебе хватит с лихвой, а после, как новую байку выдумаешь, будешь ею кормить воронье.
Река
– Зовут меня Кирилл Иванович Самарин, – начал каторжник. – Родился я третьего февраля тысяча восемьсот восемьдесят девятого года, в Финляндском княжестве, а по смерти родителей был увезен к дядюшке в Радовск, близ Пензы. Был в студентах, пока не арестовали в пятнадцатом. Иных занятий не имею. Об участи родных и судьбе жилища мне неизвестно. Полагаю, их затронули существенные перемены.
Бублик и Рачанский раздобыли для арестованного крестьянский сюртук и портки, однако же не нашли ни сапог, ни пальто. Подсудимый стоял в тех же разбитых башмаках, в которых пришел, на плечи накинул одеяло. Говоря, накидку снял, сложил и оставил на скамье подсудимых, на краешке. Лицо, как и голову, ему обрили. Вскоре каторжанин перестал откидывать со лба несуществующую прядь, однако же Анне казалось, что утрата волос тревожила и смущала Самарина.
Говоря, он поочередно поворачивался к каждому из собравшихся и таращил глаза, точно взывал: «Уж вы-то наверняка поймете, о чем я рассказываю?!» Никто, включая земского начальника Скачкова, ни разу не взглянувшего на подсудимого и не выказавшего ни малейшей заинтересованности, не избегнул пронзительного взора.
Кирилл позволил себе смотреть на Анну несколько дольше, и женщина радовалась, что взгляды их встретились, пока встреча не переродилась в состязание, которое Лутова проиграла, или, вернее, не желая соперничества, отвернулась.
– Прошлой ночью вы рассказывали, что вас арестовали по подозрению в причастности к подполью. Что при вас оказалась бомба, – заметил Муц, – хотелось бы…
– Ай-яй-яй, Муц, – укоризненно произнес Матула, незанятою рукою прикрыв глаза. Потер переносицу, и револьвер в руке дрогнул. – Дайте же человеку досказать свою повесть! И не перебивайте более. Я сейчас за себя не ручаюсь.
Муц, стоявший между Матулой и скамьей подсудимых, поджал губы и шагнул в сторону, прислонившись спиною к противоположной стене. Самарин оглядывал лица одно за другим.
– Почтеннейшая публика, дамы и господа, офицеры и солдаты Чехословацкого корпуса, пан главнокомандующий и товарищ Бублик, прошу вашего внимания! – заговорил подсудимый. – В нескольких изумительных по краткости словах офицер Муц обрисовал основания для моего ареста, упомянув бомбу, выкраденную мною, дабы спасти юную особу от последствий ее же собственной беспечности.
Предлагаю вам повесть о перенесенных мною муках на каторжной высылке, именуемой Белые Сады, а также о причинах, подтолкнувших меня к побегу, и о том, как удалось осуществить мой замысел, приведший меня в ваш город.
Прежде чем приступить к рассказу должен вновь вас предостеречь, как предостерегал прошлой ночью лейтенанта: убежден, что человек, помогший мне бежать, урка, известный мне лишь по кличке, именуемый Могиканин, преследует меня от самой дикой глуши и здесь, в тихом пристанище.
Убежден, что злодей, виновный в гибели шамана, находится здесь, в Языке. Уверен: именно он повинен в гибели тунгуса, а также в надругательстве… не могу выразить словами, капитан Матула, сколь прискорбным считаю возмутительный поступок его… виновен в надругательстве над вашим конем.
Какой бы конец ни был мне уготован, убедитесь в прочности запоров и держите оружие наготове. Могиканин… А впрочем, по порядку. Позвольте же мне, друзья, начать с великой серединной реки, с Енисея.
Пока Самарин рассказывал, заручаясь вниманием слушателей, Анне оставалось лишь дивиться тому, насколько живым и бесхитростным казался умоляющий взгляд этого человека по сравнению с мерзостью описываемых событий. Заметила, что уже признала подсудимого невиновным, и теперь уж не раздумает: невиновен, что бы ни пытался приписать Самарину Муц. Поразилась, как скоро вынесла решение, и поняла, что нет более убедительного свидетельства, чем человек, способный прочувствовать всё многообразие мироздания – самые отталкивающие проявления его, а раз так, то, вероятно, и прекраснейшие моменты, ни на йоту не предаваясь душой ни одной из крайностей и не испытывая к таким проявлениям привязанности.
Нельзя сказать, чтобы то была убежденность. Скорее, в сердце ее зародилось очарование. Порой, когда подсудимый рассказывал, на миг теряя связь с публикой и точно ныряя в глубины собственной памяти, чтобы раздобыть воспоминания, или же когда менялся голос и из уст говорящего раздавался говор сотоварищей-каторжан, казалось, он обращается лишь к ней. Что человек этот не только боролся за жизнь свою, но и увлекал женщину за собой, показывая, каково оказаться на его месте.
– Когда конвоиры привезли меня на станцию в Енисейске, казалось, будто мне уготована ссылка в глуши, – сообщил Самарин. – В воображении моем возникала картина обители для политических ссыльных, приблизительно в паре дней пути вниз по течению, откуда до пересыльного острога можно добраться на телеге или на санях, ежели случится зима. Ряды избушек, выстроившихся вдоль речного берега, мостик, пастбища, а дальше – лес. Лавка, куда забредают туземцы и добытчики пушнины, чтобы пополнить запасы провизии и спиртного. Мне выделят горницу возле хлева, назначат легкие работы: рубить дрова, учить грамоте. Чаи с самопровозглашенными вольнодумцами-провинциалами, зимние посиделки за самогонкой, споры по поводу новостей из Европы в газетах годичной давности, лесные прогулки, научные записки о животном и растительном мире…
Меня заподозрят в склонности к побегу. Казалось бы, чего проще – ступай себе на все четыре стороны! Но бежать я не намеревался. Не повесили – и на том спасибо. И в мыслях не было снова браться за бомбы. Империи и без того разрушали друг друга в западной битве. Разрывали друг друга на куски лучше, чем иной бомбист, но то было далеко, за Уралом, за тремя реками.
Думал переждать.
Сидел в порту на коробе, и, покуда в местном пересыльном департаменте конвоиры сверяли бумаги, мечталось о судьбе юного Толстого и что Сибирь станет для меня тем же, чем для графа Кавказ.
Охотничьи вылазки с каким-нибудь местным дядькою, связь с туземкой, кожа огрубеет настолько, что комары станут досаждать не более чем мысль о собственном существовании.
То было четыре года тому назад, с тех пор миновал еще год, но солнце светило, передо мной раскинулся Енисей, широкая, неспешная река. На поверхности игралась рыба. И было время ожиданий.
Несмазанная дверь пароходства распахнулась, да так и осталась открыта. Кто-то вышел, встал на пороге, наблюдая за мной: толстяк в кителе, прищурившись, теребил четки. С минуту разглядывал меня, развернулся, стоя на месте, и окликнул кого-то (собеседника я не видел): «Что ж, отправим политического!»
Какое-то время ответа не было. Затем послышался голос, но слов было не разобрать. Глянув на меня, толстяк спросил:
– Отец твой чем занимается?
Я ответил: работал инженером, а после умер.
– Разночинец, – произнес незнакомец, обращаясь к тому, кто оставался в помещении пароходства. Затем произнес мне: – Стало быть, ты великий смутьян, раз тебя сослали, а не пустили на пушечное мясо германцам. Вряд ли кого-то озаботит, что мы с тобой проделаем.
Вместе с конвоирами посадили на пароход. С нами ехал натуралист, еще была команда из трех человек: капитан, механик и палубный.
Меня посадили на цепь, один конец приковали к лодыжке, а другой – к поручню.
Наутро поплыли по течению на север. Я спросил, куда меня везут. Команда сохраняла молчание. Натуралист сослался на тайну государственной важности. Первые несколько ночей останавливались в прибрежных селениях. Всякий раз думалось, что уж здесь-то меня высадят, однако раз за разом однообразные события повторялись.
За ограждением толпились люди с собаками и коровами, дожидаясь швартовки парохода, едва веря в прибытие, точно в возвращение блудного дитяти. Затем натуралист, палубный и часовые сходили на берег, а я оставался на прежнем месте, сидя на цепи, точно пес, при мне было одеяло, немного воды и вяленой рыбы, а общество заменяли звезды да изморозь.
В избах поселенцев горел свет, слышались песни и здравицы: гостей привечали водкой. Порой часовые приносили скудное пропитание. Случалось, селяне давали чай, каши или немного сала; как правило, подходили старики, успевшие побывать в ссылке, или молодежь, дети ссыльных. Расспрашивали, интересовались политикой, войной. У всех на фронте были братья или сыновья. Под конец пожимали руки, говорили еле слышно: «Боже мой» – и брели прочь, а я пытался уснуть на холоде, под плеск воды, бьющейся о борта, и ни звука не доносилось уже, едва только засыпали поющие и их зверье.
По мере того как мы продвигались на север, селения становились всё реже, а под конец и вовсе пропали. Всё короче становились ночи, всё ниже деревья, и лед на палубе лежал до рассвета.
Натуралист, фамилия его была Бодров, приходил в неописуемое возбуждение. Постоянно стоял на носу. Стоило показаться утесу, упрашивал капитана пристать к берегу. В руке держал молоточек, искал минералы.
Капитан качал головой. Чем ближе становилась Арктика, тем молчаливее капитан, если не считать приказаний механику прибавить ходу. Боялся, что река перемерзнет и корабль встанет, так и не успев повернуть на юг.
Чем тише становился старший на суденышке, тем словоохотливей Бодров. Однажды ночью, когда показалось северное сияние, точно столб пыли, нисходивший из бреши в звездном поле, натуралист пустился в крик, а когда на звук прибежали караульные, чтобы узнать, что случилось, обнял обоих за плечи. Пустился в разъяснения, откуда берется северное сияние, перечислял звезды, образующие созвездия.
Как-то мы увидели тунгуса, сидящего верхом на олене ростом с лошадь, в руке туземец держал острогу, натуралист бросился выкрикивать приветствия. Туземец развернул свое верховое животное, поглядел на нас с опушки и скрылся в темной лесной чащобе.
Как только миновали Полярный крут, Бодров достал бутылку мерло и заставил выпить за Полярную звезду, распевая студенческую песенку: «Так на север, друзья, там мы будем князья, заведем себе жен из тунгусок, заживем в шалаше, с волей-хмелем в душе, да и снег слаще пошлых закусок…»
Допив стакан, капитан подошел к пожарному ведру, черпнул из-за борта, наполнив до краев, и окатил натуралиста с головы до пят. Каждый почувствовал, как ожег щеки холод. Капитан сказал:
– Вот какая здесь река. Течет к северу. Холодна как смерть… да это и есть смерть. Пустыня, и ничего здесь не произрастает. Никому здесь не выжить.
Бодров утер глаза, пребывая в мимолетном замешательстве, но после рассмеялся и принялся растирать лицо, пока не раскраснелось.
– Гляньте на реку! – кричал он. – Рыба так и играет! В воздухе полно птицы, в лесу – лосей и соболя! И те несколько сотен тунгусов, расселившихся по шалашам с копьями и топорами, поживают здесь весьма недурственно, а вы, православные, бежите на юг, едва почуяв прохладу! В скалах не счесть золота, алмазов, платины, рубинов! Медь и алюминий, угольные горы, нефтяные моря! Хватит, чтобы целый мир спалить! – С этими словами натуралист разделся догола, нырнул в поток и выплыл, ухмыляясь и тряся в воздухе над головой сжатыми кулаками.
Выругавшись, капитан приказал остановить судно и бросил за борт канат Предоставь он Бодрова собственной судьбе – тот бы скончался через пару минут. Натуралиста отвели в каюту, дрожащего и закутанного в одеяло. Глянув на меня, старший над командой повторил:
– Никому здесь не выжить.
Капитан расковал меня и дозволил спать в кочегарке, там пахло дымом и серой. Никогда прежде не случалось мне испытывать в жизни восторга столь же сильного, как в тот миг, когда меня привели в тепло. Было так покойно, точно повстречался с верным другом, который будет скучать по мне, как только я его покину.
Пробудился я оттого, что палубный тряс меня за плечо. После, вручив метлу, велел подняться на палубу счищать снег. Наступило утро, пароход шел сквозь метель. В накатывающих тучах с трудом удавалось разглядеть речные берега. Капитан в своей рубке казался озлобленным и напуганным. Никогда прежде не случалось ему заплывать так далеко на север, к зиме.
Несколько часов разгребал я снег, перемещаясь от носа к корме и обратно, пока не разболелась поясница.
Взмывала метель, падала вихрем, и летел большими, тяжелыми хлопьями снег. У кромки воды я разглядел причину капитанских страхов. Тонкие, изогнутые лезвия льда, намерзавшего в ледяной хляби, – полупрозрачного, ломкого, но могучего. Деревьев стало меньше, расстояния между ними – больше, к тому же растительность сделалась карликовой.
На следующий день повернули по притоку Енисея на восток. Пришлось двигаться против течения, отчего ход замедлился. Однако напор воды оказался силен, так что черные, глубокие воды реки не сковывал лед.
Небо стало цвета кожи, вновь закрутили метели. Как прояснилось, разглядели иззубренные горные вершины, присыпанные снегом.
Одетый в волчью шапку и черный тулуп натуралист пришел в неописуемый восторг. Сказал, доплыли до плато Путорана, где записана вся история мироздания.
Бодрова высадили на берег, оставили в сложенной из бревен лачуге, пообещав вернуться через четыре дня и забрать. Натуралист никого не слушал. Всё норовил сойти на берег вместе с молоточком, прочими инструментами и в снегоступах. Прежде чем мы отплыли настолько, что Бодров уже скрылся из виду, мы увидели натуралиста, упорно бредущего вверх по склону за лачугой, прокладывая между деревьев тропу.
Я спросил капитана, что станется с натуралистом, ежели выше по течению пароход скуют льды. Тот глянул на меня, точно на жонглирующую собаку. Сказал:
– Или промышлять станет, или умрет. Но тебя в такие земли отвезут, что будет не до ученого господина.
Два дня спустя, сразу же после рассвета, мы добрались до Белых Садов.
Белые сады
Белые Сады раскинулись в тундре, между рекой и острыми вершинами гор, у подножия плато Путорана. На взгорье – глубокие, идущие по спирали ложбины. Случалось ли вам видеть раковину рапана? В точности как покрытие того моллюска. Высотою не более шестисот аршин, но даже в августе не тает лежащий в ложбинах снег.
К северу Таймыр и Северный Ледовитый океан. Река выходит на излучину, так что Белые Сады поставили на взгорье, с трех сторон окруженном водой: с востока, юга и запада.
На тысячи верст, куда ни пойдешь, – никаких поселений, не считая тунгусских чумов. Летом – ягель, подножные ягоды да цветы и крепкий кустарник. На те несколько недель, что зеленеет растительность, кустарники обращаются в подобие колючей проволоки, поросшей листьями.
Ни деревца, ни травинки. Под ногами – вечная мерзлота. В январе случается мороз до семидесяти градусов. Тогда только спокойно.
А если завеет черной пургою, то за ночь, случается, наметает снега выше корабельной мачты.
Место, не созданное для человека. Студентом, помнится, спорил, как бы построить такой высокий и долгий поездной путь, чтобы состав, разогнавшись, умчался на Луну или Венеру. Вот такими и были Белые Сады, последний полустанок для каждого из нас, кто оставил дом.
В самую зиму воздух становится таким, что делается больно дышать. Солнца не видишь неделями. Спотыкаешься о поручни пирса, только чтобы убедиться в существовании связи между местом, где ты оказался, и местом, где был, и даже когда видишь выволоченные на берег лодки, кажется, будто перед тобой суда, по недоразумению сверзившиеся с высших сфер, а река так крепко замерзает, что кажется прочнее и древнее скал; поверить, будто воды оттают и потекут вновь, тяжелее, чем в существование Бога.
Когда же начинает свой бесконечный блеск солнце, то кажется, будто пройден последний шаг к безумию: светило не заходит никогда. Бараки построены на россыпи белого кварцевого песка. В середине лета кварц отражает свет и сверкает, точно кащеев клад, перед глазами пляшут узоры и остаются, даже когда смыкаешь веки.
Выше, в сопках, – водопад, и если поток не замерзает, то на камнях вырастают огромные белые кристаллы в форме стволов и веток, точно рождественские ели. Увидев образования впервые, поражаешься их красоте, однако некоторое время спустя проникаешься ненавистью, как свойственно ссыльным, разочаровавшимся в воспоминаниях о прежней жизни.
Первопроходцы, увидев мерцание кварца и каменную растительность, окрестили место Белыми Садами, понадеявшись разыскать золото. Нас держали, чтобы врубаться в склоны сопок ломами, заступами, молотами в надежде разыскать жилы драгоценного металла или любую руду – железо, алюминий…
Так ничего и не нашли. Знай себе ломали скалу на булыжники, и с каждой разбитой скалой мы или становились сильнее, или ослабевали, но время так или иначе уходило от нас.
По прибытии мне отвели койку в бараке с сорока собратьями по несчастью, назначили старшину, в бригаде которого мне предстояло на следующий день отправиться на работы. Двенадцать часов в день, шесть дней в неделю. По воскресеньям отдыхали.
Я оказался не готов к Белым Садам. Зашел в барак с саквояжем, кипой книг, голова по-арестантски обрита, но студенческую куртку не снял.
Прочие каторжане глядели на меня точно на пухлый, оброненный кем-то бумажник, словно единственная заминка заключалась в том, чтобы убедиться: владельца поблизости нет.
Согласно каторжным законам, я оказался и похожим, и отличным от своих собратьев. Их чувства не походили на ненависть. Далеки от ненависти. Злобы в них было не больше, чем той ярости, что необходимо пригубить, как хмель, прежде чем нанести удар.
Вот сколь наивен я был: полагал, будто каторгой правит аристократ, из князей, Апраксин-Апраков, и что часовые необходимы, чтобы держать нас в повиновении.
Разумеется, князь не правил работным поселком, но владел. Стража требовалась для защиты правителя, да еще чтобы никто не скрылся.
Правили каторгой трое матерых уголовников: Абрам Мазур, Серго Пулемет и Могиканин.
Я начал сомневаться в самом существовании князя Апраксина. Шли годы, а мне так и не довелось с ним повстречаться, хотя и говорили, будто начальство присутствует.
Княжеский особняк стоял поодаль, близ колючей проволоки. По ночам горел свет, играл патефон.
О том, что правитель доподлинно существовал, свидетельствовали лишь его чудаковатые распоряжения. Однажды старший среди стражи, Пчеленцев, построил заключенных в день осеннего равноденствия и объявил: князь удостаивает чести выполнить распоряжение его – изготовить изо льда точную копию королевского павильона в Брайтоне, что в Англии. Спросил, случалось ли кому-нибудь из наших бывать на Альбионе.
Все промолчали. Тимоха Червонец, неоднократно изобличенный в Киеве в курокрадстве, возьми да скажи: в Англии не бывал, но была у него товарка в Галиции, дак та носила панталоны из Манчестера.
Червонцу определили двадцать плетей, а после несколько дней продержали в клетке на морозе, покуда не намело снега по щиколотку. Лишился двух пальцев на ногах: почернели, фельдшер резал, точно повар картошку чистил.
Тимоха заверил, что дело пустячное, у него-де целых восемь на ногах осталось, да и фельдшер, прежде чем резать каждый, давал спирта глотнуть, а Червонец даже предложил мало-помалу и остатние пальцы отрезать, лишь бы за каждый по чекушке спирта наливали, чтоб было чем боль замыть, а фельдшер скажи: ему, дескать, самому спирта не хватит оттепели дождаться, да и что ему делать с отрезанными пальцами, земля ведь мерзлая, не похоронишь, пришлось сжечь. Еще, чего доброго, по ночам являться будут, все восемь пальцев, в постель заберутся, как полнолуние настанет.
Ледяной павильон так и не построили.
Иные каторжане мучили меня, изводили и грабили, другие помогали, но большинство предоставляло самому себе.
В первый год, когда кормили довольно, летом приходили пароходы, а всю зиму напролет в Белые Сады заезжали оленьи упряжки с юга, работа еще была посильной. Князь назначал нормы, однако же старосты и старшины работных команд не требовали строгого их выполнения. Следили, чтобы всякий раз, как мимо проходит начальство, стучало по сканам кайло и чтобы к концу смены работники миновали рубеж, отмеченный на склоне сопки, а значит, и товарищи за тобой следили и приглядывали.
Однако в 1916 году начались перемены. Пришел корабль, и самых сильных и здоровых увезли, чтобы, обрядив в военные мундиры, отправить на бойню. Князю приказали изыскивать металлы военного назначения; уж не знаю, что то значило, однако нормы нам удвоили, хотя работников стало меньше. В то же время кормить стали скуднее.
Когда меня только привезли на каторгу, еще был барак кашевара. Несколько ссыльных заходили в сопровождении охраны внутрь, готовили пишу, пекли хлеб и раздавали питание собравшимся за стенами лачуги. Кормили дважды: хлеб, каша, суп и чай. Порой, по случаю именин князя или в дни церковных праздников, давали по куску солонины.
Стража кормилась тут же, хотя и снаружи, а мы, чтобы поесть, поворачивались к баракам спиной.
Когда провиант оскудел, то сперва суп стал жиже, а каши давали уже не так много. В муку добавляли опилки, пепел и сухой ягель, чтобы хлеба было больше.
Выпечка имела серый цвет, караваи крошились. Стоило попытаться нарезать – ломались, точно гнилушки. Порой перепадали лишь корки да крошки.
Мной стали торговать. Продавал меня мой хозяин, Мазур. То как раба, чтобы я выполнял половину дневной нормы за покупателя, то сбывал мою пайку. Один раз продал мой труд вместе с едой.
Шестнадцать часов с кайлом по снегу, а под вечер – только кипяток. В воду я добавил солому из матрасной набивки. На следующий день работал и ел как обычно, однако недополученная пища еще несколько месяцев давала о себе знать. И до сих пор напоминает.
Спас меня Пулемет… по крайней мере, тогда он казался избавителем. Матерые урки, подобные ему, никогда не страдают от недоедания – знай себе ищут развлечений. Узнав, что преступник не владеет грамотой, я вызвался читать для него, если выкупит меня у Мазура. Ударили по рукам.
Работать приходилось по-прежнему по двенадцать часов в сутки, однако не сверх того, да и питался я лучше. Пулемету нравилось, чтобы у койки стояла книжная полка, и я читал. Особенно по душе пришлись королю уголовного мира Пушкин и Апокалипсис.
Новый хозяин оказался сентиментален. Родом с Кавказа, из Сванетии. Носил серую шапочку. Промышлял тем, что грабил банки.
Украл в Кутаисском полку пулемет, закрепил на катафалке, в который запряжена была четверка коней. Патроны называл икрою, а пулемет – осетрихою. Бывало, выедет в пыльный мегрельский квартал, сдернет рогожу, взведет курок и закричит: «На нерест пошла!» Тогда все из банка выбегали, из окон деньги выбрасывали, да только Пулемету всё было мало, раз начал – не унимался, покуда все до последней пули не всадит в стены банка. Арестовали его во время купания в полной оливкового масла винной бочке, где мой будущий владелец плавал обнаженным вместе с пулеметом. Вызвался добровольцем на войну, чтобы вместе с пулеметом убивать немцев. Говорил: «Только я знаю, как заставить осетриху икру метать».








