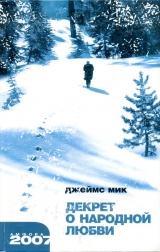
Текст книги "Декрет о народной любви"
Автор книги: Джеймс Мик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Но всё невозможное успел капитан повидать. И было ему от роду двадцать четыре года.
– Все мои верные сибирские вассалы собрались, – заметил Матула, усаживаясь во главу стола, в противоположный от земского начальника конец. – Приветствую вас, таежные рыцари. Какие бы уделы вам раздать? Я решил, что всем вам следует жениться на русских и растить наследников. Только не Муцу. Его женим на жидовке, и пусть растит проценты.
Климент с Дезортом рассмеялись. Улыбнулась Елизавета Тимуровна, затем улыбка сошла было с лица ее, но тут же возвратилась. Потеребила локон, облизала губы, глянула на капитана.
Женщина вышла в белом летнем платье, которое некогда надевала к пикникам. Оно еще хранило их запах и было в складках, образовавшихся после многолетнего хранения в сундуке. Щеки разрумянились, во взгляде – свежее вожделение. Шею Елизавета Тимуровна обвязала белой атласной лентой. Села близ Матулы, а на мужа и не глянула.
– Под шкафом мышь, – заметил Матула.
– Соболь, ваше превосходительство, – поправил Дезорт. – Муц сказал, что зверь, должно быть, бешеный. За ногу Пелагею укусил.
– Стало быть, и я взбесился? – спросил Матула. – Ведь и мне с утра пришлось укусить дамскую ногу. И проделку эту я бы охотно повторил. – Капитан одарил Елизавету ухмылкой, пальцы под столом огладили женское бедро. Жена земского головы отпрянула, хихикнув.
Прихрамывая, в столовую вошла Пелагея и поставила прибор для Матулы. Все уставились на служанку.
– А можно еще чаю? – попросил Климент.
Пелагея наградила офицера убийственным взглядом, однако же, прихрамывая, отправилась за чашкой.
– Болит? – поинтересовался Климент, глядя на служанку и кривя рот.
Поджав губы, молодуха поставила чашку, подбоченилась, плюнула на чеха и с рыданиями заковыляла прочь. На мундире Климента остался комочек слизи. Дезорт расхохотался, Климент собрался было встать. Матула усадил подчиненного силой.
– Останьтесь, – распорядился капитан, – поделом, заслужил. Верно, Муц?
– Отчего вы спросили меня, пан главнокомандующий?
– Вы же вечно судите людей. Вы ведь у нас судья, верно? В Праге, конечно, были простым гравировщиком, а здесь превратились в судью. Чтобы поучать, что дурно, а что хорошо. Интересно, кто вам отдавал это поручение, уж я-то ничего подобного за собой не припомню, однако же вы так скрупулезно учитываете наши грехи и проступки…
– Я не веду никаких счетов, пан главнокомандующий.
– Полно, все они у вас в голове… Но вы ведь утаиваете судебные решения, верно? Вас глаза выдают. Вот ведь как странно выходит: всякий раз, как я стараюсь уберечь людей от гибели, а ваши боевые товарищи вкусить радостей жизни, стоит обернуться – и ты тут как тут, и смотришь с эдакой презрительной физиономией. И думаешь, какой бы вынести приговор, точно присяжный. Понимаете, что я имею в виду, офицер Климент?
– Так точно! А еще Муц похож на полицейского. Точно не с нами. А на стороне закона, который привез сюда из-за границы.
– Офицер Муц, вы вынесли приговор офицеру Клименту, – продолжал Матула. – Я тому свидетель. Признали виновным в домогательствах к прислуге. Но не дали Клименту и слова сказать в оправдание!
Капитан держал кулаки на краю столешницы. Вдруг поднял, разжал и, в усиление собственной речи, несколько раз тряхнул в такт словам, улыбаясь юношеским ртом своим и не сводя с Муца старческого взгляда.
– Вот уже несколько лет, офицер Муц, как вы нас судите, – произнес капитан. – Но когда же мы услышим приговор? Думаю, уже пора!
– Мы в Сибири, – ответил лейтенант, – полагаю, это уже и без того достаточно суровое наказание, пан главнокомандующий.
– Ага! Стало быть, не отрицаете того, что судите нас? Гм… Однако же, дамы и господа, как вы полагаете: не должен ли судья быть более добродетелен, чем подсудимые?
– Капитан прав, – поддержал Климент, откинувшись на спинку стула и раскачиваясь на нем. Под шкафом шуршал соболь, клыками испытывая ореховое дерево на прочность.
– Неужели справедливо осуждать собственных товарищей, пока те ухаживают за русскими дамами, осыпая женщин комплиментами, подарками и затрагивая самые глубины их нежнейших, мягчайших, – Матула глянул на Елизавету и продолжил: – Таких сочных и сладких… сердец?..
– Ах, сердце мое! – вздохнула жена земского начальника.
– …В то время как сами вы пытаетесь совратить вдову., как же ее зовут… Лутову, верно?
– И я то же самое говорю! – обрадовался Дезорт.
– Никого я не соблазняю, – возразил Муц.
– Но стараетесь изо всех ваших семито-каббалистических сил, черт подери их обе! – негодовал Матула. – Из-за служанки готовы вздернуть беднягу Климента на виселице, а сами тем временем напеваете вдовушке на ушко жидовские романсы, клянетесь в любви и строите планы, как бы удрать во Владивосток!
– Прямо мои слова! – воскликнул Дезорт.
– Пан главнокомандующий, Анне Петровне и без того известно о желании солдат уехать, – вставил Муц.
– Ужасная гордячка эта ваша Анна Петровна, и к тому же со скверным вкусом, – вставила Елизавета, скрестив руки на груди и подавшись вперед. Наморщила нос, обнажая пару резцов. – Точно и не с Петербугу вовсе! Бедняжка… Думала, приедет в Сибирь, так найдутся провинциалы помыкать гораздо более убогие, чем она сама, ан не вышло, наряды-то тесные, как у гулящей, а юбчонки все какие-то глупые, едва не до колен. Послушать, так сама чуть ли не гордится, какая тощая да плоскогрудая. Скулы так и выпирают! Ведет себя будто образованная, а у самой даже пианино дома нет, не то что патефона! Наверное, только и умеет играть, что на гитаре своей, а рисовать и вовсе не обучена, совсем как я. Случалось, мы приглашали ее в карты сыграть и на вечера, из благородных все-таки, а как начнут анекдот рассказывать, она зевает да в окошко глядит. Такого возмутительного поведения! Ходит, форсит, а попробуешь заговорить – отворачивается, да так медленно, точно ты к ней с пустяками, а у нее времени в избытке!
– Анна похожа на ту актрису из фильма про Чарли Чаплина, который мы в Киеве смотрели, – заметил Дезорт.
– А по-моему, принято говорить: «Шаплэн», – на французский манер произнесла Елизавета, ни разу не бывавшая в синематографе. – Шарли Шаплэн.
– «Иммигрант»? – уточнил Муц.
– Возможно, – нахмурился Дезорт.
– Если вы имеете в виду Эдну Пюрвьянс, то Анна на нее совсем не похожа.
– На Пурванс? Еще как!
– Перестань, Дезорт, – вмешался Климент. – Ты же и жену свою в лицо не помнишь.
– Главное, – ответил Дезорт, – чтобы было что вспоминать.
Елизавета Тимуровна завопила, указывая на беспокойные ноздри, мерцающие глаза и клыки существа, высунувшегося из-под шкафа за спиною у Климента и Дезорта.
Климент потянулся за маузером, развернулся, сидя на стоящем на одной ножке стуле, и, вытянув руку, дважды выпалил соболю в голову. Пули вошли в пол, из дула пахнуло горьким, паленым. На несколько мгновений все в комнате точно оглохли.
– Вы убили животное? – спросила Елизавета Тимуровна, зажмурившись и обеими руками зажимая уши.
– Нет, – сообщил Климент, кладя маузер на стол. – Соболь хитер. Но я обязательно его пристрелю. А после съем.
– Оставить зверя в покое! – потребовал Матула.
Климент безмолвно водворил оружие в кобуру, застегнул и поставил стул на все четыре ножки.
На время, пока Матула завтракал, воцарилась непродолжительная тишина. Переглянувшись, Муц и Климент отвернулись. Дезорт наблюдал за Елизаветой, наводившей маникюр при помощи пилки и зубов.
– Офицер Муц, – заговорил капитан, – верите ли вы, что души шаманов обитают в таежных деревьях, которые падают, где бы ни обитали шаманы?
– Нет, хотя убежден, что, стоит шаману напиться, – и все деревья раскачиваются.
– Ха-ха, – ухмыльнулся Матула. Собрал с тарелки крошки и, подцепив кончиком пальца, отправил в рот. – Умница, Муцик. Но неужели вы не могли удержать тунгуса подальше от выпивки?!
– Согласно распоряжению пана главнокомандующего, я создавал новые купюры.
– Ах да, деньги… Полагаю, для некоторых народов деньги решают всё. Вы не понимаете, Муц, как не понимают ваши соплеменники… они не чувствуют того же, что способны постичь мы, славяне, что постиг шаман. Лес! Часть нашей славянской души угнездилась в лесу! А знаете ли вы, что боевые луки тунгусов делаются из мамонтовых бивней?
– Мы едим кошатину, ваше высокопревосходительство, – заметил еврей. – Нас не больше сотни, а помощи ждать неоткуда. Большевики наступают. Нас убьют. Пора уходить.
– Тайга нас охранит, – не соглашался капитан. – Здесь мы неуязвимы, ибо нам потворствует судьба! Всё благодаря нашей европейской учености и лесным азиатским душам! Отчего вы не уберегли шамана, Муц? А? Мой наставник собирался призвать на помощь вождей…
– Тунгус имел довольно сильное пристрастие к спиртному.
– Тунгус прозрел Нижний и Верхний миры! – повысил Матула голос, и губы его были как у ангела, а в голосе – пустота. Наклонился и выволок соболя из-под шкафа, ухватив зверька за горло. Зажатое в кулаке существо дергалось в танце, ощерившись так широко, что казалось, вовсе головы не было: одни зубы. Соболь изогнулся буквой «С», стараясь добраться до капитанского запястья хотя бы одной из когтистых конечностей.
Протянув руку в сторону еврея, Матула ткнул в него оскаленной соболиной пастью. Челюсти зверька облепила пена.
– Какое пророчество изрек тунгус перед смертью? – с криком потребовал капитан ответа.
– Полагаю, шамана убили, пан главнокомандующий, – сказал Муц, уворачиваясь от клацанья крошечных клыков и нацеленных когтей. – Самарин, политический, предупредил, что с севера идет убийца.
– Я спрашиваю, каковы были последние слова колдуна?
– Сказал, «скоро у всех лошади будут, однако».
– Ага! – Капитан ухмыльнулся и отодвинулся назад, сидя на стуле. – Ну, что скажете? – Погладил соболя по головке, точно любимую собачонку. – Шаман знал о прибытии лошадей! Предвидел! Что бы ни болтал тунгус, а все три глаза у него по-прежнему были целы! Мог даже вас, Муц, предупредить, что его убьют. Должен был знать. Вероятно, припрятал спирт у себя в конуре. Весьма непредусмотрительно с вашей стороны, офицер. Надлежит предпринять некоторые дисциплинарные меры. Климент, попроси Пелагею наточить мне саблю. Поеду сегодня.
– И я наконец-то увижу вашего прославленного коня? – спросила Елизавета.
– Это будет так скучно, – возразил капитан.
– Но мне хочется!
– Я имел в виду, что скучно будет лошади!
В кухне заскребли оселком по клинку. Вернулся Климент.
– Ганак пришел, – сообщил офицер, украдкой от Матулы глянул на еврея и покачал головой.
Соболь попискивал и довольно урчал, поглаживаемый капитанской рукой, а человек кивал и улыбался, и весь облик выражал невиннейшее счастье, а глаза оставались безжизненны, словно базальт.
– Климент, судя по звукам, служанка заострит саблю отменно! День выйдет хорош!
Постучался взводный Ганак. Козырнул с порога, вошел, припал перед капитаном на колено и принялся нашептывать что-то на ухо, поставив перед Матулой на стол жестяночку из-под китайского чая.
Пока Ганак говорил, капитан ни разу не шелохнулся. Уже не поглаживал соболя, хотя по-прежнему стискивала зверя за горло рука, а тот трепыхался, хотя уже и ослабел.
Матула глядел перед собой неподвижно и теперь выглядел таким же истуканом, как безмолвный, застывший земский начальник на противоположном конце стола. Стиснул дрожащие, дергающиеся юношеские губы.
Доложив, взводный встал. Капитан сделал глубокий вдох, выдохнул, пока тело его силилось заплакать.
– Все погибли, – повторил Матула. – Лайкург мертв. Издохли все лошади, кроме одной: пятого скакуна недосчитались. В реке нашли. От моего коня кто-то отрезал шмат, пожевал и дальше себе пошел… Что же это за злодей? О, Лайкург… Будто пища для двуногого стервятника с ножом…
– Отыщем и убьем, – пообещал Климент.
– А куда пропал человек? – спросил Муц.
Елизавета положила на плечо капитану руку. Тот стряхнул, поднялся, стиснув зубы, и под стон, в котором боль смешивалась с яростью, с размаху обрушил на крытую белой скатертью столешницу соболиный череп.
Головка зверька разлетелась, точно ракушка, обрызгав Климента и Елизавету мозгом и кровью. Швырнув покалеченную тушку на пол, Матула прикрыл лицо руками, бормоча нечто неразборчивое.
Пелагея внесла обернутую в рушник саблю. Заметив молодуху и взяв клинок, Матула ухватил служанку за ворот и притянул к себе, пристально вглядываясь в лицо.
– Господи Иисусе, – пробормотала Пелагея, зажмурилась и отвернулась.
Подержав наточенный клинок в полутора вершках от бабьей щеки, капитан отпустил кухарку и рухнул на стул.
Отослал Ганака, отогнул окровавленную скатерть, открыл чайную жестянку и отсыпал на темную полированную столешницу белого порошка.
Осторожно придерживая саблю, сгреб несколько дорожек. Положил клинок на колени, достал носовой платок, высморкался, убрал платок, достал серебряную соломинку, носом вдохнул пару дорожек и передал Елизавете Тимуровне.
– А куда пропал человек? – повторил вопрос Муц.
– Мертв. В реке, – сообщил Матула. – Ему отрезали ладонь. Странные твари по тайге бродят…
Елизавета часто заморгала, хихикнула, утерла под носом пальцами и передала соломинку Клименту.
– Музыки! – воскликнула дама. – Пойду заведу патефон. Мне нравится слушать музыку за завтраком, осенью, когда деревья впадают в сон. Отчего бы нам не задержаться в доме, не спеть песни? Пусть все поют! – И запела «Очи черные». На лбу ее оставался потек соболиных мозгов и крови.
– Муц, – произнес Матула, забирая соломинку у Климента, намеревавшегося было угостить Дезорта, – вы любите судить. Поручаю вам вести расследование. Как только скажете, кто пытался сожрать моего коня, и как только посадим мерзавца на кол так, что острие дойдет от зада до глаз, мы уйдем. Даю слово.
– Непременно напомню вам при случае.
– Разумеется. Вполне в твоем духе. Берегите себя, Муц. Вы заставляете нас беспокоиться. Кажетесь таким одиноким, точно прохожий из венской толпы… без самой толпы и вне Вены.
Муц не пытался остановить то, что происходило в Старой Крепости. Подобно прочим чехам, держался поодаль, то смотрел, то отворачивался, слушал крики и столь страстно желал, чтобы они смолкли, что как только казалось, будто установилась тишина, тут-то и раздавались настоящие вопли.
События тех двух часов офицер разделил на сотни мельчайших отрывков, которые рассовал по нишам памяти так, чтобы воспоминания никогда более не слились воедино.
Впоследствии Муц спас Матуле жизнь, чем дал капитану еще одну причину возненавидеть себя. Но всякий раз, когда командующий называл офицера судьей, тот осмеливался напоминать капитану обо всем сделанном и сказанном тогда, в Старой Крепости.
Матулу снедало любопытство, хотелось выяснить, кто изувечил его коня и отчего погиб шаман. Однако же расследования эти представлялись лишь бледной тенью в сравнении с изучением внутреннего мира Матулы, не могущего не отдать Муну распоряжения, несмотря на веру что рок предписывает обратное, поступить так, как давно уже хотелось, отдать этот приказ, и тогда уже представится вожделенный повод убить Муца, поскольку позволить ему довести подобное дознание до конца капитан не мог.
– Пора выслушать, что скажет каторжник, пан главнокомандующий, – заметил лейтенант.
Матула ничего не отвечал. Солнце скрылось. Низко нависал небосвод. Дезорт содрогнулся от запаха едкого дыма. Завоняло объедками трапезы.
На полу, у патефона, сидела Елизавета Тимуровна, крутила ручку и без конца распевала припев романса. Климент приник лицом к столешнице, ноздри трепетали: чех вынюхивал крупицы кокаина. Матула сидел, оперевшись спиной на стул, сабля на коленах, рот его изогнулся в улыбке ребенка, не вкусившего ни зла, ни добра и грезящего о нескончаемом веселье в пору невинных игр, и глаза его были невыразительны, точно два булыжника.
Не шелохнувшись, не вздохнув, не поднимая взора, заговорил земский начальник, до сих пор просидевший тихо и бездвижно.
– Слишком милосердными были мы, – произнес хозяин дома, – а всё излишнее благородство! Всё из пустого страха перед подлыми людьми, когда это им следовало бы трепетать перед нами! Едва минует смута и прогоним иностранцев, как тотчас найдется дело. Не важно, кто воссядет на престол, будь он хоть отпрыск царского рода, хоть социалист, лишь бы русский, лить бы убоялось его крестьянство, лишь бы трепетали, как должны трепетать перед нами! Ужасу должно изливаться на подданных, подобно солнечному свету, и пусть светило страха восходит по утрам, пусть печет мужицкие спины дни напролет, пусть горит в ночи керосиновой лампой, чисто, ярко, так, что, ежели умрет новый самодержец, в который раз уже передав бразды правления рохле, страх пребудет со сбродом и с выкормышами их многие лета, и даже когда сам исток страха иссякнет, чернь возжелает его, точно не в силах прожить иначе!
Трибунал
Анна Петровна пробудилась. Снаружи рассвело. Над крышею хлева стояло солнце. Коснулась пальцами красных, оставленных костяшками следов на щеках. Похолодало. Печь погасла.
Пригладила волосы ладонями, вышла в гостиную. Из окошечек падал свет, на канапе лежало письмо от мужа.
Прерывисто вздохнув, ухватила бумагу, сложила листы, водворила на прежнее место в ящике письменного стола.
Муц пропал. Неужели еврей истолковал поступок ее столь превратно, что поднялся наверх, тайком устроившись в ее постели? Проверила – нет. Подняла с пола ключ от входной двери, вышла, прищурилась, в глаза било яркое солнце, поежилась и увидела открытые ворота во двор. Стало быть, и впрямь ушел. Прогонять Муца, показав ему письмо, не хотелось; должно быть, испугался.
Пошла на кухню, смела с печного пода уголья и золу, ссыпала из совка в ведерко, взяла на растопку пучок кудрявой бересты, положила в печь, сверху добавила прутьев, придавила парою поленьев, подожгла ближайший к ней лохматый край коры.
Береста занялась, вспыхнула и закорчилась жарким, красным, и огонь добрался до самой глубины сложенных дров и хвороста.
Анна Петровна полуприкрыла печную дверку, прислушиваясь к реву разгорающегося пламени.
Обнаружила, что неприязнь ее к Муцу, в которой прежде отказывалась признаться самой себе, обрела отныне оформленность, словесное воплощение, и слово то было – «порядок». Чрезмерная озабоченность тем, чтобы именно так, а не иначе обстояли дела. Излишне крепкая привязанность к категориям, к анализированию. Даже неся любовный ли, прочий ли вздор, не испытывал Муц ни трепета, ни, паче чаяния, необузданного желания познать женскую плоть. Умствуя, любовь его точно вставала, подбоченившись, удивленно качала головой и отправлялась сочинять научные записки.
Пошла к колодцу, наполнила два ведра, дотащила до кухни, морщась от боли в мышцах возле лопаток. Наполнила четыре чугунка, поставила греться. Добавила дров.
От жара железная печная заслонка гудела. Блистательному, просвещенному западному гению не понять, как муж ее из записного кавалергарда добровольно переродился в скопца. Только и нашелся, что бежать… А мог бы и поинтересоваться. И тогда она призналась бы в искренней, глубочайшей, непреходящей ненависти к Балашову, и как презирает она секту кастратов, и каким хорошим человеком, каким страстным, самозабвенным любовником был супруг.
Не по силам Муцу оказалось постичь, что женщина способна одновременно испытывать множество чувств. Ну и пусть бежит. Все они уйдут, все чехи… и вдруг неожиданно пробудилась от брошенного на дагеротип взгляда: давно уже следовало им с Алешенькою вернуться назад, поближе к Петрограду, что бы ни затевали там красные. Связь с Муцем заменяла отбытие из Языка, и теперь, когда он узнал о причине, удерживавшей Анну, отъезд станет проще.
Вошла Кристина Панковска, ссыльная полячка, которой Анна Петровна ежемесячно выплачивала по рублю серебром за то, что прибирала и помогала по хозяйству. Принесла чугунок каши, два свежеснесенных яйца.
Пятьдесят лет прожила ссыльная в Языке. Немалых трудов стоило ей позабыть о самом существовании земли Польской, а все ж преуспела. От полячки пахло махоркой, духами, и во что бы ни одевалась Кристина, всегда носила бусы искусственного жемчуга. Определили ее на поселение еще до прибытия первых скопцов, а потому, в отличие от большинства селянок, полячка не стала тайно уродовать свою грудь, чтобы уподобиться облику ангельскому.
Войдя на кухню, издала долгий, низкий, жалобный стон. Не нужно Анне самой воду носить. Бросила яйца в один из закипающих чугунков.
– Я же после в этой воде мыться буду! – возмутилась хозяйка.
– Знаю, голубушка, – заверила полячка. – Для кого только? – Кристина была низкорослой, а когда глядела на молодую женщину, беззубо улыбаясь, как сейчас, то взгляд ее был точно у четырнадцатилетней.
Ухватив самый большой чугунок, Анна отправилась наверх. Поставила посудину с горячей водой на пол, пошла будить Алешу.
– Просыпайся, дикаренок, – позвала, – уже пора!
Сын открыл глаза, выскочил из-под одеяла, встал на половик, еще пошатываясь и потирая глаза. Казался изможденным, точно, проспав девять часов, мог бы продремать и девятьсот. Ах, если бы так и проспал до самой весны 1920 года, когда нулевой рубеж откроет новое начало! Уложила бы Алешеньку в обитый мехом сундучок, проснется – и снова будут поезда, почта, гимназии с другими мальчиками…
– Мне общественные деятели снились, – пробормотал ребенок и зевнул.
– Что за общественные деятели?
– Такие, в полосатой одежде…
– Вот как?
– Длинноволосые, с отросшими ногтями и красноглазые, как германцы.
– С чего ты решил, будто у немцев глаза красные?
– А после папенька верхом прискакал с другими кавалергардами и ну головы общественным деятелям рубить!
– Ах, чтобы твоим сновидениям поменяться! Ну, давай, ангелочек. Помоги маменьке. Поди умойся.
Анна принесла остальные чугунки, вынув яйца, что принесла полячка, поставила возле ванны. Разделась и, обнаженная, уселась в емкость. Рядом стоял Алеша, поливал горячей водою из кувшина. Широкой струйкой, так чтобы стекал ручеек по обе стороны материнской спины.
– На родимое пятно лей, – распорядилась.
– Я помню, – раздраженно отозвался сын.
– Бунт затеяли, молодой человек?
– С чего бы?
– Хороший боец…
– …отнюдь не наглец, – насупившись, проворчал мальчик.
Анна встала, приняла мыло. Алеша глядел, покуда женская рука не достигла темного пуха между ног: тотчас отвернулся, достал из кармана ночной рубашки деревянного кавалергарда, принялся играть с фигуркой.
Вскоре мать попросила сполоснуться. Мальчик вернулся с наполненным кувшином.
Стройная, смотрела на сына, и клочья пены стекали по коже. Как только приблизился – вновь погрузилась в воду, опустила взгляд, дожидаясь, когда польется вода.
– Как тебе понравился лейтенант Муц? – спросила женщина.
– Уж не знаю, что сказать.
– Однако… – Анна не сумела договорить. С Алешей Муцу разговаривать не случалось. Застенчив с детьми…
– Я, помнится, попросил пистолет посмотреть, – признался Алеша, – так он отказал. Нельзя, сказал.
– Спасибо, Леша. Можешь спуститься в столовую позавтракать.
Вытерлась, подрагивая от холода на верхнем этаже, надела чистую исподнюю юбку, панталоны, черные чулки. Грянула в платяной шкаф безо всякой надежды. Не то чтобы одежда устарела или вышла из моды, о современных модах и о том, где их нынче придумывают, Анна не имела ни малейшего понятия… просто никак не случалось найти гардеробу применения.
Надела простое платье – темно-зеленое, хлопковое, поверх – коричневую кофту, завязала волосы узлом. Объявись в гардеробе боа с белой шапочкой-«амазонкой» – и то надела бы.
Причесалась. Следовало бы вымыть волосы, да недосуг. Принудила себя взглянуть в зеркало. Бледна… Но по-прежнему хороши глаза.
Отметина, пятно… жаль. Резким рывком отворила ящичек комода, где хранился старый саквояж с косметикой: только чтобы проверить, насколько ее заботит внешность и есть ли ей вообще дело до собственной наружности теперь.
Ящичек подался легко, упал на пол. Сурьмяная щеточка застряла в иссушенной черноте, помада усохла до пемзового комочка, а на краях пудреницы нашлось достаточно порошка, чтобы скрыть пятнышко на лбу.
Оказалось, не безразлично… но скоро отвыкнет. Дома полно мелких подарков, которые она подносила себе сама, из жалости, так что утешение всегда найдется.
Облизала указательный палец, пригладила брови. Невольно представила себе иное прошлое: если бы она десять лет тому назад не осталась снимать бастующих на дагеротип, а сбежала вместе с социалистами. Никогда не повстречала бы нежного кавалергарда, обернувшегося евнухом-сибиряком. В тот миг подпольщики походили на трусов. Теперь же от как никогда ясных воспоминаний о молодых, проворных ногах, предусмотрительно обратившихся в бегство по грязи, делалось до боли жаль несбывшегося. Цель социалистов не представляла интереса, а путь их был неясен. Однако же теперь Анна по-новому ощущала и жар целеустремленности агитаторов, и чувство, с которым рвались они навстречу новому миру.
В новые миры Анна не верила, хотя и отдавала себе отчет в собственном неудержимом стремлении сблизиться с теми, кто подобной верой обладал.
И туда, среди ложных воспоминаний о бегущих социалистах, прокрался никогда прежде не виданный человек: Самарин, точно негатив неосуществленного ею выбора.
Спустилась в столовую, наскоро отведала каши, запила чаем, положила в котомку сайку и семгу, поцеловала на прощанье Алешеньку, обулась, надела черную шляпку и вышла.
Не успела закрыть дверь, как перехватила взгляд Кристины: старая полячка глядела, точно потрясенная при виде незнакомки.
– Ищешь лихоманку, так приманишь, – рассеянно, точно пророчица, проговорила ссыльная.
В разлитом над городом солнечном свете пробивались ошметки желтых днищ облаков. В придорожных канавах вдоль дороги на площадь скользила, мерцая, вода. Анна запахнула кофту, спасаясь от пронзительного ветра.
Хотя дорога была широкой, черные бревенчатые дома жались друг к другу плечами, точно посреди острова в бесконечном сибирском океане, грозившем затопить жилища или по меньшей мере свести с ума, если не ощутишь этого касания. Всё равно обезумели, оттого-то и сгрудились в поселения. Наследников скопцы не имели.
Миновала четырех кастратов, сообща потевших над воздвижением нового массивного сруба посреди поросшей ноготками травяной лужайки перед домом Михаила Антоновича, где паслись гуси. Всех работавших знала по именам. Кивали, чинно поздоровались. Гнавший тощую, последнюю из оставшихся коров Богомил Никонович снял шапку, обнажив лысую, точно тыква, голову. Сказал: «Доброго утра» – и глянул на женские ноги…
Нет, это она обезумела. Теперь уже и не вспомнишь, что насочинял муж товарищам-скопцам о цели ее прибытия. Что-то о дагеротипных снимках, вдовстве, неодолимом стремлении к покою… повесть, прозвучавшая для всей общины благородной попыткой оправдать выжившую из ума.
Чертову внучку терпели. Она курила табак, пила, ела мясо, никогда не молилась, прелюбодейка, и не верила, будто увечья или усекновение детородных органов возведут калечного в ангельский чин. Сына своего любила сильнее, нежели ближних своих. Скаредная, замкнутая. Ни жажды совершенства, ни влечения в райскую обитель. Мир возлюбила сильнее, нежели устремленность в небеса, и страх перед геенной не мучил. Назидательных руководств была склонна искать в Библии не более, нежели в диккенсовском «Николасе Никльби». Неудержима. Не чертово семя, а сама чертовка.
И как же обходительно держались со злой, обезумевшей женщиной местные обитатели! Для скопцов Анна была столь же безумна, как любой городской юродивый, которого может забить до крови, поставить на четвереньки ватага иных беспризорников, хотя, в отличие от юродивых, жертвенность подвига Анне была чужда. Что за урок милосердия к падшим, достойно преподанный большим городам!
Не доходя до площади, увидела человека с лыковым лукошком, выходящего из избы Тимофея Семеновича. В черном картузе и черном армяке поверх рубахи и портов. Глеб Алексеевич Балашов.
Всякая встреча с мужем имела по обыкновению скверное начало и дурной конец. Заметил, навстречу пошел. Встали на две сажени поодаль друг от друга, вежливо поздоровались, не целуясь. Местные правила хорошего тона женщине разъяснили с того самого весеннего дня 1915 года, как прибыла в Язык.
– Чехи велели прийти на слушание, – сообщил Глеб. – Как приходскому старосте.
– И я тоже иду, – обронила Анна, – всё какое-то развлечение.
Балашов глянул на собеседницу с неподдельной печалью о ее душе. Искренне, заботливо. Противно.
– Должно быть, под конец капитан Матула его пристрелит, – произнес скопец.
– Значит, на небеса попадет.
– Полагаю, он безбожник.
– То-то окажется приятно удивлен.
Пошли к площади. Балашов спросил, как Алеша.
– Видит сны о доблестно погибшем отце, – сказала женщина.
– Отец его жив, – кротко заметил скопец. – Хотя и переменился.
– Мило сказано, – произнесла Анна. Никогда не получалось ей предвосхитить той легкости, с какой мужу удавалось омрачать ее настроение. Все те страстные, добродетельные словечки, которыми супруг описывал всякие прихоти больного умишки. – Говоришь «переменился», точно о листе, поменявшем окраску. Точно не было ножа, рассекавшего плоть. Ни крови, ни шрамов, ни страдания…
– Вся жизнь есть страдание! И чем дольше живешь, сильнее страдаешь.
– Не верно, – смысл сказанного ускользал от Анны.
Вслед за мыслью о перемене лиственной окраски вспомнился вагон в брачную ночь, нераспустившийся бутон, а после нахлынули воспоминания о ночи через год, когда приехала в Язык и в одиночку выпила полбутылки коньяка, и побежала из дома, по этой же дороге, в комнату, где спал муж; сорвала с супруга одежду, пытаясь овладеть мужчиной, и, нащупав остаток отростка, силилась ввести в лоно, а после выбежала, с криком, в слезах, но не из-за шрамов, не из-за того, что не напрягся член, а лишь из-за покорной податливости плоти, из-за однообразного, тихого бормотания молитв мужем.
Остановилась, сказала:
– Ты ступай. Иди. Как придем, не увидимся.
Балашов кивнул и, не сказав ни слова, двинулся вперед. Просто не верилось, что скопец не понимает, чем раздражает ее сильнее всего.
– Я про тебя Муцу сказала, – крикнула жена вослед, – клятву нашу нарушила!
Глеб запнулся на ходу, оглянулся через плечо, молвил: «Прости», – и пошел дальше.
– Зачем про карточку лгал?! – прокричала вслед. – Писал в письме, будто в бою потерял! Зачем ты мне лгал?!
Скопец встал, повернулся и проговорил, не повышая голоса:
– Мне перед собой стыдно было, что сохранил.
– Так ты стыдился?! Карточку супруги при себе носить?! Потому-то и выбросил портрет на улицу?!
– Прости меня. Можно я дагеротип обратно возьму?
Анна огляделась, выискивая булыжник потяжелее. Не нашла, а когда оглянулась на Глеба, тот уже шел впереди. Видеть его было невыносимо. Стояла на бревенчатом настиле у дорожной грязи, и негде было присесть, некуда прислониться, ничего нового не видно, и почувствовала всю мерзость одиночества.








