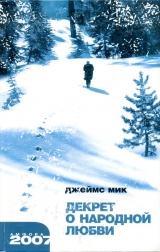
Текст книги "Декрет о народной любви"
Автор книги: Джеймс Мик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Перейдя мостик, офицер увидел дом Анны Петровны. Остановился. Торопиться не резон. Куда больше поводов развернуться и отправиться спать. Уже поздно, пожалуй, часов десять… Хотя кто знает? Иркутские сигналы точного времени доходили до Языка лишь при исправно работающем телеграфе. Завтра придется отчитываться перед Матулой за гибель туземца, да и поиск пропавших коней капитан скорее всего продолжит. Анне Петровне и дела нет, придет к ней Муц или нет… Или же?.. Тягостные сомнения унижали. Не так мучительно, как прежде, когда офицеру случалось приходить к женщине в дом еще до того, как она ему отдалась, но то было страдание иного рода – пытка жизнью.
Семь раз делил он с Анной ложе, четырежды оставался до рассвета, трижды украдкой выбирался на улицу, пока не развеялся мрак, ощупывая стены и обстановку кончиками пальцев, стараясь не разбудить Алешу и слыша сдавленное женское хихиканье после того, как скрипнул половицей, – и стремясь скрипнуть половицею вновь, нарочно, чтобы опять услышать смех ее.
На восьмой раз Анна сказала, что не станет более позволять ему оставаться на ночь. Нет, не так: не может позволять, вот как сказала она. Так и не объяснив отчего.
Залаяла собака. Муц досчитал до десяти. Если собака залает вновь, а он не успеет досчитать до конца, то не пойдет к особняку. Досчитал. Пес не тявкнул ни разу.
Офицер пошел к дому, знал загодя, что так и выйдет. И пусть Муца не стерегли с собаками – и без того он пленник, с собаками или без.
Подошел к задворку, прошел в ворота, миновал двор, вошел незапертой дверью черного хода в теплую светлую кухню.
Во главе маленького столика сидел Броучек, обеими руками обхватив чашку чая, поставив винтовку в угол, точно помело. Анна в темно-синем платье сидела лицом к двери. Улыбнулась, поздоровалась с Муцем, так и не расправив сложенных на груди рук. Броучек оставил чашку, поднялся. Муц прикрыл за собой дверь. Зря пришел…
Хозяйка встала, приблизилась, обогнув столик, расцеловала в обе щеки.
– Броучек рассказывал мне о вашем госте, – сообщила женщина.
Муц глянул на капрала.
– С каких это пор ты так отменно выучился говорить по-русски? – осведомился офицер.
Броучек ухмыльнулся, пожал плечами, взялся за винтовку и перекинул оружие через плечо.
– Успокойся, – обратилась к Муцу хозяйка. – Что плохого в том, что удалось побеседовать? Сядь.
Офицер занял место Броучека. Деревянный стул прогрелся. Солдат допил чай, поблагодарил Анну Петровну, прикосновением к фуражке попрощался с Муцем, тот кивнул, и солдат вышел.
– Вряд ли заключенного можно назвать «гостем», – заметил Муц.
Женщина поставила перед ним чашку, он принял угощение обеими руками. Поняв, что повторяет манеры Броучека, поставил чай, так и не пригубив.
– Расскажи, – попросила Анна, вновь уселась и подалась всем телом вперед.
Муц старался сосредоточиться. Как странно, что чем больше думаешь о чьем-нибудь лице, тем более неожиданной оказывается встреча!
– Зовут Самариным, Кириллом Ивановичем.
– Откуда?
– Родом из какой-то губернии к западу от Урала. Полагаю, неподалеку от Пензы.
– Сколько лет?
– Вероятно, около тридцати.
– До чего же неблагодарный труд пытаться что-нибудь у тебя выведать! Каков из себя арестант? Умен ли? Должно быть, едва не умер от голода, скитаясь по тайге. Неудивительно, что революцию совершили арестанты. Я бы тоже подалась в революционерки, если бы меня лишили свободы…
– Если ты имеешь в виду большевиков, то революцию затеяли отнюдь не каторжане, – произнес Муц. – Ссыльные. Не следует смешивать понятия. Что же до облика… Самарин похож на персонаж, сошедший с бунтовщицкой иконы!
Анна щелкнула офицера по костяшкам пальцев чайной ложкой:
– Не смейся надо мною!
– Высокий, худой, – продолжал Муц. – Я видел, как мастерски он перевоплощается. Казалось бы, забитый, изможденный каторжник. И вдруг – иной человек! Мгновенно. Мастер убеждать. За таким пойдут, такой вынудит других плясать под свою дудку…
– Продолжай, – потребовала Анна.
Муц смолк. Больше рассказывать о Самарине не хотелось, да и о сказанном офицер успел пожалеть.
– Откуда тебе знать, где подлинный Самарин, а где личина? – произнес Муц.
– Может статься, оба они настоящие.
– Может статься, ни тот, ни другой.
– Арестанта ты невзлюбил, – заметила Анна.
Муц, хотя и чувствовал правоту хозяйки, соглашаться не желал.
– Если хочешь, приходи завтра посмотреть на арестанта, – предложил офицер. – Матула будет его судить. Самарину придется защищаться самому. Только нужно заручиться позволением капитана.
– Фи!
– Тебе решать.
Нервно потеребив обручальное кольцо, хозяйка произнесла:
– Я приду. Принесу арестованному еды.
Муц спрятал лицо за чашкой, почувствовав, как что-то приятно екнуло в груди – что-то смутное, связанное с лежавшей в кармане офицера дагеротипной карточкой.
– Так, значит, ты с Самариным не знакома? – уточнил посетитель.
Анна непонимающе взглянула на него. Муц почувствовал к собеседнице отдаленную легкую приязнь, сродни той, что испытывает зритель, разглядев на выступлении фокусника даму, получающую от представления искреннее удовольствие, однако же смутившуюся от приглашения на сцену. Теперь офицер мог подыскать и слово для того движения в груди: «злорадство». Хозяйке оставалось лишь спросить, отчего он так. Придется объяснять.
– У арестованного нашли твою карточку. – Муц достал дагеротипный портрет, протянул Анне. Увидев снимок, женщина побледнела, прикрыла рот ладонью.
– Откуда у каторжника мое изображение?
– Говорит, на улице подобрал. Ты ведь не теряла карточки, верно?
– Только не здесь, не в Сибири. Не встречал ли ты Глеба Алексеевича этим вечером?
– Балашова? Мы виделись. Он отчего-то за тебя беспокоился.
– А вы виделись до ареста этого Самарина или после?
– Кажется, после… Да, точно. Отчего ты спросила?
Женщина оставила портрет, оперлась локтями на столешницу, запустила пальцы в волосы, рассеянно смотря перед собою в одну точку.
– Прости, у меня такое чувство, точно я причинил тебе боль, – произнес Муц. Потянулся к женскому плечу, чтобы обнять.
– Не сто́ит, – Анна мягко отстранила мужскую руку.
– Пожалуй, не следовало тебе рассказывать…
– Карточка принадлежала моему мужу. Он всегда носил ее с собою. Я думала, снимок пропал вместе с ним, в том последнем бою. Другого портрета не осталось. Я сама уничтожила дагеротип. Пять лет не видела этой фотографии…
– Аннушка, не нужно… Если ты говоришь, что не знакома с Самариным, то я тебе верю. Не хочу заставлять тебя мужа вспоминать…
Женщина кивала машинально, не слушая. Настолько свыкся Муц с непрестанными отказами от разговоров, которыми отвечала Анна на расспросы о событиях, произошедших за время между гибелью супруга и прибытием чехов в Язык, что, наблюдая, как теперь, при виде старой фотографии, Анна ушла в себя, офицер почувствовал, будто прежняя их любовь была не полной, что весь их ночной шепот, и шутки, и тайны, и общие воспоминания, и даже движения и звуки, которые издавала эта женщина, пока лежали они вместе в одной постели, – все осталось в прошлом, все переменилось, и сам он стал ей чужим, точно и не было, точно и не начиналось между ниш ничего.
– Ты расскажи мне, что сможешь, – покорно попросил Муц. Чем более отчужденной становилась женщина, тем сильнее хотелось, чтобы вновь она испытала к нему влечение.
Анна взглянула гостю в глаза, рассеянно улыбнулась и повела офицера в гостиную. Охват теплой женской ладони и пальчиков, прежнее, давнее притяжение женского тела затмили настоящее. Ведет его за руку, усаживает на канапе, ринулась вперед, целует в губы, отпрянула, смеется, и вот уже он ищет ее губы, мужская рука взлетает под юбкой вверх, меж бедер… там, под уродливым портретом с черным траурным бантом во весь угол рамы, изображавшим мужа в полном кавалергардском снаряжении, всё и началось. Теперь же происходящее казалось нелепой репетицией, фарсом, весьма далеко отстоящим от театральной постановки.
Муц очутился на канапе в одиночестве, глядя, как Анна, устроившись за письменным столом в противоположном конце гостиной, то кладет снимок на колени, то, завороженная, приподнимает к лицу. Ротик чуть приоткрылся, женщина нахмурилась, отведя портрет на расстояние, снова медленно приближая его к глазам и вновь отстраняя.
И вспомнила Анна, каким пышущим жаром бил свет. По знакомству удалось воспользоваться одной из новых, еще не установленных электрических рамп для Киевского оперного театра. Громадная, наведенная на нее, пылающая жаром лампа в тесной от скарба комнатке. Она то включала, то выключала рампу, чтобы не жгло так кожу и чтобы не казалась такой невыносимо родной комнатушка. Изо всех экспозиций и поз успешным оказалось лишь это сочетание. То, где она улыбалась; Анна знала, что замысел удачен: из множества возможных истин света и тени, кожи и глаз удалось отыскать такое сочетание, перед которым блекли прочие. Незадолго до начала войны подарила карточку мужу Быть может, глаза других мужчин смотрели на ее портрет лишь этим вечером…
– Что скажешь? – обратилась хозяйка к Муцу, заранее зная, что тот одобрительно отзовется о ее мастерстве.
– Поразительное произведение искусства, – с готовностью откликнулся офицер.
– А что сказал каторжник? Тот, Самарин? Как рассудил?
Муц замолчал, недоумевая, отчего Анне вздумалось узнать мнение арестанта. Замешательство не укрылось от женского взгляда. Потом обронил:
– Красавица.
– «Красавица»? Так и сказал?
– Произнес эти слова таким тоном, точно о твоем роде занятий говорил. Словно ты была записной красавицей, наносящей привычные визиты…
– Хм… Наглец! А как по-твоему, Йозеф, записная ли я красавица?
Муца страшили призывы к легким комплиментам, исходившие от женщин, в которых он был влюблен. Пока колебался гость, хозяйка прислушивалась к собственным мыслям. Гадала: в точности ли передал речи каторжанина Йозеф? И если нет, то отчего утаил? Получивший университетское образование русский появился между ними, точно вестник привычного миропорядка.
– Ну так что же, ничего больше не говорил? – любопытствовала женщина.
И снова колебался Муц, и на сей раз предаваясь сомнениям не в пример дольше. Так, значит, не всё…
– Попросил передать, что он в восхищении и что снимок нас всех переживет, – признался Йозеф.
Кивнув, Анна постаралась утаить восторг от услышанного. Но не сумела. Женщина и сама удивлялась той важности, какую придала чужим словам. Поразилась, насколько неловко и тягостно ей от влечения, по-прежнему испытываемого к ней Муцем. Вновь скользнула взглядом по собственному снимку пятилетней давности на письменном столе – карточка, которую носил при себе муж, – и будто машинально коснулась большим пальцем зубов. И в тот же миг поняла: там, в ящике письменного стола – ужасный способ покончить с этой неловкостью. Прежде Анне никогда не приходило в голову им воспользоваться, применить средство для избавления, средство, доселе казавшееся лишь проклятием.
Муц заметил, как стремительно коснулся зубов женский большой палец, как Анна подержала его некоторое время и опустила, едва отложилась мысль, и как обернулась к нему, чтобы убедиться: гость по-прежнему здесь.
Йозеф почувствовал, что попал в глупое положение; вспыхнуло воспоминание о том, как умолял он Анну отправиться вместе с ним в Прагу; неловкость сменилась тоской, а после – страхом. Назревало что-то страшное. И он уже готов был на что угодно, лишь бы отдалить ужасный момент, но не знал, что предпринять. Рассказать анекдот? Бежать? Шагнуть к ней, расцеловать, пусть даже и насильно? Умолять?..
– Йозеф, – заговорила Анна, – я никогда не говорила тебе того, что ты так стремился узнать: для чего я здесь и почему прекратила наши встречи.
Достала ключ. Отперла ящик. Муц знал: хозяйка собирается впустить в его жизнь что-то дурное, от чего оберегала прежде и что он теперь никогда не сможет позабыть. Встал.
– Анна, – попросил он, переступил несколько шагов, остановился. – Аннушка, милая… Прошу… Пусть после, не теперь…
Анна точно не слышала просьб. Доставала из ящика пухлую пачку бумаг. Обернулась к Муцу.
– Как дочитаешь – поймешь, отчего я здесь… хотя вряд ли тебе станет яснее, что меня удерживает, – произнесла женщина. Сдержала всхлипывание, покачала головой и с улыбкой продолжила: – Это он создал тайну… но я сама заключила секрет в тюрьму, точно вечно могла так жить, точно в моих силах было хоть что-нибудь переменить! Как глупо!
Что же до тебя, Йозеф… Разумеется, мы поступили дурно, но вряд ли наш проступок сопоставим с той его подлостью. Я то жалела, то презирала его, порой стыдилась себя, и наша связь зародилась как раз в один из подобных моментов презрения, но не только из-за возрожденной жалости решила я оборвать наши отношения. – Анна осеклась. – Послушай, я так откровенна… В точности как он. Но ведь это не значит, что я поступаю дурно, верно? Ведь правда?
– Верно, – подтвердил Йозеф. Казалось, каждая клетка тела его очутилась не на своем месте.
– Главное, – продолжала говорить Анна, – что Алеша не знает. И пусть не узнает никогда, не хочу. Тебе ясно? Обещаешь ли?
– Да.
– Он тебя полюбил. Да и ты, кажется, к нему успел привязаться, ведь так? Но ни разу не поговорил с сыном. Ну, довольно. Возьми. Не могу здесь оставаться, покуда ты станешь читать. Ведь будешь?
Муц кивнул. Говорить не было сил.
– Я пойду на кухню, – сообщила Анна и вышла.
Муц взял бумаги и принялся читать аккуратно выписанные строчки…
Муж
Любезная моя Аннушка, звездочка моя!
Пришлось сжечь немало страниц (чтобы чужим на глаза не попались), всё никак не мог рассказать о случившихся со мною переменах, и вот наконец вышла повесть, более или менее меня удовлетворившая. Рассказ покажется спутанным; должно быть, ты многого не поймешь. Сперва думал, что не стану всего раскрывать, но решил ничего от тебя не утаивать, как бы ни было мне тяжко писать, а тебе читать о произошедшем. Слова эти нам с тобою нужны. Даже теперь, написав так много, перечитав строки и позабыв, пока писалось, изрядную долю, кажется, что повествование мое исполнено некоей особой святости.
Ты полагала, я погиб? Прости. Да, я повинен в том, что заставил тебя скорбеть о моей кончине, и прошу простить за причиненные страдания. Представляя, как твой милый лик искажают рыдания, вызванные мыслью о моей погибели, мне хочется оказаться рядом, убедить, я жив и состояние мое гораздо, гораздо более завидно, нежели участь живущих! Так что ты прости меня. Предвижу, узнав о роде произошедших со мной перемен, можешь возжелать мне смерти. О, не пугайся. Пойми лишь, в совершенном повиниться я перед тобой не в силах, ибо каяться могу лишь в совершенных грехах, а деяние мое – не грех перед Господом. Напротив: удаление от греха. И сожалею не об изменениях, которым подвергся, но единственно о том, как много времени потребовалось, чтобы осознать, каковым переменам должно произойти. И мне жаль, что пришлось оставить тебя с Алешей. Теперь мне понятны переживания уцелевших после кораблекрушения, в котором погибли дорогие существа, когда знаешь, что родные души по-прежнему сражаются с ледяной водою, зовя на помощь вдалеке, но так и не зная, откуда грядет спасение.
Должен заметить: мы, живущие здесь, называем свою общину «кораблем». Аннушка, я обитаю средь ангелов! Подобное утверждение кажется мне вполне естественным, равно как и признание в том, что и сам я сделался небожителем, однако же, перечитывая только что написанное, понимаю, что ты, должно быть, сочтешь меня утратившим рассудок. А потому я должен поведать тебе обо всем без стыда или страха.
Для тебя никогда не было секретом, сколь сильна моя вера, что я не сомневаюсь ни в едином слове Писания и что если речи апостолов и пророков кажутся противоречивыми, то виной тому – единственно мой скудный разум, препятствующий пониманию прочитанного. Полагаю, тебе известна и моя вера в рай, в царство Божье и в земную обитель, существовавшую прежде, чем Адам с Евой вкусили запретного плода. О, то был рай моей мечты – не небесный чертог, но Эдемский сад, где ты, я и Создатель смогли бы прогуливаться в кущах, предаваясь разговорам, и где мы с тобою парили бы в ангельском сонме над бескрайними лугами.
Мне внушала отвращение столь распространенная среди крестьян вера в то, что им предстоит выносить суровые тяготы вечно, равно как и претит их пьянство, драки, нищета; то, как болезни и голод обрывают дыхание грудных младенцев, и готовность черного люда пройти по бездорожью сотни верст, единственно чтобы приложиться к чудотворной иконе. Негодовал от зрелища того, как заводы, принимая мужиков, превращают их в части механизма. Мне претил всеобщий обман: адвокатам приходится лгать по службе, чиновники убеждают прочих в собственной честности, попы прикидываются праведниками, врачи делают вид, будто в силах исцелить немощных, а о прочих лжецах лгут журналисты. Ненавистны были и мучения лошадей людьми. Ведь животные кажутся благороднее нас, гораздо ближе к первозданным коням Эдема, чем мы к обитателям прежнего рая. Лошадям удается достичь того, на что мы более не способны: животные сочетают в себе достоинство с кротостью.
Лошадей полковник любил. Обращался с ними хорошо и заставлял подобным же образом и подчиненных относиться к скакунам. Кстати, известно ли тебе о его смерти?
Лишь только я впервые увидел кавалергардов – тотчас же захотел войти в их круг. Такие красивые лошади и мундиры, и даже лица их казались созданными скорее для любви, нежели для боя. Любви неистовой, страстно желающей покорять, однако – любви. Мне же было всего семнадцать, и именно под знаменами любви хотелось мне вступить в жизнь.
Я был весьма невежественен и глуп. И впрямь полагал, будто войнам впредь не бывать, а если и случится битва, то блистательных кавалергардов на великолепных конях пули милуют. Лишь позднее узнал я, как распространены были среди моих товарищей пьянство, азартные игры и скотское обращение с женщинами. Однако же в те дни я полагал, будто император гораздо ближе к Создателю, нежели любой из встречавшихся мне попов, и государева служба казалась поприщем служения Господу, в отличие от монашества. К тому же стань я монахом – никогда бы не повстречал тебя.
Ты, конечно же, помнишь офицера, с которым я сошелся ближе прочих, Чернецкого. Вечно твердил про своих монголо-татарских предков, даром что голубоглазый блондин. Помнишь, как вместе выезжали мы за город? Луг, цветы, тростник… Обрызгав твое платье вином, товарищ притворялся, будто намерен застрелиться. Помню, мы много смеялись. Да, должен заметить, что некогда нам с тобой и Чернецким случалось часто хохотать. Пожалуй, теперь, преобразившись в ангела, я стал смеяться реже. Да и то лишь от радости, а не в насмешку.
В нашем полку был и другой знакомец, о котором я тебе не рассказывал прежде. Фамилия его была Ханов. Кузнец. Низкорослый, сухопарый, загорелое скуластое лицо, усы его никогда не отрастали – так, вилось несколько волосков. Ни возраста его, ни того, порождены ли морщинки, разбегавшиеся по лицу, возрастом, или же загаром, или обеими причинами сразу, установить было невозможно. Был он из сибиряков. Работал в кузнице от рассвета до заката, случалось, что и за полночь задерживался, тем и спасался от наказаний за свои причуды, да еще потому, что был знатоком по части лошадей.
Ханов ни за что не соглашался отдавать офицерам честь, а потому всякий раз, когда приезжал с проверкою генерал, кузнеца прятали. Отказывался кузнец и ходить на санацию от вшей вместе с прочими нестроевыми; в этой лачуге служивых раздевали, поливали, обрызгивали особым составом и мыли из душа. Кузнец уходил из бараков, а возвращался несколькими часами позже, принося с собой бумагу, выписанную каким-то городским врачом; в бумаге утверждалось, что очистка от вшей произведена. Был немногословен. Мне и прежде, до нашего знакомства, приходилось слышать ходившие о Ханове слухи. Рассказывали, он провел десять лет на каторге за убийство; что все семейство кузнеца погибло от голода; еще говорили, будто он не православного, лютеранского, иудейского или же магометанского вероисповедания, а принадлежит к одной из тех таинственных сект, столь часто дающих пищу сплетням.
Кузнеца называли хлыстом, утверждали, что он сам себя сечет, а после вертится волчком на своих тайных сборищах, переходящих в оргию. Мне было известно, что он вегетарианец и не пьет горячительных напитков: явный знак принадлежности к этому сообществу вольнодумцев. Однако Ханова встречали на всякой церковной службе.
Впервые я увидел его издалека, когда мы с Хиджазом, подобно остальным бойцам эскадрона, отправились ранним утром на прогулку по расположенному близ кузницы загону. Горн и наковальня стояли под огороженным навесом прямо перед нами; все мы видели, как Ханов звучно прилаживает подкову. С утра было пасмурно, кузнец еле виднелся в дымке, образованной человеческим и лошадиным дыханием, однако же я смог различить и кузнеца, и красное мерцание, исходившее от горна.
Бой молота прекратился, я увидел, как выпрямляется и смотрит мне прямо в глаза, провожая взглядом, Ханов. Казалось, тишина сорвала с меня некий тайный покров, точно внимание кузнеца привлекли стук Хиджазовых копыт, конское дыхание и звяканье сбруи, хотя и прочие участники конного променада создавали схожий шум. Несколькими мгновениями позже я вновь предстал перед взорами подмастерьев, и все так же глядел на меня кузнец. В тот раз Ханов не прикоснулся к молоту, пока я не вывел Хиджаза с плаца. Помнишь ли, Аннушка, когда мы повстречались впервые и я рассказывал о том, что добрые души издалека видны ярче оконных огней? И теперь я знаю: так Ханов выискивал добрых людей. Однако тогда кузнец меня напугал. Я избегал с ним всяческих сношений, покуда не случилось так, что все рядовые оказались заняты работой и пришлось вести коня с утерянной подковой самому.
Ханов отдал животное на попечение подмастерьев, сам же снял фартук и спросил, не изволю ли я испить с ним чайку. Обращался вежливо, как и положено нестроевому разговаривать с офицером, однако же сохранял неприличествующую подчиненному вольность тона и выражения лица. Я отправился за Хановым покорно, точно Хиджаз, которого я сам выводил из стойла давеча утром.
Прошли в мастерскую: комнату пересекал во всю длину верстак, иззубренная дубовая колода, по стенам беспорядочно развешена была чугунная утварь, среди коей изредка попадались блестящие предметы из меди или стали. В глубине помещения – печь, здесь же были сооружены скамьи, поставленные на пустые короба из-под обмундирования, а также тонкой работы кованый столик. Ханов признался, что столик выковал один из подмастерьев.
Кузнец разлил чай по стаканам в чеканных подстаканниках из тонкой листовой меди, которые сперва обработали, а после, свернув, придали им округлость стаканных донцев. Медь украшала изящная гравировка чернью, выделявшаяся на фоне блестящего металла. На мой вопрос, уж не постарались ли и здесь подмастерья, Ханов ответил: нет, его собственная работа.
Я взял подстаканники, чтобы подробнее разглядеть. Узор представлял собой человеческие фигурки. Большеголовые, с крошечными туловищами, они казались неуклюжими языческими изображениями. Древо, на котором произрастал некий плод… И я понял, что передо мною. То был Эдемский сад, а под деревом – Господь, обращающийся к Адаму и Еве! Я пребывал в столь сильном смятении чувств, что тотчас же перевернул подстаканник, точно книжную страницу, отчего пролил чай на пол; туда же последовал и стакан, разбившись.
Ханов убрал осколки, отмахнувшись от моих извинений, и подал новую посуду. Попросил успокоиться и не бояться. Он-де приметил мою набожность, как я чту Священное писание, и задумал со мной повидаться. Сам он выходец из сибирского городка Язык, что между Омском и Иркутском. На каторге не бывал, семьей не обзавелся; усыновил его, сироту, один кузнец в Языке, от него-то по смерти воспитателя и досталось моему новому знакомому кузнечное дело. Не будучи хлыстом, Ханов, однако же, подобно всем обитателям Языка, принадлежал к вере иного толка. Не желая вдаваться в подробные разъяснения, упомянул лишь, что он, вкупе с остальными собратьями по вере, уже давно пребывал в раю – здесь, на грешной земле.
О, милая Аннушка, я никудышный писатель, и нет у меня дара Иоанна Богослова или апостола Петра, чтобы передать, насколько правдоподобным и убедительным прозвучало для меня заверение кузнеца о столь фантастической возможности! И прежде я внимательно выслушивал блаженных и юродивых, что попадаются в многолюдных городах, однако же ни за что не стал бы прислушиваться к заявлениям человека, утверждающего, будто бы рай воссоздан прямо здесь, на земле. Однако Ханову удалось всецело завладеть моим вниманием. Он говорил с такой убежденностью, заглядывая мне в глаза и улыбаясь столь ласково, приязненно и добросердечно, при этом изящно постукивая руками в такт собственной речи, что вовсе не походило на его движения за наковальней. Говорил спокойно, но в лад, напевно.
Разумеется, я полюбопытствовал, как возможно обрести рай, избегнув смерти, и тогда мой собеседник посерьезнел, сообщив, что всякому надлежит проделать сей путь в одиночестве. Единственный способ обрести Эдем, по его словам, заключался в том, чтобы «спалить ключи адовы». Подобрал кусок угля и швырнул в раскаленный жар открытой печи, где уголь тотчас же вспыхнул огнем. Смыл водой из самовара сажу с пальцев.
Тогда я спросил, что такое «ключи адовы», но кузнец, пообещав разъяснить позднее, вернулся к наковальне. Некоторое время я стоял возле горна, играя пустым подстаканником. Хотелось получить изделие в подарок, точно залог великой, непознанной тайны.
Судьбе, однако же, было угодно развести нас с кузнецом на несколько месяцев. То учения, то разъезды (ты же помнишь, как мы ездили к твоей матери), а когда я приходил поговорить с Хановым, подмастерья отвечали, что он занят в мастерской.
У меня зародились сомнения: уж не были ли и подмастерья райскими жителями? Было в них нечто потустороннее: гладкая кожа, нежные голоса, лики, лишенные печати времени… Нетрудно вообразить, сколько часов я провел, гадая, как это возможно: как можно обитать в раю, находясь в то же время среди подобных себе, во лжи и грязи, среди жестокости, разочарований и мерзостей. Как ни снедало любопытство, я ни о чем тебе не рассказывал. Не знаю отчего. Быть может, предчувствуя грядущую перемену и то, как нас разлучит случившееся. Или оттого, что кузнец велел мне приходить одному – может быть, в том причина страха, препятствовавшего, чтобы я хотя бы мимоходом обмолвился о Ханове.
Но я исполнился решимости отыскать ответ. Вероятно, ты чувствовала мое настроение. Мне казалось, на меня снизошла некая тайная сила.
Как-то ночью, в самый разгар лета, когда полк отправился на учения под Полтаву, я задремал в своей кибитке. Вошел пехотинец и сообщил: некто желает со мной свидеться. Обувшись, я вышел.
У бивуака стоял подмастерье. Не отдав чести, положил руку мне на плечо и принялся нашептывать что-то на ухо о Хиджазе, которого я прежде приводил подковать. Не успел подмастерье договорить, как солдат кинулся на него и ударом в лицо повалил, уже обеспамятовавшего, наземь, приговаривая, что научит почитать старших по званию. На мой вопрос, понимает ли он, что совершил, солдат глянул на меня точно на умалишенного. И я понял: хотя мне и казалось, будто солдату отныне уготовано место в аду за то, что поднял руку на ангела (или по меньшей мере на небожителя), однако же поступок его мыслился совершенно допустимым в армейском быту, и сила, вздумай я противостоять военному укладу, оказалась бы далеко не на моей стороне.
Я приказал солдату отвести мастерового к доктору. Кажется, тот лишился зуба. Сам же я направился туда, где стояли кибитки кузнецов.
Их бивуак был расставлен поодаль, у края леса. Походную кузницу и работающих в ней кузнецов от солнца защищал тент, под которым работал подмастерье. Я спросил о Хиджазе. Работавший указал на изгородь, к которой было пристегнуто несколько скакунов, заметив, что лошадь готова и ежели я ничего не имею против, то могу забрать коня после того, как переговорю с Хановым. Я кивнул, ибо не мог говорить – столь сильно билось сердце. Мастеровой оставил свои инструменты и провел меня далее, за походную мастерскую.
Тент натянули к ближайшему дереву. Здесь росли буки, изящные, высокие серые деревья. Некоторое время я следовал за направлявшимся в чащу подмастерьем. Было около десяти. Солнце только что село, однако еще не успело стемнеть.
Мастеровой подвел меня к парусинному лоскуту, натянутому поверх ручья: края ткани закреплены по берегам, брусья установлены в устланном мелкими камешками ложе.
Мой проводник спросил, не угодно ли мне разуться, я снял сапоги, развернул портянки и шагнул в холодную воду, омывшую лодыжки. Мой провожатый ушел, я же пошел вверх по течению, к расставленному шатру.
Передо мною на складном стуле сидел Ханов. И ножки стула, и ноги кузнеца были опущены в поток, огибавший их с приятственным журчанием. Я много думал о предстоящей встрече, воображая множество вопросов и ответов, однако первая же реплика моего знакомого поставила меня в тупик.
Кузнец спросил, отчего Хиджаз был цел. Ты ведь помнишь, Аннушка, что так мы между собою называем некастрированных жеребцов?
Поколебавшись, я в замешательстве ответил: Хиджаз – доброе животное, он послушен, силен, резв и быстр и проявляет свои лучшие качества, стоит мне лишь попросить. Прежде, когда скакун мой был помоложе, ему случалось проявлять норов, но мне удалось совладать с ним посредством тренировки, доброго отношения и приязни, как и положено посвященному в тонкости искусства обращения с лошадьми. К тому же кастрированные кони у кавалергардов не в чести. Говорят, им не хватает задора, когда дело доходит до атаки.
Я рассчитывал услышать от кузнеца что-нибудь вразумительное, но тот лишь кивнул и задал еще более странный вопрос: может ли лошадь грешить? Я же ответил, что никогда прежде не задавался подобным вопросом, однако же полагаю, что ни коням, ни прочим животным грех неведом.
С улыбкой Ханов вновь кивнул. Сказал, что я прав и что ни одна тварь согрешить не в силах. Лишь человек может. Добавил, что человек – царь над лошадью, над человеком же, кроме него самого, царя нет, и на то воля Божья. Ибо возжелал Создатель, чтобы человек сам над собою воцарился, дабы осмыслить, как вновь обрести кротость невинную и любовь и стать ангелом на небеси. И что дозволено лошади, то человекам непозволительно, ибо воля людская страшна и зла, а все его желания и устремления зла исполнены.








