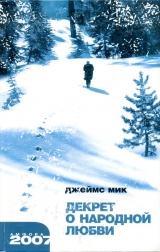
Текст книги "Декрет о народной любви"
Автор книги: Джеймс Мик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
В перелеске, должно быть, имелись и солдаты каждой стороны, но мне посчастливилось их миновать. То были самые первые дни войны. Как ты наверняка догадываешься, я не очень пристально следил за новостями последних месяцев, однако же осознавал склонность военных ставить окопы и возводить укрепления при первой же возможности. Войска передвигаются медленнее, осмотрительнее. Кавалерия идет в пешем строю. Воюющие мудреют.
Разумеется, опытность не спасает от гибели.
Я шел часами, стараясь шуметь как можно меньше, направляясь в глубь леса. Ночь выдалась теплая. Свернулся на подстилке прошлогодних листьев между двумя древесными корнями и погрузился в сон.
Проснулся от кошмарного сновидения перед самым рассветом. Снилась битва… но полно, можно ли назвать битвою произошедшее?! Сплошная резня! Да-да, обыкновеннейшая резня, не считая некоторых различий. Во-первых, ты, Алеша и полковник каким-то загадочным образом присутствовали при этом душегубстве, пусть и отворотившись. Вы смотрели как-то иначе.
Во-вторых, стоило лишь полететь снарядам, и я почувствовал, точно меня изнутри грызет злобная мелкая тварь, стремясь вырваться наружу. С криком я встал над ложем из палых листьев, сорвал рубаху, наскоро ощупал все тело. Новых следов не было. Ни царапины.
Я разулся, снял с себя остатки одежды, уселся голым на корень, отыскивая рану, в существовании которой ничуть не сомневался. Так ничего и не нашел. В глубине сердца я ничуть не удивился, что не чувствовал утраты плоти или потери крови. Скорее, приобрел нечто новое. Видел, как лучших из моих товарищей вместе с лошадьми в мгновение ока скосило, точно траву, а сам не получил ни царапины. Мне следовало пасть на колени и стоять так дни напролет, вознося хвалу Господу за Его милосердие.
Однако же я не чувствовал себя спасенным. Казалось, внутри меня грязь, точно сердцу моему отныне никогда не суждено очиститься, сколько ни изнуряй себя постом да молитвами, точно неизбывный гнет тяготит душу, не позволяя оставить мир бессмысленного истребления.
Хрустнула ветка, я метнулся за корень, прихватив обмундирование. В нескольких десятках саженей между деревьями двигалась темная фигура. Лошадь без всадника.
Напялил мундир, натянул сапоги. Почувствовал жажду, стал думать, где бы напиться. Решил идти следом за лошадью. Вышло легко. Животное то и дело останавливалось. То ли думало, то ли прислушивалось. Пару раз оглянулось. Лошади не было никакого дела до того, шел ли я следом.
Приблизившись, заметил, что конь был кавалергардским. Под седельною попоною нашего полка. Я узнал скакуна – Денди, принадлежавший Шумайлову. Можно было бы постараться овладеть скакуном, однако же я совершенно не представлял, в каком направлении надлежит продвигаться, и столь скверно чувствовал себя из-за гибели Хиджаза, что с радостью согласился на унижение, позволив лошади вести меня за собою. Не представлял себя верхом, и при самой мысли в горле моем вставал ком.
Примерно через версту справа послышался хруст, показалась знакомая мышастая морда Летуна. Как звали хозяина, не помнил. Вероятно, его убили, и мне стало неловко оттого, что забыл имя человека.
Отныне ничто уже не казалось мне странным, и мы двинулись вперед: пара лошадей, ведущих человека за собою. Примерно через час повеяло дымом: набрели на опушку, посреди стояла избушка угольщиков.
Перед костерком на бревнах сидело четверо. Дым шел и из лачуги. Как только вышли на поляну, один из четверки, которого я тотчас же узнал, поднялся и взял лошадей под уздцы, поприветствовав меня кивком.
Остальные трое глядели на меня молча. Я узнал всех. Подошел. Ханов осведомился, не угодно ли мне посидеть с ними. Усевшись, я попросил воды. Подмастерье подал мне чашку, и еще одну, как только я осушил первую.
Я сказал Ханову, что его искали. Тот ответил, что никак не мог предаваться душегубству. И, так говоря, указал в сторону, откуда я пришел. Спросил, где полк, я ответил, что почти все погибли. Кузнец кивнул и заметил, что произошедшее, однако же, посчитают победой.
Я попросил пояснений. Мой старый знакомый ответил: власти предержащие – царь, генералы, богатеи и миллионщики – ценит отдельные жизни не больше, чем штучные рубли или доллары. И за игорным столом, и проворачивая дела свои, богатеи готовы истратить тысячи, чтобы обрести миллионы. Если же миллионы проиграны, то в запасе остается еще.
Точно так же и с людьми. Для них полк в тысячу душ – невелика потеря. Однако же я должен уяснить истину, недоступную самому царю: и его величество вместе с воеводами, равно как благородные и миллионщики, и кайзер, и австрийский император, и английский король или французский правитель со всеми их богатыми и знатными придворными, со всеми их генеральными штабами и биржами сами, в свою очередь, разменная монета, поставленная на кон куда более великим игроком в гораздо более серьезной игре.
Ханов спросил, чувствую ли я присутствие упомянутой великой руки. Я признался, что ощущаю.
Кузнец спросил, известно ли мне прозвание игрока. Я спросил: «Не сатана ли?» Ханов подтвердил: «Он, враг рода человеческого». Добавил, что нечистый вовлек человечество в столь тщательно сплетенную им военную интригу, дабы бросить вызов Всевышнему. Несколько десятилетий работал черт, чтобы довести нас до нынешнего состояния, и дело у него спорилось, поскольку всех людей он держал на цепи. Сатана может притягивать семя человеческое и играть с ним по своему усмотрению, равно как луна притягивает приливы.
«Но ты игре не поддался», – заметил я.
«Верно, не поддался, – подтвердил Ханов. – Ибо не человек, но сработал себя по образу и подобию ангельскому. Ключи адовы, меня тяготившие, отъял да подале кинул. Тем самым в рай, Богом от начала сотворенный, возвратился, где и нынче пребываю. – Потом добавил: – Бог велел мне идти за Урал, пока не свершилась предсказанная война, и вступить в армию, чтобы отыскать хотя бы несколько душ, понимающих, в какой тюрьме они находятся и как ее избегнуть».
И мыслить о нем мне надлежало как об ангеле, в геенну огненную сошедшем, дабы отослать на волю столько чистых душ, сколько сыщется, ежели те осмыслят собственную суть, а осмыслив, из узилища на волю устремятся по доброй воле.
Я спросил, как это возможно, чтобы люди обитали в раю и на земле одновременно, а кузнец ответил, что рай голубей белых (так назывались скопцы) кораблю подобен: на суше, а плывет, порой и к берегу пристанет, а всё никогда на суше не задерживается, и нет на него ни законов, ни границ нравственных.
На мой вопрос, как именно с ними разговаривает Господь, ответил: «Кружимся». Тронул подмастерье за плечо, тот поднялся, встал на плоский валун у края опушки. Развел руки, принялся вращаться, стоя на одной ноге, и вскоре набрал такую скорость, что телесные очертания его расплылись, точно ком ваты, утратив всякое сходство с человеческим силуэтом. Казалось, тело его соткано из гораздо более тонкой материи, нежели мир вокруг. Точно вот-вот воспарит над камнем, скроется в кронах деревьев.
Подошел второй помощник, и, прокружившись несколько минут, силуэт вновь обрел свои земные очертания, человек упал на руки товарищу; взмокнув от пота, закрыв глаза, он бормотал что-то невнятное и улыбался.
Ханов попросил рассказать об убийствах, и хотя повествование давалось мне нелегко, я описал происшедшее как можно подробнее. Кузнец спросил, не ранили ли меня. Я ответил: нет, не ранили, хотя мне и невдомек, отчего Господь избрал среди всех товарищей именно меня и провел через поле битвы целым и невредимым. Признался скопцу, что все же чувствую, как несу за собой с того поля вериги смерти, навеки приковавшие меня к мгновенно свершившемуся человекоубийству.
Тогда скопец спросил: «Знаешь ли, как тот груз прозывают и где он обретается?»
Взглянув на Ханова, я понял, что это за груз, а прикоснувшись к бремени рукою, ощутил его точно опухоль. Внутри зародился страх, однако же то был страх плотской природы, в то время как в духе ощущал зарождение несказанной радости, явственно увидел себя стоящим на судне, привязанном к пылающей суше, и как отсекает меч увязанный канат… и я свободно плыву по водной глади! Подумалось и о тебе с Алешей. Вас в том видении не было. Точно ты с сыном очутилась в какой-то иной вселенной, в другой России, лежащей по другую сторону от душегубства, куда мне не добраться. Во мне зародилось ликование, смешанное со страхом, однако же радость пересилила. Вот для какого испытания спас меня Бог! – понял я. В противном случае как бы я отыскал Ханова?
А скопец произнес: тем, кто не голуби белые, а вороны (так скопцы называют остальных), кажется, будто горе и злосчастие мирское на тысячи частей поделено, а меж собой не связано. Что злоба, жадность, похоть да воинственность вкупе с гордынею, завладевающей разумом человеческим, ложь себе на пользу, себялюбие и скорбь, настигающая даже богатых на закате дней их, не суть есть попущенье дьявольское. Как есть незрячие! Что побуждает человека идти войной, копить добро, жаждать баб, как не тот же самый зуд семени?!
Разве не видел я лица кавалергардов, скачущих в бой, подгоняющих безвинную скотину к гибели с той же неумолимой жадностью, с какою рассаживались мои товарищи за игорные столы и какая понуждала их вожделеть вещи и женщин? Слишком крепка цепь дьяволова, не оборвешь ее заповедями Божьими.
Сама форма ключей адовых указывает на то, что происходят они от грехопадения, змея-искусителя и от плода с древа познания, ибо суть ствол и два плода.
Лишь уничтожив ключи, может освободиться человек, потому-то и сделал их враг-искуситель столь милыми для нас. Ужели не подумал я, завидев в ручье его тело ангельское, что скопец, может статься, принес жертву более великую, чем если бы отсек себе обе руки или перерезал горло? Неужели избег подобных мыслей?
Я ответил, что подобные раздумья и впрямь меня посещали и что я готов. Скопец возразил. Снова и снова повторяли мы те же слова, покуда не спросил я, что говорится в Писании. Ханов произнес слова Евангелия от Матфея: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну».
После же зачитал из Иоанна: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто мир возлюбил, в том любви Отчей нет. Ибо все, что в мире пребывает: любострастие, похоть взора и гордость житейская – то не от Отца, но от мира сего».
И тогда я встал, умоляя учителя забрать меня в рай. Ханов приподнялся, тронул меня за плечо и, покачав головой, ответил: то не в его силах.
Я попросил вновь. После моих неоднократных просьб наставник уточнил, действительно ли я желаю преобразиться, а я отвечал в самых горячих заверениях, чувствуя, как зарождаются в душе радость и страх.
Ханов повел меня к угольщицкой избушке, останавливаясь на каждом шагу, чтобы удостовериться, крепко ли я решил.
В лачуге оказалось очень жарко. Алел отворенный горн, на грязном полу стоял деревянный стул. Учитель велел раздеться. Добавил, что в любой миг, покуда не примутся урезывать, могу отказаться, воскрикнув: «Не желаю!»
Снаружи точили нож. Мгновенно нахлынула волна ужаса, но тотчас подумалось: предстоящее ничтожно по сравнению с виденной мною резней, со страданиями, перенесенными и уготованными моим товарищам.
Усадив меня на стул, наставник попросил раздвинуть ноги. Произнес, что покудова усечет лишь плод, но не само древо. Обряд назывался «первою печатию», «восседанием на пегого коня». Воссесть на белого коня предстоит позже. Также присовокупил: как только все свершится, я должен бросить отрезанное в пламя.
Вошли мастеровые. С лица кружившегося еще не сошла улыбка, взор был малость изумленный. Один принес короткий острый нож, который передал учителю вместе с белым полотенцем и открытою бутылью спирта, затем поставленной на землю.
Преклонив передо мной колена, все четверо совершили молитву. Порой испытывали меня вопросами, о которых, Аннушка, я не вправе тебе писать, ибо то – сокровеннейшие из слов.
Встали. Один подмастерье свел мне руки за спиною, пока двое других удерживали за ноги. Склонившись, наставник левою рукою приподнял мой детородный орган, молниеносно взмахнув правою, в которой держал нож. Казалось, в тот миг Господь отвернулся от меня, и восхищение омрачилось ужасом. Вспомнились Алеша, радости отцовства и наше свадебное путешествие в Тавриду, как ты потребовала причитающуюся тебе часть меня, как я предоставил требуемое и как нарушил клятву, согласившись вступить в Эдем.
Нож был невероятно остр. В мгновение рассек кожу, жилы и врезался в деревянное сиденье, прежде чем я почувствовал боль. Полагаю, я не кричал. Отчего-то старался удержать стоны. Вероятно, все крики вышли из меня, покуда я лежал, обнимая погибшего Хиджаза за шею.
Меня подняли подручные, теплые багровые струйки бежали меж моих бедер, прикосновение спирта к ране обжигало, мне протянули холстину с тем, чтобы я прижал ее к кровоточащей плоти…
После наставник вложил мне в незанятую руку свежеотрезанный мешочек, такую теплую и привычную часть тела, отныне мне не принадлежавшую.
Подойдя к горнилу, швырнул отрезанное в жар, и плоть с потрескиванием изжарилась в пламени. Я рухнул в беспамятстве.
Сделанного не воротишь, Аннушка. Вскорости мне еще о многом предстоит тебе написать. Хотелось известить тебя, невзирая на запреты. Чтобы ты знала. Не говори покуда ничего Алеше. Знай лишь: я, дезертир в ангельском чине, приобщился к скопцам и вполне счастлив.
Прими мои заверения в чистейшей любви, что еще осталась к тебе.
Не сердись на меня, умоляю.
Твой супруг и бывший офицер, Глеб Алексеевич Балашов.
Крепость Язык, 20 декабря 1914 года
Дочитав, Муц положил письмо на канапе. Взглянул на подаренный художником к свадьбе дочери портрет человека, которого (теперь он знал наверное) звали Балашов. Разумеется, изображенный ничуть не походил на лавочника из Языка, но винить следовало художника. Чтобы Алеша видел отца…
Никогда прежде не приходилось Муцу чувствовать себя столь же гадко, как после исповеди Балашова. Поежился, невольно вообразив, как лезвие отсекает мешочек его собственной плоти между ног.
Встал, размял пальцы, огляделся, не понимая, что ищет. Взмок от пота, несколько раз с трудом сглотнул подступивший к горлу тошнотворный ком.
Нужно пойти переговорить с Анной Петровной, но мысль о том, что придется снова увидеть лицо этой ведьмы, – невыносима… Стоило мысленно докончить фразу, будто пришедшую с неизведанных территорий внутри его мозга, как на теле выступил холодный пот; лицо этой ведьмы…
Тотчас первые проблески ярости, вспыхнувшей внутри, окутали, сбили с ног, повалив на диван, и не шевельнуться, а кожа, всё тело горит гневом. Еще не набрала силу злость на самого себя, что не догадался тотчас же: здесь община скопцов, кастратов. Бешенство, порожденное дремучим, первобытным невежеством Балашова, мальчишеской выходкой, невозможностью того, чтобы человек, обладающий здравым рассудком, как Муц, когда-либо решился объединить две противоположные крайности – тягчайшие увечье и боль и нелепейшую из всех шуток, какие только может проделать над собственным телом человек, – воедино. Негодование на самообман и наивность Анны Петровны, положившейся на здравомыслие богобоязненного кавалергарда и отпустившей мужа воевать. Сильнее всего сердило себялюбие женщины, отправившейся следом за безумцем на край света, точно Анна и Глеб до сих пор могли называться супругами, отчего Алеша томился в бессмысленной ссылке, и расчетливость женщины, вытянувшей прямо под носом Муца, поверившего в любовь, туза своего, козырного евнуха, точно объясняя хотя бы отчасти внезапную холодность в отношениях.
Хотелось что-нибудь разрушить. Более нет смысла задерживаться. Захлопнув за собой парадную дверь, зашагал по дороге к мостику. Не дойдя, стиснул ствол рябинки, что росла вместе с другими деревцами как раз у переправы, и долго, с рыданиями тряс, покуда не попадали вокруг в мокрую траву ягоды.
Треснула ветка, и резкость звука заставила припомнить, для чего приходил к Анне Петровне. Тот убийца и вор, о котором говорил Самарин! Людоед!
Зашагал обратно. Снова залаяла прежняя собака, Муц припомнил, как всего лишь час назад точно так же колебался, прежде чем войти, вспомнил смесь опасений и надежд и то, как совсем забыл о преступнике.
Отчего же? И тотчас закаменело внутри: да оттого, что думал тем же органом, которого лишился Балашов. А когда не веришь ни в Бога, ни в черта – чем хуже подчиниться желанию? Кто же посадил на цепь его?
И Муц, теперь укрощенный, смирный, прокрался через парадный вход, достал ключ из висевшего снаружи замка, запер снаружи дверь и протолкнул ключ в просвет под створкою. Обошел строение, направляясь к задворкам. Заглянул в кухонное оконце.
Анна Петровна спала, положив голову на стол. Мысль о том, чтобы разбудить, даже не приходила в голову. Пожалуй, он любит ее любовью, никоим образом не связанной с тем, на что подбивают чресла. Но кто может знать наверное?
Дошел до ворот, закрыл проем на щеколду, а после растянулся на соломе, окруженный теплой вонью хлева.
Конечно, именно Балашова заботила судьба Анны Петровны. Черт подери, она же ему жена… Заботливый.
Означает ли забота любовь? Что теперь проку Анне Петровне от любви мужа? Удар ножа устроил развод скорее любого стряпчего. Да и дешевле обошлось.
Муц почувствовал, как улыбается. На мгновение ощутил к себе гадливость, но тотчас же заметил: улыбается, значит, отвращение и ненависть к Балашову сменились сочувствием. Глебу, со всей его чертовой паствой увечных ангелов, требуется только одно: покой. Вероятно, над морем безумия, разлившемся в мозгу мужа Анны Петровны, возвышалось несколько островков человечности… кто знает, не было ли то чувство долга? Муц сможет добраться до остатков рассудка, он будет стараться. В конце концов, так ли уж нелепо полагать, что именно Балашов препятствует Анне Петровне и Алеше уехать вместе с ним? Придется переговорить с Глебом, разъяснить: скопец должен уговорить жену и сына оставить город и более не возвращаться. Балашов поймет. Доводы Муца совпадут с логикой безумия, объявшего бывшего кавалергарда.
И тогда останется лишь уговорить Матулу избавить подчиненных от его военачальницкой мании, после чего начнется исход во Владивосток. План нелегкий, но ясный.
Чехов он Матуле не оставит. Они ему соплеменники… даже если сами солдаты и офицеры полагают иначе.
Офицер заснул.
Матула
Земский начальник в Языке, Виктор Тимофеевич Скачков, в одиночестве завтракал в столовой, как вдруг наверху трижды вскрикнула супруга, с каждым разом поминая имя Божье всё громогласнее и громогласнее, а после, испустив длинную руладу, переходящую от высоких тонов к низким, и вовсе блаженно заворковала, точно лепечущий младенец. Звуки разносились по всему дому.
Хозяин ловко кусил насаженную на вилку котлету.
Когда Елизавета Тимуровна утихла, в столовой было светло и спокойно: открытые окна, кружение пылинок в солнечных лучах, тиканье ходиков, шорох платья: служанка, Пелагея Федотовна Филиппенко, разливала чай.
– Стыд-то какой, – прошептала молодуха.
Мужчина пил, не прихлебывая. Жевал, закрыв рот, а столовыми приборами орудовал так, что они не звякали о фарфоровую тарелку. Беззвучно священнодействовал.
– Доброе утро, Виктор Тимофеевич, – поприветствовал земского начальника Муц, стоя в дверном проеме. – И вам, Пелагея Федотовна, доброго утра. Капитан Матула просил нас составить ему компанию за завтраком.
Земский голова продолжал трапезу, точно не слыша, и смотрел в некую точку в середине длинного стола.
– Что ж, садитесь, ежели так, – пригласила гостей Пелагея Федотовна.
Поблагодарив, Муц вошел в дом вместе с двумя офицерами-чехами – Дезортом и Климентом.
– Зажарьте нам, пожалуйста, картошки с ветчиной и копченым сыром, – попросил у кухарки откинувшийся на спинку стула Климент.
– Ишь чего в башку взбрело! – возмутилась служанка. – Вот вам котлеты с кашей, хлеб да чай. Небось не у себя в Карсбадах.
– Ах, если бы я смог отвезти вас в этот дивный город Карлсбад! – произнес Климент, отщипнув хлеба и кладя кусок в рот. – Платье синее бы вам купил. Как прелестно вы бы смотрелись…
– Отчего ж синее? – поинтересовалась Пелагея Федотовна, расставляя офицерам посуду.
– С бриллиантами, – продолжал Климент.
– Прям не знаю, чего я там такого не видела в этом вашем Карсбаде, в европах ваших.
– И вот вы, в синем платье, с бриллиантами, спускаетесь по лестнице в отеле «Бристоль», а все благородные дамы и господа недоумевают: кто же эта интригующая русская красавица? Уж не принцесса ли, или новая пассия Дягилева?
– Ишь разошелся! – фыркнула Пелагея. – Ври больше! И отчего ж синее? Почему ж, для примера, не желтое?
Климент с Дезортом рассмеялись, а служанка, покраснев, велела перестать, вот осрамить ее удумали, бесстыдники, ох и охальники, уж она им припомнит…
– Мне случалось бывать в Карлсбаде, – произнес земский начальник.
Присутствовавшие забыли, что хозяин дома не был частью обстановки, и движениям Виктора Тимофеевича и потреблению им пищи значения придавали не более, нежели тиканью часов.
Продолжил:
– Помнится, в некоем варьете смотрел негритянку в белом, утверждавшую, будто способна разговаривать с самим сатаною, однако же то был трюк, на нас он не произвел решительно никакого впечатления, тривиальнейший разговор на два голоса: один – крайне тонкий, а другой – бас, как у медведя. Хотела запугать, а мы не испугались, хотя, спору нет, женщина та вступала в сношения с нечистым, оттого-то и держал я руку на рукояти карманного револьвера. Помню, кормили прескверно. Форель у них пресная, не то что наша. Большая красная рыба, вот как этот стол, а сочная – что твоя оленина.
– Вы правы, ваше превосходительство, рыба здесь отменная, – подтвердил Муц.
Офицеры неотрывно смотрели на тарелки, куда принялась раскладывать серую массу Пелагея Федотовна.
Дезорт откашлялся. Климент принялся тихо напевать себе под нос и глянул на служанку, когда та наклонилась над его прибором. Моргнул, скорбно поджал губы, стрельнул глазами на женскую грудь…
Вновь заговорил земский начальник – мерно, невыразительно, не поднимая взгляда:
– Мы пошли в казино, принялись играть в рулетку, покуда я не спустил все деньги, что были при мне. Поставил две запонки на красное, и крупье достал из шкатулки еще пару, так что вышло, будто у меня четыре запонки. Те, что выиграл, по форме походили на якоря.
Крупье сказал, шкатулка принадлежала русскому. Я посоветовал супруге поставить кольцо на любую цифру, и если она угадает, то ей дадут тридцать шесть колец. Но жена моя играть не стала. Оставила кольцо при себе, то, что я купил у ювелира на Невском проспекте за пятьсот рублей, пять бриллиантов вокруг изумруда. Кольцо у нее осталось. А после я и запонки проиграл.
– Весьма забавно, ваше превосходительство, – произнес Муц.
Климент с Дезортом еле слышно одобрительно хохотнули. Хозяин дома не улыбнулся, не рассмеялся и не поднял глаз. Да полно, был ли то рассказ для веселья? Сидевшие перед тарелками Муц и Дезорт почувствовали неловкость. Климент откинулся назад, положив локоть на спинку стула. Деликатно помешивал кашу вилкой.
– Горчицы бы, – произнес.
– Ничего не осталось! С самого Поста вся вышла! – заявила Пелагея Федотовна.
– Но я же видел у вас на кухне немного горчицы, – возразил Климент. – Большой горшок, на нем написано «Горчица», с желтыми потеками по сторонам.
– Неправда ваша!
– Целый горшок! Приятный пряный запах. Наверняка вы его видели. Разве не так? Вам нравится эдакий обжигающий вкус во рту? Знаю, что нравится. Идемте покажу.
– Вконец рехнулся, – пробормотала Пелагея. – Неужто самим не стыдно? Чистые свиньи! – Облизала губы, оправила фартук, глянула на Климента.
Тот поднялся, потянулся и, насвистывая, зашагал к выходу следом за служанкой. Остановился и поклонился земскому голове. Вышел, следом Пелагея, кухонная дверь закрылась.
Дезорт надкусил котлету, отложил вилку в сторону, сложил руки перед тарелкой и пригнулся к Муцу, сидевшему напротив. Заговорил тихо, мешая русские слова с чешскими:
– Как думаешь, вдует ей Климент на кухне?
– Не могу знать, – ответил Муц, – а как, по-твоему, отыщется горчица?
– А ты, должно быть, от страха в штаны кладешь, как подумаешь, что скажет Матула, если узнает про смерть шамана?
– Капитану и без того все известно, – проговорил Муц, – прошлой ночью я послал депешу.
– А как, по-твоему, это каторжник тунгусу выпивку подложил?
– Вероятно. Да ты и так после услышишь, как дело обернулось, если только тебя не отправят кедровые шишки пересчитывать.
Муц гадал, сколько времени займет рассказ Самарина, признает ли капитан беглого каторжанина виновным и если так, то не застрелит ли русского, и насколько он, Йозеф, будет впоследствии корить себя тем, что не предотвратил убийства. Придумывал предлог для встречи с Балашовым, тяготясь ощущением, что, встав с рассветом и не разбудив Анну Петровну, не поговорив с женщиной о прочитанном письме, допустил ужасную ошибку.
– Интересно, из какого мяса сделаны котлеты? – задал вопрос лейтенант.
– Мне все едино, лишь бы не знать.
Муц прожевал положенный в рот кусочек, нахмурился, сморщил нос, проглотил, отложил нож и вилку, запил чаем.
– Кошатина, – вынес он вердикт.
– Ну и слава Богу, что не конина, – облегченно признался Дезорт. – Я всю ночь пропавших лошадей разыскивал. Лайкурга, на котором капитан в Челябинске ездил, тоже не сыскать. Огромный белый жеребец, злой как черт – конюха в лазарет отправили с переломанными ребрами.
– Потому-то и не пришел эшелон в ночь. Матула так запугал начальника состава, что тот, не доезжая до Языка, придержал поезд, чтобы проверить, все ли на месте. Оказалось, лошади пропали, а вместе с ними и солдат. То ли вырвались, то ли их дезертир угнал. Начальник перетрусил да и отправился назад, в Верхний Лук. Оттуда-то и отослали депешу по телеграфу.
– А я думал, телеграф не работает…
Дезорт выпучил глаза – машинальное движение, совершаемое им всякий раз, как только чех собирался солгать, что изрядно помешало ему на карьерном поприще.
– Починили, – сообщил он еврею, – да после вновь сломался. Матула вчера так по коням горевал, точно родного сына потерял. А тут еще и шаман… Вконец осатанеет.
– Стало быть, кто-то капитану доносит, – заметил Муц.
– Вот как, – произнес Дезорт. Вновь украдкой глянул на земского начальника; тот перестал есть и сидел, положив голову на сложенные на столешнице руки, точно задремал.
Муц пригнулся к Дезорту:
– Ты же понимаешь, отчего начальник не решился привести сюда эшелон. Не оттого, будто Матулы испугался. Дело в том, что самому капитану невозможно поручиться за безопасность эшелона. Просто Матулу ненавидит любой, кто живет дальше по путям от Языка.
– Вояка он отменный.
– Но готов ли ты за него умереть?
– Само собой, мне хочется и дом повидать. Но ведь успеется еще, верно?
– А готов ли ты стрелять в людей, когда тебе объявят о нежелании сражаться более и захотят вернуться на родину?
– До мятежа дело не дойдет. За корпусом сила! Белых не победить. С нами и англичане, и французы, и американцы, и японцы – разве нет? То-то. Уж я-то знаю.
– Корпус – еще не армия, – возразил Муц. – Просто пятьдесят тысяч скитальцев, дожидающихся на полустанке запоздалого поезда домой.
– Где же твой патриотизм, Муц? Мне, видишь ли, не очень по душе все эти речи насчет твоей грязной жидовской сущности, но ты сам льешь воду на мельницу злопыхателей. Некоторые даже убеждены, будто ты говоришь как немец.
– Дезорт, но ведь ты же понимаешь, что дни белых сочтены? Царя они лишились, теперь только и думают, как бы отомстить, им бы лишь развалиться у камина, да чтобы слуги еду приносили, а после – в сон, и чтобы, когда проснутся, всё по-старому стало. Да только сами слуги мечтают, как бы бывших господ перебить.
Дезорт отвел взгляд. Пальцем запихал в рот кончик уса. Прикусил волос, вырвал.
– Ну, до нас им не добраться, – возразил чех.
– Красные уже прорвались за Урал. Стоит взять Омск – до нас останутся считанные дни пути. Попомнят нам всё, что Матула приказывал делать. О том, что случилось в Старой Крепости, уже фильм сняли.
– А ты откуда знаешь?
– Не понимаю, как ты еще терпишь? Разве не осталась у тебя в Ческе-Будеёвице жена?
– Осталась, вот только не очень-то я по ней тоскую. Признаться, даже позабыл, какая она из себя. И странно, знаешь ли, что ты к той вдове, что в доме напротив, повадился, а сам уехать захотел.
– Между нами ничего нет, – возразил Муц. – Пустые любезности.
Глядя на Муца, его собеседник поджал губы и расхохотался:
– Какая ты важная птица, подумать только!
На кухне раздался вопль, загремели сковородки, послышались ругательства Пелагеи Федотовны и Климента.
Вернувшись в столовую, офицер застегнул мундир и уселся за стол. Запыхался. Ладонью пригладил волосы. Набивал рот кашей и недоумевал вслух:
– Чего смеетесь?
– У Муца с вдовушкой никак не сладится, – сообщил Дезорт.
– А с чего это он вообразил, будто русская захочет спутаться с жидом?
– А ты как, нашел горчицу? – сменил предмет разговора Дезорт.
– Еще бы, – причмокнул Климент. – Не думал я, что такой острой окажется. И только я собрался… – офицер мельком глянул на земского начальника, неподвижно устроившегося в конце стола, понурив голову, – кончить дело, как служанка ну вопить и брыкаться. Я-то подумал, она разохотилась, и тут, откуда ни возьмись, черно-рыжий мех, кровища! Соболь! Представляете? Пробрался на кухню и цапнул ее за бедро, пока мы… ну, вы понимаете… Что за страна такая! Даже зверюшки – и те укусить норовят! Зубки мелкие, но острые. Как у волка, черт подери! Я-то думал, соболи едят… шишки еловые, что ли… Тебе, Муц, следовало бы написать о случившемся для чешских газет.
– Возможно, зверь был бешеным, – заметил Йозеф.
Климент моргнул, приоткрыл рот, отшвырнул вилку и рванул пряжку ремня. Там, где по туловищу офицера сновало обезумевшее создание, топорщилась надутая ткань.
Чех вскочил со стула, одной рукой шаря себе за шиворотом, другою – за пазухой, изгибаясь, извиваясь и скаля зубы. Наружу шмыгнул ком взъерошенного меха и мышц и шустро нырнул под шкаф, стоявший за спиной у Климента.
Смеявшийся Муц осекся, поднялся по стойке «смирно», отдал подчиненным команду «встать». Дезорт вскочил, Климент щелкнул каблуками, одной рукой придерживая мундир, а большой палец другой направив к ширинке.
В дверях, неотрывно глядя на офицеров, замер рыжеволосый Матула, а за спиною у него стояла жена земского начальника.
Темные глаза капитана сидели глубоко. Кожу вокруг глаз избороздили морщинки, перенесенные жара и холод, цинга и желтуха оставили свои отпечатки. По подбородку змеился рваный, крестообразный шрам от дурно зашитой раны. Лишь губы не затронули морозы и битвы похода длиною в пять лет. Мягкие, полные, красные, они походили на юношеские, словно на зиму или перед походом снимал их капитан и оставлял в укромном хранилище, словно никогда не случалось губам орать приказ к наступлению, словно никогда не сжимал и не прикусывал Матула губ, командуя казнью пленных, словно рот предназначался единственно для пирушек, игр и поцелуев.








