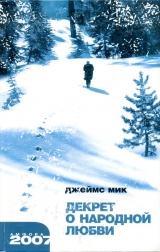
Текст книги "Декрет о народной любви"
Автор книги: Джеймс Мик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Банкнот в одну крону осталось немного. Их хватило на целых два месяца, пока Муцу удавалось удерживать Матулу в пределах натурального обеспечения дензнаков, соотнося количество отпечатанных денег с запасами продовольствия в губернии. Замызганные бумажки утратили всякую ценность.
Муц взял один из оттисков для банкноты в одну крону и пробежался по выгравированным линиям кончиками пальцев. В последний раз шаблон использовали так давно, что чернила успели высохнуть, и руки остались чисты.
Йозеф взял чистую бумажную заготовку, смочил оттиск в чернилах и отпечатал новую купюру. Для банкноты в одну крону он нарисовал женщину, олицетворявшую Свободу. Под портретом было написано «Свобода», чтобы лицо не приняли за портрет известной дамы, вернее, за конкретное, а не символическое изображение, потому что фигура была не в полный рост, на баррикадах, а лишь по плечи. Простоволосая, с пучком длинных кудряшек на затылке, курносая, с тонко очерченной и слегка вздернутой верхней губой, которая получилась слегка больше нижней.
Свобода смотрела на владельца с поверхности купюры большими темными глазами, которыми так долго изучала наш мир, с жизнерадостными смешинками во взоре, вызванными созерцанием человеческой комедии, с таким задором, что даже когда уже и не оставалось для веселья повода, всё никак не могла угомониться.
Какое-то время Йозеф разглядывал Свободу, пылая лицом. Помассировал теплые мышцы шеи холодными пальцами, положил банкноту в одну крону в карман рубахи, миллиардную сжал губами, поднялся и принялся сгружать с постели всевозможный хлам.
Белые, размером с добрые кирпичи, бруски мамонтовой кости уложил на пол, коробочки с коллекцией горных сибирских бабочек – на этажерку, рассортировал большевистские листовки с агитками в хронологическом порядке, а черновик геологического отчета о верховьях Енисея отправил в архив записок, в сундук, стоявший в дверях.
Улегся на постель и стал разглядывать банкноту в миллиард крон на свет.
Никаких водяных знаков… В Праге, должно быть, теперь используют новые чешские деньги, со знаками. И нулей у новых купюр меньше. Когда-нибудь – поскорей бы, что ли! – сто человек в поношенной форме выйдут из приехавшего в Прагу поезда и строем пройдут до корчмы, и для мужчин в опрятных костюмах и женщин в чистых платьях война будет уже давным-давно окончена, прохожих озадачат вооруженные солдаты, строем втесавшиеся в собрание модников, неся безумный вздор: они сражались в Сибири за Чехословакию! А спутники капитана Матулы из корпуса тихо войдут в корчму и, облизнув губы, попытаются расплатиться за выпивку имперскими банкнотами, которые все пять лет носили с собой, в карманах, по всей Евразии и Америке, переплыли с ними Атлантический океан, а корчмарь покачает головой и покажет новые деньги, банкноты Чехословакии: неужели у панов совсем нет чешских денег? И кто-то снова пороется в карманах и достанет потрепанную банкноту в миллиард крон, выпущенную Славяно-Социалистическим Сибирским банком города Язык, шлепнет бумажку об прилавок и потребует сотню кружек пива. И корчмарь подаст – то ли из жалости, то ли из страха, а может, оттого, что представит себе на миг, как когда-то его оборванные посетители выстраивались на парад в таежном городе на другом краю земли и как истосковались по родине.
За окошком, во дворе, где капитан Матула держал на цепи в конуре шамана, раздались голоса. Почти полночь.
Муц поднялся и распахнул ставни. Йозеф жил на верхнем этаже чешского штаба, оказавшегося бывшим зданием присутственных мест в Языке. Кроме штабного света, горел еще фонарь караульных, висевший на крюке над аркообразным выходом во двор. В арке показался силуэт сержанта Нековаржа. Развернулся и пропал.
Муц окликнул шамана. Тунгус не показывался, но послышался звук поскользнувшегося на грязи тела и звон цепи.
Шаман откашлялся от густой, обильной мокроты и просипел:
– У всех лошади будут…
– Ты пьян? – поинтересовался Муц.
Тишина, и кашель, и сквозь хрипы ответ:
– Нет.
– Ну, тогда спи, – распорядился офицер и закрыл окно.
Матула завидовал видениям шамана. Капитан, до войны хаживавший по пражским спиритическим салонам и даже соблазнивший черноглазую спиритку с волосами цвета карпатского битума – принял ее за наследницу браминского рода, а потому весьма разочаровался, когда они, лежа на простынях, разгоряченные и вспотевшие, среди благоухания надушенных шелков, снятых с дамы, разговорились и обнаружилось, что предкам ее со времен Адама ни разу не случалось бывать далее Прессбурга, – верил, что, когда засыпал колдун, дух туземца странствовал по тайге.
Капитан жаждал узнать, что видел шаман, и как ему удавалось заставлять свой дух странствовать, и какие миры тот посещал. Не был ли астральный план, на который возносились европейские метафизики, подобен суетливому, полному пустой болтовни модному заведению, вроде венской кофейни с пальмами в кадках, дессертами и страусиными перьями, где друзья становятся любовниками, любовники поглядывают на соседние столики, а вести из мира живых уподобляются приглашению к телефону, жеманно переданному официантом, в то время как верхние и нижние миры шамана сродни диким равнинам, где мчатся и сражаются герои, демоны и олени, обителям крови и стали?
Когда тунгус забрел в Язык в поисках выпивки, капитан предложил колдуну комнату, койку и немного водки, а в обмен велел посвятить себя в шаманские тайны и тем самым содействовать ему в установлении порядка в землях к северу от железной дороги, до самого океана, и помочь сотне чехов приобщиться к таинствам лиственничного леса.
Шаман потребовал налить еще, после чего заснул. Проснувшись, закашлялся кровью и обозвал Матулу словом «авахи», «чертом» по-тунгусски. Тем же ругательством проклял и всех чехов вкупе с русскими. Сказал, что именно авахи ослепили его в тайге на третий глаз, так что больше он ничего не видит.
Капитан ответил, что поможет горю, и приказал посадить тунгуса на цепь, чтобы тот не удрал и не запил, покуда не прозреет вновь и не раскроет тайну.
Муц растянулся на кровати. За дверью послышалось шарканье сапог, Йозеф услышал, как его окликает Броучек. Приказал войти.
Броучек стоял в дверях, держа винтовку дулом в нескольких вершках над полом, а другой рукой безуспешно поправляя воротник.
– Смею доложить, братец, – обратился капрал, – с тобой пан Балашов говорить желает.
– Теперь уже не нужно просить позволения, – сообщил Муц. Ловко присел на край кровати, свесив ноги, и вслух подивился, что могло понадобиться Балашову затемно.
– Пан Балашов очень переживает, – заметил Броучек.
– Привычное для него состояние.
– Но сейчас сильнее обычного.
– Садись.
Броучек уселся на кровать рядом с Лейтенантом, обеими руками оперевшись на дуло винтовки. Солдат был смугл, точно цыган, хотя родство с кочевым племенем отрицал и беззлобно заявлял, что никому из цыган еще не удавалось подобраться к его матери настолько близко, чтобы принять участие в зачатии или хотя бы подбросить подкидыша в колыбель. Рослый Броучек двигался с неуклюжим изяществом. Рот его был изогнут в неизменной полуулыбке, а большие, чернильного цвета глаза разглядывали всякого с просто душным интересом.
Остряком он не был, шуток знал мало, врать и льстить не умел, но на пути из Богемии в Сибирь узнал, как сильно нравится женщинам, и, сам того не желая, научился у обожательниц своих языку покорителя женских сердец.
Друг Броучека, Нековарж, всю жизнь посвятивший изучению того, что сам он называл «механизмом женского возбуждения», постоянно выклянчивал у приятеля факты для наблюдений. В те дни они были крестьянином и механиком, насильно взятыми в солдаты.
Когда же в Старой Крепости настали сквернейшие за всю недобровольную их службу дни, Броучек присмирел, не желая участвовать в происходящем, да так и не заметил, как смолкают женские крики, сменяясь еще более ужасным и красноречивым молчанием, когда жертвы замечали среди мучителей молодое, чистое, безмятежное лицо Броучека, лицо прекрасное, неземное, и понимали женщины: пропасть между ангелами и бесами гораздо глубже той, на которую отстоят от них высшие и низшие существа.
– Вот новые деньги, – сообщил Муц и показал Броучеку банкноту в миллиард крон. Капрал взял купюру и долго ее изучал.
– Здесь девять нулей, – заметил тот.
– Верно. Один триллион. Станем триллионерами.
– Триллион – это много.
– Чертовски много. Тысяча миллионов.
– Тысяча!
– Да.
– Когда я работал на ферме в Богемии, то зарабатывал десять крон. Десять! – усмехнулся Броучек и показал все пальцы на руках. – На десять крон можно было купить все, что душа пожелает. Килограмм кофе, или карты, или носовой платок, или бутылку коньяка, пару сапог, или билет в Градец-Кралове на целый день, газету, английскую шляпу, топор, мышеловку, губную гармонику, пучок гвоздик или пакет апельсинов. А когда нам платили в последний раз… какое у нас выходило жалованье?
– По пятьсот миллионов крон.
– Точно. А купить ничего нельзя было, кроме подсолнуховых семечек, да и те – сто миллионов за кулек. Может статься, оттого, что Сибирь такая большая. Может быть. Наверное, деньги тоже ничего не значат, как и версты. В Богемии как пройдешь десять верст – уже всё переменилось. А тут идешь и идешь себе тысячи верст, а всё по-прежнему. Простор, березняк да вороны. Это Масарык нарисован?
– Да.
– Хорошо нарисовал, похож. И когда же президент поможет нам домой вернуться?
– Не знаю.
Броучек шмыгнул носом и нагнулся, почесал нос о дуло винтовки.
– А может быть, ему в Праге и так хорошо. Наверное, во дворце теперь. Зря он нас бросил в Сибири, а? Наверное, и забыл про нас уже давно…
– Нет, – возразил Йозеф. – Понимаешь… когда французы, англичане и американцы собрались и решили, как им поделить империю, то каждый, кто хотел себе урвать кусок, должен был принести что-нибудь к общему столу. Расплатиться чем-нибудь ценным вроде золота, угля… или крови. А у Масарика не было ни золота, ни угля.
– Разве не было? – удивился Броучек. – А я-то думал, он богат…
– Только не такими сокровищами.
– Значит, президент решил расплатиться кровью?
– Верно.
– Нашей кровушкой!
– Точно.
– Но мы же с немцами дрались! Разве той крови не достаточно?!
– Да, в той битве мы хорошо себя показали, но теперь, когда Германию разбили, французы, англичане и американцы боятся красных.
– Потому что те расстреляли царя?
– Ну, прежде всего потому, что красные хотят поделить всю собственность.
– Ну да, слыхивал я об этом, – признался Броучек, кивая, – по-моему, правильно. Разве не так всё будет в Чехословакии, когда мы вернемся домой?
– Вряд ли, – произнес Муц. – А ты хочешь, чтобы на родине было именно так?
– Да. Сейчас у меня ничего нет. Я всегда часы хотел, как у дедушки. И пианино. А еще – костюм, как те, что англичане надевают на скачки.
– Ты забыл про патефон.
Броучек повел плечами.
– Пусть уж патефон кому-нибудь другому достанется. Но вернуться и разузнать насчет часов не помешало бы. Давно пора. С красными мы уже сражались. Все они точь-в-точь русские. Нас они сюда не приглашали. И без нашей помощи у них славно получается друг друга убивать. Наверное, Масарик захотел основать Чехословацкую империю, вроде Британской или Французской. Небось думает, если англичане могут управлять целой Индией со своего островка, то у чехов и словаков получится завладеть Сибирью.
– Нет, Масарик не может так думать.
– Ну, значит, капитан решил, – не унимался Броучек.
– Верно.
– Кое-кто говорит, что Матулу пора прибить.
– Тогда мы станем мятежниками.
– Верно.
– Капитан платит Смутному, Ганаку, Клименту, Дезорту и Бухару в долларах, чтобы стерегли его, и у них пулеметы «максим».
– Но ты бы смог вывести нас отсюда. Довести до Владивостока и без капитана.
В дверь робко постучали.
– Там пан Балашов снаружи, – пояснил Броучек, поднимаясь с кровати.
– Я его видел. Спустись во двор, спроси у Нековаржа, всё ли в порядке с шаманом.
– Ушел Нековарж. Присматривает за местными – теми, что собираются в пристройке к лавке Балашова.
– Так, значит, перед двором часовых не осталось?!
– Только колдун, да и он на цепи, так что не уйдет далеко.
– А что, если кому-нибудь вбредет в голову пробраться внутрь? – спросил Муц.
Оба чеха выбежали в темный коридор, пронеслись мимо Балашова – тот что-то прокричал вслед. В тишине сапоги Йозефа и Броучека молотили по коридорам, приклад винтовки капрала, громыхая, задевал о пороги. На улице похолодало, пошел дождь.
Они пробежали через арку и достигли конуры шамана, казавшейся в свете, исходившем из окна комнаты Муца, неровным пятном на стене.
Сапог Муца ударил по чему-то стеклянному. Лейтенант присел на корточки и поднял пустую литровую бутыль. Наружу выплеснулись остатки неочищенного спирта, слизистую глаз ожгло резким запахом.
Офицер бросил бутыль в свежую жижу, закашлялся и протер глаза.
Шаман сидел в грязи, прислонившись спиною к конуре, сложив руки поверх бубна на животе.
Йозеф тряхнул тунгуса за плечо. Кошачьим хором откликнулись украшавшие костюм туземца проржавевшие фигурки животных, монеты и мятые крышки от консервов.
Муц достал из кармана зажигалку и поднес пламя к лицу колдуна.
Дождевые потоки омывали всклокоченную бороду от крови и желчи. Тунгус закашлялся; повеяло желудочным соком и алкоголем. Веко здорового глаза подрагивало, но сам глаз так и не раскрылся.
Йозеф снова тряхнул шамана.
– Эй, – обратился лейтенант к пленнику, – кто тебя напоил?
– Очень далеко на юг, однако, – еле слышно ответил шаман. Несмотря на сильный тунгусский говор и порожденную возрастом, болезнью и выпивкой хрипоту, колдун изъяснялся по-русски довольно внятно. В шепоте проступали звуки, точно последние красноватые отблески в углях догоревшего костра. Слова прозвучали отчетливо и походили скорее на ответ обессиленного, нежели пьяного.
– Тебя кто-то ударил? – продолжал расспросы Муц.
Губа тунгуса оказалась рассечена.
– Я сказал, что мне не найти его брата в других мирах, – пояснил колдун. – Я только слышал его там, внизу, где шибко воняет. Слышал, как его брат плачет: очень сильно хотел тело свое вернуть, однако.
– Чей брат? – Йозеф повернулся к Броучеку: – Ты понимаешь, о чем он?
Капрал пожал плечами:
– Моему папаше тоже случалось напиться, и он орал разную чушь часами, вот только никому не приходило в голову поинтересоваться, что он имеет в виду.
Голова тунгуса поникла набок, он закашлялся, туземца рвало. Лейтенант вновь тряхнул пленника за плечо:
– Как бы нам поместить тебя в конуру?
Броучек заметил:
– У вас же ключ есть.
Муцу сделалось стыдно. Он принялся шарить по карманам в поисках ключа от амбарного замка, державшего тунгуса прикованным к конуре. Пленник рухнул в грязь. Казалось, агония придала умирающему силы: тот вздохнул и открыл глаз.
– Проклятье, – выругался Муц. – Броучек, живо вернитесь в мою комнату! Ключ на крючке, у меня в изголовье. Шаман! Говори, кто тебя бил? Кто дал спирт?
– Когда у меня было три здоровых глаза, я был смелый воин, – заговорил колдун. – Про меня песни пели, вот каким воином я был. Человек-Наша называли.
– Послушай, о чем я тебя спрашиваю, – не сдавался Муц. – Ты должен рассказать мне, кто тебя избил!
– Не скажу, – отказался тунгус, – а не то он за Человек-Наша в Верхний мир погонится. Злой бес, однако. Авахи. – Рука шамана метнулась в карман, вытянула какой-то темный сухой кусок, который тот положил в рот и принялся пережевывать. – Человек-Наша умрет скоро. Совсем уйдет.
– Подожди! – воскликнул Муц. – Мы тебя в доме подлечим! Не умирай, мы сейчас ключ принесем!
– Человек-Наша не видно теперь, куда он уйдет. Но он чует запах лиственницы, слышит скрип натянутой веревки, чует, как пахнет берестяная домовина, качаясь на веревке от ветра…
– Погоди! – воскликнул Муц. – Не умирай! Исцелись! Ты же и не такие ночи выдерживал! Так что тебе бес сказал?
Колдун заговорил новым голосом: всё тот же еле слышный полушепот, но без тунгусского говора, с отзвуком злой ухмылки, точно слова беса записаны на патефонный диск:
– Ах ты, поганый сукин сын, – демонически произнес шаман, – зачем явился?! Думал, я твоим поганым колдовским басням поверю и руки на себя наложу? – В устах шамана смех русского прозвучал искаженно. – Избаловали вас, гадателей, люди! Будто слепые, а думаете, что чем меньше видите, тем больше знаете!
– Если ты мне поможешь, я найду этого человека и накажу, – пообещал Муц. – Ты его знаешь? Встречал прежде?
Шаман глубоко и часто задышал, лихорадочно дернувшись несколько раз. Сказал уже своим голосом:
– Ушел, однако…
Муц услышал, как бежит возвращающийся Броучек.
– Вот капрал ключ принес! – ободрял лейтенант. – Сейчас в дом тебя понесем, от дождя подальше!
Шаман процедил грязь через растопыренные пальцы.
– Нет олешки, чтобы Человек-Наша в Верхний мир отвез, и лошади нет, – сокрушался тунгус. – Грязь мягкая. Человек-Наша по ней к реке протолкните, воде отдайте, пусть река его уносит. – Умирающий заклекотал горлом, точно в палых листьях билась птица-подранок. – Скоро у всех лошади будут, однако, – произнес шаман и поник головой на грудь.
Муц откинул ее назад, потянул мертвого за челюсть, слегка приоткрыв тому рот, но прикрывая тыльной стороной ладони. Помахал перед здоровым глазом колдуна пальцем, другой рукою нащупывая пульс.
– Умер? – спросил Броучек.
– Да. До воли допился, – заметил Муц. – Но как в здешнем городишке раздобыть литр спирта, сидя на цепи?
Муц разглядывал лицо шамана: на каждой щеке продольные татуировки пересекали старческие морщины – глубокие и четкие, точно выгравированные резцом ваятеля. От выдранного медведем глаза у шамана осталась пустая глазница, и старик гордился утратой. Налобная повязка оленьей кожи прикрывала третье, ни разу никем из чехов не виденное око, на которое, по рассказам тунгуса, тот также ослеп. Стоило кому-то попробовать прикоснуться к скрытому глазу, как шаман с криком отбивался.
Муц рванул повязку вверх, к темени мертвеца. Под кожей топорщилась костяная шишка с вытатуированным поверх оком. Изображение перекосилось, точно нанесли его на лоб шаману еще в юности, покуда не разрослось. Поверх изначальной татуировки кто-то зло вырезал ножевым острием: «Лгун».
Старика отнесли в дом на его же дохе. Под дождем вонь спиртного ослабла, сменившись запахом ржавеющего железа. Покойника положили на брусчатку, туда, откуда шла лестница.
Здесь пришедших дожидался Балашов. Завидя мертвого, пустился в крик, поминая Господа.
– Никак зарезали?! – сокрушался горожанин.
– А с чего вы полагаете, будто не обошлось без ножа? – осведомился Муц.
– Порой разбойники лесные забредают. Каторжники окаянные. Озверев-то…
– У вас есть основания подозревать, что в Язык пришел каторжник?
Балашов покачал головой.
– Вы же не торгуете в лавке спиртом, верно? – поинтересовался Муц.
– Ваше благородие, вам же известно: в городе сухой закон. Вера не позволяет.
– Верно… Ваши темные суеверия… И что, даже для лечебных целей нельзя?
– А что, наши верования столь уж темны?
– Именно! Мне известно лишь то, что в церкви вы не бываете, веруете в Бога, спиртного не пьете, мяса не едите, всякий раз избегаете ответов на прямой вопрос, и я ни разу не видел ваших детей!
– В Туркестане… – промямлил Балашов. – Мы же их в Туркестан отослали, эшелоном, вот… дабы от греха… – Лавочник отер рот ладонью, огладил волосы рукою, смотря на мертвеца. – Кто бы стал его спиртом поить? Может, и не желали сгубить тунгуса. Из милосердия…
– А с чего вы очутились на улице после заката? Не то чтобы я возражал, но поймите, вас же и застрелить могли…
– К друзьям в гости ходил, на окраину. Хотел вас повидать. Боюсь, как бы с Анной Петровной чего не приключилось. Хотел попросить, не могли бы вы отправить людей своих – пусть бы охраняли ночью ее жилище… – Глеб кивнул в сторону шамана: – Бедняга… Новая погибель в Язык наш пришла…
– Что навело вас на мысль, будто Анне Петровне грозит опасность?
– Бог вразумил. За покойным тунгусы своего пошлют. Положите-ка его пока в ледник. Но пошлите солдата, пусть присматривает за домом Анны Петровны, ради всего святого!
– Я ухожу, – сообщил Муц. – Идемте вместе.
– Нет! – громогласно отказался Балашов. И как только вскрикнул – сквозь черты лица его проглянул незнакомец, столь же непохожий на лавочника, сколь рана непохожа на шрам. – Нет, – повторил горожанин на сей раз тише, и тот, другой человек сокрылся в небытии. Улыбнулся было лавочник, да перестал, обеими руками ухватил лейтенанта за ворот шинели: – Мне Анна Петровна не позволит. От дома отказала с тех пор, как мы рассорились. Благородная особа, честная и почтенная, сына растит, мужа на войне убили. Но вы же с ней знакомы, верно?
– Верно, – подтвердил Муц.
– Вам ли не знать, какая это замечательная дама!
– Верно, замечательная. – Муц наблюдал за улыбкою, то вспыхивающей, то гаснущей на лице Балашова, и за тем, как нахмурился его визави под гнетом нахлынувших воспоминаний.
– Вы нанесли ее портрет на банкноты, – заметил лавочник.
– Верно, – признал офицер, – и допустил оплошность. Следовало бы сперва заручиться ее согласием. Расстроил даму. Я видел ее в воротах, когда наши входили в город. Запомнил лицо… Лица надолго со мной остаются. Как бы там ни было, я отправляюсь к нашей знакомой. А вы ступайте домой.
Поблагодарив, Балашов скрылся. Муц и Броучек обернули шамана парою мешков и снесли в затхлый, холодный погреб, где оставили покойного на ложе из соломы, поломанных ящиков и ржавеющего металлического хлама.
Лейтенанту было не в новинку видеть опустевших, точно слущенная шелуха, мертвецов, но шаман выглядел необычно. Взволнованным, что ли. Словно и впрямь поверил собственным рассказам о своих сношениях с миром духов, да так и умер, отдавшись последнему, большому прыжку. За всю жизнь свою только и делал, что воплощал сны в слова. Чего же более? Вот когда люди пытались обратить пригрезившиеся слова в дела – тогда-то и случались беды. Неведомые, злые силы. Никогда прежде не доводилось Муцу видеть, чтобы Балашов столь откровенно лгал, рискуя оказаться разоблаченным.
– Загляну-ка я к Нековаржу, – сообщил Муц, – а ты ступай к Анне Петровне. Там и свидимся.
Улыбнувшись, Броучек кивнул.
– Что, понравилась? – спросил лейтенант, почувствовав, как внезапно что-то екнуло внутри.
Броучек ухмыльнулся и пожал плечами.
– Ничего, хороша, – признался капрал.
– Не говори с ней, – приказал Муц, гадая, не заметил ли Броучек при свете лампы, как переменился в лице его командир. – Это приказ, понимаешь? Сторожи, дожидайся меня на крыльце, но женщину не беспокой.
Обиженный и смущенный, Броучек вновь кивнул и зашагал по лестнице наверх.
Балашов
Муц постоял на пороге штаба. Ни в одном окне не горел свет, а шум дождя по крыше перешел в рев. Лейтенант надел фуражку, английский плащ и шагнул наружу.
Ливень и темнота скрадывали площадь: церквушку-развалюху, лавку Балашова, опустевшие пакгаузы барышника, торговавшего пушниной, и общинную маслодельню, дома, памятник Александру III, лавчонки, в которых торговали поселенцы, сперва подкопченной рыбой, подсолнуховыми семечками, брошюрами, журналами и месячной давности газетами, а после – пожитками, часами, украшениями, иконами, крестами и лампадками. Муц ступил вперед, оставив позади присыпанную гравием тропинку, в гущу, что сверху, в жижу понизу, у твердого дна, в жирную, точно смазка, прослойку между ними. Земля испустила густой запах освобожденной грязи, и он почувствовал, как всем весом легли на плечи потоки воды. Перейдя площадь, лейтенант увяз в колее сапогом по голенище и теперь пытался выбраться. Нога выскочила, воздух всосало со шлепком, слышимым даже сквозь шум дождя. Чтобы перебраться на другую сторону, ушло несколько минут.
Муц остановился на углу длинной, на сваях постройки с двускатною крышей, размером с амбар, перед вывеской, растянувшейся по высокому фасаду. Написанного было не разобрать в темноте, но лейтенант и без того знал слова: «Г. А. Балашов. Продукты и товары». Окна лавки, расположенные с обеих сторон от двери, были закрыты на засовы.
Муц взобрался по ступеням ко входу и осторожно постучал. Приложил ухо к дверной створке, прислушался и пошел обратно, к площади.
Лавку Балашова отделял от стоявшего справа здания узкий просвет. Муц миновал лаз, прокрадываясь зарослями разнотравья.
Лавка оказалась крупнее, нежели представлялась наблюдателю с площади. Пара окошек, а после – вновь саженей на двадцать, а то и двадцать семь, пошла сплошняком стена.
Дождь перестал, и Муц расслышал слабое постукивание, доносившееся изнутри строения, звук поход ил на пульс или барабанную дробь и еще на нечто настолько неуловимое и едва различимое, что сперва лейтенанту показалось, будто шумело у него в ушах. В двадцать лет он бывал на море, у Триеста, и слышал там подобный звук.
В лесу троекратно прогудел паровоз, в темноту под крышами Языка ударил с эшелона капитана Матулы прожектор. Вскинули головы, отлаиваясь, дворняги, посаженные на веревочные привязи в соседних с лавкой Балашова дворах. На задворках возвышалась огороженная высоким массивным забором пристройка. Возле стоял сержант Нековарж, коренастый и безучастный, точно куст живой изгороди. Сбегали с концов солдатских усов капли стихающего дождя.
– Смею доложить, братец, все собрались, – прошептал Нековарж. – Вертятся, говорят и предрекают. Триста сорок девять человек, из коих двести девяносто один – мужского пола, а сорок восемь – женского.
– Позволь подняться.
Нековарж нагнулся, достал раздвижную лестницу, которую спустил по краю постройки вниз. Смазанные части приспособления двигались бесшумно, а металлические перекладины держались крепко. Муц покачал головой.
– Как взберешься, – нашептывал Нековарж. – нагнись вперед, там рукоятка будет. Поосторожнее потяни ее на себя, и в крыше откроется люк. Толкни крышку. Она повернется. А как внутрь заберешься – увидишь, что из глазка, который я прорезал, лучик идет. Настил на чердаке прочный, но ты ходи осторожнее, не то услышат. – В голосе сержанта слышалось самодовольство пресыщенного похвалами мастерового.
– Но как тебе удалось столько сделать и остаться никем не замеченным? – шепнул Муц, отчего-то раздраженный – он и сам до конца не понимал отчего.
– Я человек смекалистый, – шепнул Нековарж в ответ. – Экая скукота! Мне бы посложнее задачку…
Муц принялся вскарабкиваться по лестнице. Нековарж придерживал устройство снизу. Как только Йозеф взобрался наверх, лестница зашаталась, прогибаясь под тяжестью офицера, однако же не перевернулась.
Ухватив лестницу одной рукой, Муц на ощупь потянулся вперед, ожидая наткнуться на влажную дранку крыши.
Пальцы коснулись холодного, смоченного дождем металла. В ладонь легла рукоятка. Муц потянул, толкнул, люк открылся, повеяло теплом, сухостью и запахами из лавки Балашова: засоленной рыбой, дешевым чаем, укропом и уксусом, опилками, керосином, нафталином и свежеструганым деревом.
Муц шагнул с лестницы в пространство чердака.
Удары зазвучали отчетливее. Топали по древесине. Муц разобрал мерное постукивание и то, как движения множества легких сливаются в рокот моря. Дыхание объединяло собравшихся людей. Из проверченной Нековаржем дыры для подглядывания шел свет. Туда и направился офицер – настолько осторожно, насколько позволяли сапоги, прилег и через глазок всмотрелся в кладовку, пристроенную к лавке Балашова.
Посередь расступившейся толпы крутилась фигура. Возле обеих стен сгрудились мужчины и женщины, они вертелись, дышали ртами: откинутые головы, закрытые глаза, сплетенные в молитвенном жесте пальцы, но вокруг вертевшегося человека оставалось свободное пространство, крут благоговения и темноты, очерченный между запыхавшимся хороводом и белыми одеждами кружившегося. Казалось, то человек, но преображенный в беззвучную турбину, и лишь подол рубахи с тихим присвистом рассекал воздух. Раскинутые руки, левая пятка, точно ввинченная в пол, крутилась, как смазанная, и пляска, настолько стремительная, что не углядеть лица, хотя Муц знал: перед ним Балашов. Рубаха и порты били белизною в глаза и вертелись до того скоро, что чудилось, будто это замершее марево, спадающее наземь семя сосны, зависшее между деревом и почвой, в кружении на ветру.
Какая-то баба бросилась оземь и запричитала на непонятном Муцу языке, простерлась в корчах, тряся головою. Мужик, с которым лейтенанту доводилось встречаться на улицах, шагнул вперед и завертелся, подобно Балашову.
Дыхание толпы совпадало с постукиванием стопы крутящегося Балашова. Собравшиеся засопели громче, набирая в грудь воздуха и в тот же миг выдыхая. Двое повалились в обморок, закричала кликуша. Второй человек перестал кружиться, рухнул на пол, тряхнул головой, поднялся, пошатываясь, точно пьяный, и приготовился продолжать кружение.
Балашов вращался, покуда не упал, его подхватили двое единоверцев. Сектант покоился на чужих руках. Глаза оставались открыты, а взгляд блуждал далече.
Постепенно пыхтение и кликушество смолкли, и сектанты принялись безмолвно расхаживать по складу, обнимаясь и целуя друг друга в щеки. Некоторые попивали чай.
Снова зашлись, один за другим пустились кружиться, подобно Балашову. Шепотом, шорохом подолов в воздухе, тихим топотом ступней походили на ватагу ребятишек, тишком бегущих по полю пшеницы.
Балашов встал, вновь завертелся, направляясь к середине комнаты. Похожая на орлицу баба, низколобая, горбоносая, широкоплечая, очутилась рядом, а остальные, мало-помалу обессилев, попадали в обморок либо остановились, отступив к стенам.
И вскоре остались только Глеб с той, похожею на орлицу. Тела и лица их от быстрых движений обрели полупрозрачность, размытость, они крутились, сжав вытянутые руки, точно шестеренки поразительнейшего устройства – рядом, но не соприкасаясь, в согласии и единстве.
Тощая баба испустила резкий крик, ринулась к балкам, завертелась, удалилась от Балашова и замедлила кружение, покуда не остановилась вовсе: прямая, лоснящаяся от пота, спутанные волосы слиплись, точно хохол у цапли, а платье прилипло к гладкой, плоской груди. Полно, да и была ли то баба?..
– Братья и сестры мои во Христе, – заговорила безгрудая, – высоко поднялась я в смарагдовом аэроплане до самого лика Божьего. Разодели меня ангелы в шинель кожаную, белую, будто снег, да очки дали авиаторские, алмазные, да надели шлем, как у летунов, только белый.
Долго летела я сквозь тьму, пока не увидела вдали великие, яркие очи Господни, пылающие вдвое ярче, чем Лондон в ночи. Приближаясь, я могла различить миллионы электрических лампочек рая, и вспыхивали огни, миллион за миллионом, а из ста тысяч патефонов раздавалось ангельское пение.








