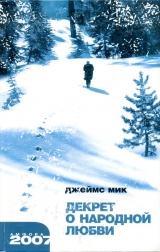
Текст книги "Декрет о народной любви"
Автор книги: Джеймс Мик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Самарин держал острие ножа в доле вершка от горла Балашова. Другой рукой вцепился скопцу в волосы.
– Что случилось с Алешей? – спросил Глеб. Голос его дрожал. – Можете меня отпустить. – Балашов вновь уселся на прежнее место, и Кирилл отступил на шаг.
– Вы, похоже, расстроились, – заметил пришелец. – А что, и на парнишку глаз положили, тоже затеяли его на обрезной доске разложить? В преемники готовили? Советую вам озаботиться тем, чтобы другие люди зачали за вас детей.
– Сильно ли ранен ребенок? Жив ли?
– Жив, – заверил Могиканин. – Странно, что вам не безразлично. Думал, вам, выжившим из ума кастратам, ни до кого, кроме себя, и дела нет!
– Вы в точности как тот офицер, из евреев, – заметил Балашов. – Думаете, что все узы человеческие – любовные ли, дружеские ли – рвутся, стоит лишь ключи адовы в огне спалить? Ложь!
– Знаете, Глеб Алексеевич, из всех верующих вы занимаете меня более прочих. Когда окончательно наступит тьма и завершится мироздание, найдутся те, кто пробудится от вечного сна, смеясь над женщинами и мужчинами, изувечившими свои половые органы, чтобы тем самым уподобиться ангелам! Не двигаться! Послушайте! Да слушайте же! Можете ли вы выслушать?! Случилось нечто, что не… чего я не желаю допустить впредь. Ваша секта нелепа, однако же есть в вере вашей нечто, что я намерен сегодня же позаимствовать, какими бы безрассудными ни были практика и связанные с нею верования. Однако есть в них польза. Ибо я не намерен дозволить случившемуся повториться впредь. – Самарин задышал часто, голос срывался. – Как там по вашей философии? Чтобы войти в рай, нужно искоренить само орудие греха? Так отчего же не выколоть глаза, не вырвать язык? Только и думаете, что о запретном плоде, о плотских утехах – и что же? Стало быть, фьють – и под нож!
Бред полнейший всё это, мой дорогой! Нет мира, кроме этого, и нет той, другой жизни! Хочешь парадиз – так изволь здесь, на грешной земле, строить, вот только времени много уйдет и многим умереть придется. Да знаете ли вы, кто я?! Самарин, да… Могиканин… Самарин – но и Могиканин! Вор, народоволец, террорист, анархист, сокрушитель! Я пришел в этот мир разрушать всё, что не похоже на рай! Есть и другие как я. Поймите! В каждой конторе, сословии, на всякой службе, в банкире, лавочнике, генерале, попе, землевладельце, дворянине, чиновнике! За десять лет везде мы следы оставили. Трудно было.
Случилось нечто, чего я не намерен допускать впредь.
Временами, Глеб Алексеевич, дело наше казалось тяжким… слишком тяжким! Случалось, что те, кто полезен разрушителю, те, которых при необходимости следовало уничтожить, чтобы двигаться дальше, а если и не уничтожить, то по крайней мере покинуть – люди эти… – Он часто заморгал, подыскивая верное слово, – оставляли свой след! Знаете ли вы, что отсюда вот и до сих пор у меня была вольная жизнь?! – Самарин осторожно провел в воздухе ровную черту. – И никогда не бывал на каторге, ни в каких Белых Садах!
Ложь во спасение. Была свобода, чистая бирка и достаточно средств для поездки из Москвы в Тифлис, чтобы там повлиять на ход так называемой революции…
Вот что я должен был предпринять. С товарищами договорился, хотя всякие договоренности были излишни. Так славно совпали обстоятельства и необходимость!
Однако до Грузии так и не добрался. Вместо этого пустился в полугодовое странствие по Северу, совершенно бесцельно, пытаясь только лишь избавить женщину, с которой некогда познакомился в студенчестве. Катю… И для чего пошел? И знаете ли вы, с каким рвением я ее разыскивал? Сколь много значила она для меня?
Взял в дорогу попутчика, доброго, умного эсера, и крепкого, чтобы, как выйдет пища, прикончить. Так я и поступил, Глеб Алексеевич.
– Господи, помилуй его душу!
– Господи помилуй, Господи помилуй… к черту Бога! Слышите ли?! Как вам: решиться зарезать и съесть человека, чтобы помочь одной-единственной женщине, которой, скорее всего, и в живых давным-давно нет? Не ради дела, а ради себя самого? Как вам это понравится?
– Должно быть, любили вы Катю очень сильно…
– Идиот! Что такое, по-вашему, эта любовь?! Способна ли она настолько увлечь человека, что тот пройдет через тундру тысячи верст и сделается людоедом?!
– Так вы нашли свою знакомую?
– Нашел. Она была мертва. Все там умерли. Замерзла. На нежной коже ее, прямо под губами, проступали ледяные кристаллики…
– Кирилл Иванович…
– Да слушайте же, черт бы вас побрал! Вы что, выслушать не можете?! – Самарин пнул кружку, та улетела под лавку и ударилась о стену избы, оставив на неструганых половицах растекшееся пятно. – И вот опять! Сегодня! Мальчишку задело в плечо шрапнелью. Кровь капает. У меня нет совершенно никакого резона поворачивать обратно. Оставил бы его там, спрыгнул с поезда, убежал в лес и пробрался бы мимо красных на Запад… Вот где мое место! Вот где работы сокрушителю!
И снова какая-то стерва в меня вцепилась, тянет к себе, да еще и мальчишку тащить заставляет! Мне вперед нужно, а я, ради нее, вернулся! Всего-то и провел с нею что одну ночь, попели романсы, я целовал ей шрамик на груди, и мы совокупились… Вы-то меня поймете, Глеб Алексеевич. Я не намерен позволить впредь случиться этому! Вы тоже достигли точки, когда нельзя позволить повториться случившемуся ради мира, лучшего, чем сия жалкая юдоль! А теперь и мне пора. Вот нож. Да берите же! Оскопите меня!
Балашов, сидевший понуро, сжав руки, потупившись, поднял на Самарина взгляд и спросил, что тот имел в виду.
– А как вы думаете? Да берите же нож! Делайте дело! Кастрируйте!
Взяв нож, Глеб швырнул его на лавку, качая головой. Кирилл ухватился за оружие, силой разжал пальцы скопца и заставил сжать рукоять. Скинул пальто, расстегнул брючный ремень и спустил штаны.
– Нет, не там, – вновь покачал головой Балашов, – не здесь любовь пребывает, а будь иначе – что за мир вы тщились бы сотворить?
– Оскопите меня! – требовал Самарин. – Не могу я так! Это не любовь, а зараза, которой я бессилен противостоять! – Рухнув на колени, задрал подол рубахи и предъявил сжатые в кулаке половые органы. Губы растянулись, дрожа, а по измазанным в саже щекам бежали две широкие дорожки слез. – Кастрируйте меня, Глеб Алексеевич! – умолял Кирилл. – А не то я совершенно бесполезен для будущего!
Балашов снова отбросил нож на лавку, поднялся, прижал лоб Самарина к своей груди и погладил по голове. Нагнулся, целуя в маковку, и, оставив плачущего Кирилла, зашагал по направлению к Языку.
Охота на бесов
Внизу постучали. Муц спустился посмотреть, кто пришел. Достал револьвер. Анна слышала, как, спускаясь, офицер взвел курок – гарантированная смерть заводского производства, – стучал сапогами по дереву. Приоткрылась дверная створка.
Вместо слов мгновенная тишина, а потом, должно быть, что-то сказали. Затем дверь закрылась, и женщина услышала, как кто-то поднялся по лестнице. Балашов.
– Ну, здравствуй, Глеб, – поприветствовала Анна скопца. Тот выглядел как-то непривычно. Что-то нарушало спокойствие, как если бы в последнее время все небесные странствия старосты были неудачны.
– Мне сказали, что случилось с Алешей, – произнес бывший кавалергард. – Прости, что пришел, но хотелось мальчика повидать.
– Хорошо, что пришел, – уточнила женщина. – Всё-таки он сын тебе…
– А Муц ушел, – сообщил Балашов, – поглядел на меня, руку пожал… Сказал только: «Матула» – и вышел.
– Алеша спит. В плечо ранили. Осколок насквозь прошел. Рана не страшна, кость не задета, но больно ему, бедняжке, и боюсь, как бы не случилось воспаления. В жару, бредит…
Отец подошел к кровати, опустился на колени. Хотел было дотронуться до головы ребенка, но остановился и принялся водить руками, точно ополаскивал ладони в утробе шифоньера. Анна смотрела. В движениях бывшего мужа проступало что-то новое, какой-то неизвестный доселе кураж. И такое лицо, какого давно уже не случалось видеть с тех самых пор, как приехала в Язык. Что ж, все слезы выплакала давно, всё теперь опустело.
Балашов вернулся на свой пост у детской кроватки. Одну руку ребенок выпростал из-под одеяла, и Балашов сжал маленькую ладошку в своих ладонях. Анна думала: испугается ли Алеша, если очнется, или же узнает родную плоть и кровь каким-то глубинным, непостижимым до конца чувством?
– Ты не против? – спросил Балашов.
– Ничуть. Только не говори, что ты его отец, если проснется.
– Не скажу. Можно я помолюсь? Молча.
– Да, можно.
Несколько минут прошло в полной тишине. Балашов встал, подошел к Анне.
– Ты стал другим, – заметила она.
– Из-за того, что мы совершаем… тела у нас меняются, – покраснев, признался скопец. – Кожа глаже, да и сами полнеем…
– Да нет, ты со вчерашнего дня изменился.
– А ты что-то заметила?
– Уж не раздор ли в вашем братстве?
– Не могу больше старостой быть. До того дошло, что вру, фантазирую о видениях. Тебя я тоже обманывал, всё хотел правду сказать, слова не нарушить после того, как много лгал… Вот обещал тебе, что никогда более не стану способствовать очищению, а давеча клятву нарушил…
– Подошел с ножом к мужчине?
– Да. Юноша, девятнадцати лет…
– Ах, Глеб!
– По дороге из Верхнего Лука повстречался с каторжником, тот разузнал, что я совершил. Обещал мне молчать, если не скажу, что он у меня литр спирта забрал. Это Самарин шамана упоил, Анна! А я бы мог всех здесь предупредить… Мой грех. Возгордился слишком, вот и смолчал. Из высокомерия утаил, что вновь клятву нарушил. И стал лжецом. А лжецам не место среди ангелов в чертогах Божьих! Выходит, перед тобой я стыжусь сильнее, чем перед Господом…
– Я рада.
– А Бог скорбит!
– Глеб, я пригласила Самарина остаться на ночь. Мы делили ложе. Совокуплялись…
– Знаю.
– Я была столь глупа, что испытывала по нем настоящий зуд, не могла без него, верила ему! Позволила похитить нашего сына!
– Нашего? – улыбнулся Балашов. – Звучит довольно странно…
– Что бы ты ни делал с собой, от ребенка не отречься!
– А для чего ты приехала в Язык? У меня и в мыслях не было, что ты окажешься здесь. Когда же я впервые увидел вас с Алешей на станции… четыре… пять лет тому назад? На миг испытал радость. А потом – точно вновь ножом полоснуло. Вот тогда я тебя возненавидел. Уж не сатана ли явился ко мне в твоем обличье, чтобы мучить? Но победа далась легко. Молился, постился, кружился… Потом, когда поверил, что и впрямь ты – тяжелее стало. Сперва я тебя так же сильно ненавидел. Чувствовал себя точно маленький мальчик, играющий бесконечным летним днем в чудесную игру, который заметил, как издалека на него глядит ребенок постарше, а тот, младший, еще верит в то, что подсказывает ему воображение, но уже чувствует на себе взгляд старшего, в котором читается, что дворец – куча хвороста, а волшебное платье – простыни, взятые во дворе…
Потом ненависть к тебе прошла. Я пытался помочь. Ты помнишь, что то время было самым тяжелым. Отринув мир, взойдя на корабль скопцов, спалив ключи адовы, я по-прежнему испытывал к тебе влечение, ничуть не напоминающее страсть! Точно прежде нас связывала некая тайна, которую я позабыл, а ты помнила, но добраться до тебя и спросить, что случилось, я уже не мог…
И Анна поняла: никогда прежде, ни на мгновение не усомнилась она в душевном здоровье мужа. Насколько легче жилось бы, поверь она тогда в безумие супруга! Глеб говорил, точно просил не покидать его. Тогда женщина поняла: если выживут они с сыном – нужно уезжать.
Алеша позвал маму, она пришла, села на кроватку, принялась обхаживать. Ребенок открыл глаза и был почти в сознании. Температура держалась высокой, плечо болело. Спросил про Самарина, и успокоила: с Кириллом Ивановичем всё в порядке, Алешенька – настоящий храбрец. Анна украдкой глянула в дверной проем, где поджидал Балашов.
– Глеб, – позвала женщина. Подошел скопец, снова опустился на пол, склонив лицо вровень с Алешиным.
– Это Глеб Алексеевич, из деревни, наш добрый друг, – сказала Анна, – пришел на храбреца поглядеть… то есть тебя проведать зашел.
– Здравствуй, Алеша, – сказал отец.
– Здравствуйте, – ответил мальчик.
– У тебя останется отменный шрам. Друзья завидовать будут.
– Я стану кавалергардом, как папа, – сказал ребенок. – У него тоже много шрамов.
– Да, – согласился Глеб, – мне рассказывали…
– Папу на войне убили.
– Правда? Знаешь, я уверен, что отец тебя всё равно видит, если случается беда, и помогает советом.
Вздрогнув, Алеша затаил дыхание.
– А когда вырасту и воевать пойду, тоже сильно болеть будет?
– Боль уходит, если рану не бередить. Но так редко бывает.
Снаружи послышались крики, звон битого стекла, выстрелы. От взрыва, прозвучавшего в полусотне саженей, тряхнуло стекла. Анна вздрогнула и увидела, как на мгновение муж пригнулся и прикрыл голову руками.
– Не бойтесь, – сказал взрослому ребенок, – кавалергарды всё равно придут.
Балашов опустил руки.
– Прощай, Алеша, – сказал отец, – я буду за тебя молиться. Будь здоров, расти большой, поступай осмотрительно и люби мать… – Поцеловал сына в лоб и поднялся.
– Что же нам делать? – тревожилась Анна. – Отнести ребенка вниз? Может быть, там безопаснее?
Выстрелы снаружи усилились.
– Держитесь подальше от окна! – предупредил Балашов и направился к дверям.
Анна спросила мужа, куда он идет.
– Если ангел готов пасть, чтобы спасти другого, то так Богу угодно, хотя от искупления ангельского радость Божья сильнее, – произнес староста.
– Постой, – удерживала жена, – куда же ты? Давай хоть поцелуемся на прощанье…
Спускаясь по лестнице на первый этаж, Глеб прокричал что-то несусветное, такое, что Анна разобрала с трудом – то ли прощался, то ли заверял в своей любви. Она так и не была уверена до конца.
Подоспел Девельчен с пригоршней мха и почерневших на морозе листьев.
– Стреляют, – сообщил тунгус, – человек, который по лестнице спускался, сказал, в ад идет. Моя сказал его: Человек-Наша знать, как в Нижний мир спускаться. Крепкий веревка надо, так говорил. Большой бес проще ловить, когда на тебя бежит, однако.
Дареный конь
К полудню Муц и другие укрывшиеся на крыше бойцы могли разглядеть, как с северо-запада двинулись на город в атаке красные. Из стоявших близ железной дороги изб вылетали джиннами столпы грязно-серого дыма, а несколькими мгновениями позже донесся грохот разрядов. Два дома загорелось. С обеих сторон мерно стрекотали пулеметы. Ближе к вечеру стали постреливать и в сторону, где устроился Муц. От невидимых ударов топорщилась отстреленная щепа. Было видно, как перебежками, от угла до угла, пробираются чехи на запад, к мосту, и дальше – к дороге на полустанок, к северу.
Вместе с двумя своими людьми Дезорт спустился с кровли, чтобы с земли прикрывать мост. Нековарж передал все боеприпасы Броучеку. Тот несколько раз пальнул по избяным венцам, стараясь никого не задеть – так, сообщить: о присутствии Матулы не было никаких сведений.
– А я-то думал, что, прежде чем очередная заваруха случится, домой успеем, – сетовал Броучек. – Чувствуешь себя точно крестьянин, на огород которого пять лет кряду засуха нападает.
К вечеру красные выкатили небольшую пушку и принялись палить по амбару. Один снаряд разорвался неподалеку и перебил в доме Анны все окна.
– Вижу! – воскликнул Нековарж. – Там, за ольхою! – Ухватил длинную доску, похожую в очертаниях на грубо вытесанную теннисную ракетку, вырвал из гранаты чеку, метнул снаряд в воздух и наотмашь ударил самодельной битой. Снаряд приземлился в канаве перед избой по соседству с особняком Анны, но не взорвался.
– Больше не делай так, – предостерег Муц.
– Да я, братец, только попугать хотел, – оправдывался Нековарж. – По правде сказать, я и играть-то толком не умею. Вот футбол – это да, люблю, ты и сам знаешь. Доводилось видеть, как панство и начальники друг с другом играют, когда смотрителем работал во Всебогемском обществе любителей лаун-тенниса. Там обычно именно так по мячику били, но случалось, хороший игрок со всей силы попадал сверху. Точнее выходило. Вот таким манером… – Нековарж остановился, неуклюже ерзая, высвободился из-под веревки, достал новую гранату, вынул чеку, подбросил, отвел корпус назад и что есть силы ударил книзу. Снаряд приземлился, едва не долетев до ольхи, и взорвался, осыпав снег желтыми листьями, травой, а заодно обратив пушкарей в бегство.
– Чуть было не вышло пятнадцать-ноль, – произнес Нековарж. Усмехнулся, оступился, слетел по скату вниз, упал на землю.
Упавшего обнаружили еле дышащим, истекающим кровью из длинной раны на темени. Перебежками Нековаржа под обстрелом перенесли в жилище Анны, на другой стороне улицы. Вместе с Девельченом женщина перенесла сына вниз, на канапе в гостиной, а раненого положили на кухонный стол.
Муцу стоило немалых трудов уговорить Броучека вернуться на крышу. Русской и тунгусу поручили приглядывать за чехом. Помочь раненому они были не в силах. Анна стояла, глядя на Нековаржа и гадая, откуда начать перевязку головы, но тут боец открыл глаза. Взгляд оказался на удивление чистым. Некоторое время сержант неотрывно рассматривал женщину. Судя по всему, зрелище доставляло ему удовольствие. Заговорил тихо, но четко.
– Пани, – обратился к ней чех, – скажите мне, сестрица, прошу… Теперь уж нечего скрывать. Раскройте тайну… В чем секрет, как возбудить даму?..
– Хм, – проговорила Анна, – ну, разве что вы пообещаете никому не выдавать…
– Обещаю, – откликнулся Нековарж.
Нагнувшись, женщина тихо прошептала умирающему на ухо:
– Внутри женского лона есть крошечная, малюсенькая косточка, с четверть вершка, с левой стороны. Найти ее совсем не просто, но если отыскать и нежно надавить, поглаживая мочку правого уха, точно ушко мышонка, то женщина при этом включится и станет любить вас вечно. Так уж мы устроены.
– Ага! – обрадовался Нековарж. – Так и знал, что Броучек от меня тайну скрывал! Спасибо… – Вздохнул, блаженно улыбнулся и закрыл глаза.
День был в разгаре. Позднее осеннее солнце, пусть и стоявшее в самом зените, сохранило толику тепла. На талой воде отблескивали лучи. Муц с Броучеком чувствовали солнечных зайчиков спинами.
Теперь загорелись новые избы. Пахло гарью. Пальба стала вялой, однако не стихла. О смерти Нековаржа не знали. Видели, как бывшие товарищи по оружию вновь выкатывают пушку. Впереди, на мосту, что-то прокричал Дезорт. Тряс головой и показывал опущенные книзу большие пальцы.
– Неужели поют? – спросил Броучек.
– Не слышу, – ответил Муц. – Пожалуй, мне следует сдаться капитану.
– А я тебе не дам, братец. Да и что толку?
– Если прорваться к лесу…
– А по-моему, все-таки поют.
Теперь пение услышал и Муц. Хор неумелых, но крепких голосов, распевающих по-русски на мелодию, обыкновенно исполняемую британскими или американскими проповедниками.
Броучек указал на показавшееся шествие. Люди направлялись от площади к мосту. Во главе шествовал Балашов, в одной руке нес белую тряпицу на палке, другой вел под уздцы черного коня. Следом шествовали десятки горожан в черном поверх белого, светло-серого и молочного нижнего белья. Все пели, и по мере продвижения к процессии присоединялись всё новые участники – в основном мужчины, но к ним вышло и несколько женщин. Перейдя мост, повернули за угол к дороге, что вела на полустанок, прошли мимо особняка Анны, под крышей дома, где устроились Муц и Броучек.
– И что мне делать? – недоумевал чех.
– Не знаю, – ответил еврей, – пока Балашов будет виден, прикрывай его.
Теперь в шествии принимало участие около восьмидесяти душ, и пение заглушало доносившийся с северо-запада звук: там постреливали. Громче всех пел Глеб:
Ой Ты, Свят Отец, да Заступник наш!
То не в зеленом саду соловей поет,
То исток всего, истый Дух Святой,
В колокольцы небесные позванивает.
Белых агнцев пред Собой зовет.
Ой вы, агнцы мои, агнцы белые,
Вы возрадуйтесь, заступив в Эдем,
Возликуйте во чистых во сердцах своих.
Как в раю вы стыда не познаете.
Как в саду Моем всяк станет птицею.
Птицей вольною, драгоценною.
Огражу Я вас от злосчастия,
Напитаю сердца благодатию,
Если кто благодати возжаждает —
Пусть претерпит во имя Господа,
На деяние Божье отважится.
Воспримите златое сечение,
От ответа за грех очиститесь,
Чистоты вечной в сердце исполнитесь.
Ой Ты, Свят Отец, Искупитель наш!
На скрижалях златых то завещано:
Лишь бесстрашным узреть Его дадено,
Лишь прилежным да смелым дозволено.
Только ими Сион обретается.
Только им подведут коня белого.
Ну а коль подведут коня белого —
То в седло тотчас воссесть надобно.
А воссядешь – в сердце возрадуйся,
Злат-узду ухвати крепко-накрепко,
Отправляйся в странствия дальние,
Обскачи один все угодия,
Истреби змея лютого, страшного.
Как истребим лютого ворога —
Возрастим сады всюду райские.
В сотне саженей от перекрестка, близ моста, из-за дома появился чешский часовой и велел прекратить шествие. Староста ответил, что привел капитану Матуле доброго коня.
– А это кто с тобой? – спросил солдат.
– Друзья мои.
– Пусть перестанут петь.
Обернувшись, Балашов кивнул, и пение прекратилось. Из укрытия в сопровождении Ганака вышел капитан, предупрежденный новым ординарцем о снайпере.
– Только не при столпотворении народа, – пробормотал Матула, не отводя от лошади взгляда. Выражение глаз его было по-прежнему безжизненным, однако же при мысли о скакуне уголки глаз затрепетали.
– Сколько хочешь за коня? – спросил чех.
– Это подарок вам, капитан, – пояснил скопец.
– Я древних читал! Наверное, десятка два коммунистов и жидовских солдат в брюхе припрятал, а?! – Матула погладил морду жеребца. Животное переступило с ноги на ногу. Скакуна уже взнуздали. – Вы тут про белого коня распевали…
– У нас есть разномастные лошади.
– Что-то не припомню, чтобы кто-нибудь из твоих единоверцев скакал верхом, тем более на эдаком жеребчике… Где украл?! И чего взамен хочешь?
– Уповаем на то, что вы от города погибель отведете, – сказал Глеб. – Не изволите ли верхом прокатиться?
Матула оглядел дорогу из конца в конец.
– А почему бы тебе, лавочник, самому не проехаться? – предложил капитан. – Ну-ка, покажи мне, какая у этого дьявола стать! Вот швырнет тебя в грязь, точно куль с мукой с телеги сбросит – тогда буду знать, что конь достоин возить на себе офицера. Ну, живо в седло! Поторапливайся, мужик, нечего с друзьями целоваться-обниматься – чай, не в петлю, а на коня лезешь!
Глеб принялся взбираться в седло, но в стремя поставил правую ногу. Чехи расхохотались. Незадачливый наездник повторил попытку, грузно перевалился через спину, взгромоздясь в седло, и потянул за поводья, понуждая скакуна развернуться. Жеребец не шелохнулся.
– Не тебе на коне, а коню на тебе верхом ездить! – загрохотал Матула, прихлопывая себя по ляжке. Глаза капитана подернулись влажной пленкой, точно камни после дождя.
Неожиданно скопцу удалось развернуть коня, и животное вместе с седоком неспешно направились обратно – в ту самую сторону, откуда прибыли, рассекая собрание молящихся, жавшихся к обеим обочинам. Глядя, как Балашов неспешно удаляется по большаку, Матула старательно прятался от прицела Броучека за горожанами.
– Что ж, в седле он усидел, а стало быть, минус коню, – изрек Матула и пробормотал: – Великолепное животное…
Добравшись до особняка Анны, староста вновь развернул Омара. И поймал на себе взгляд жены.
– Что ты делаешь? – поразилась женщина.
– Ухожу.
– Куда же?
– Куда следует. Иди в дом, снаружи опасно. Что Алеша?
– Всё так же. Глеб, что бы ты ни замыслил – откажись, умоляю!
Жеребец нагнул голову, тряхнул гривой и ударил копытом по едва смерзшейся дороге.
– Видишь ли, – начал Балашов, – тем, кто перестал быть и мужчиной, и ангелом, существование порой может казаться весьма утомительным.
Анна направилась навстречу собеседнику.
– Знаешь, давно уже не говорил ты так по-мужски, – произнесла жена.
– К тому же, хотя ты и приняла меня любезно, но и отцом я давно быть перестал.
– Нет же, повторюсь: ты по-прежнему отец! – заверяла женщина. – Я все твои дагеротипы сожгла… – протянула аппарат для снимков: – Тут еще осталась пара пластинок. Позволишь?
– Мне пора, – ответил Балашов.
Пристроив камеру, Анна нажала на кнопку. Сообщила:
– Готово.
– Прощай, – ответил Глеб, – мы же любили друг друга, верно? – Нагнувшись вперед, что-то прошептал Омару на ухо и двинулся в путь.
– Да, – произнесла женщина, когда всадник преодолел пределы слышимости. – Мы любили…
Впереди, на дороге, Матула нахмурился, увидев, как рысью возвращается Балашов.
– Ни за что ему не совладать на такой скорости! Шею свернет! Не хватало еще, чтобы и коня с собой на тот свет прихватил… – Скакун и наездник мчались вскачь. – Поразительно, как еще не свалился? Должно быть, клейстером голенища по бокам смазал. Хотя… – Матула огладил рукой утолок рта – движение, в последний раз проделанное капитаном под огнем, на ледяной глади Байкала. – Интересно, Ганак, уж не лукавил ли перед нами туземец, рассказывая о своей неопытности? Как, говоришь, этого мужика зовут?..
За мгновение перед тем, как подскакать к капитану так проворно, что лишь Матула успел осознать происходящее, Балашов выпустил из правой руки узду, сунул руку за пазуху, вытащил шашку, вскинул оружие высоко над головою, отвел за левое плечо, вжал ноги в стремена и, сидя в седле, наклонился влево. И когда всадник промчался мимо капитана, вся сила замаха и масса мчащегося скакуна пришлись на тяжелый удар отточенного клинка, прямо в просвет между шеей Матулы и подбородком.
– Превосходный удар! – воскликнул главнокомандующий. Голос его приглушился до шершавого шепота, едва лишь гортань и говорящий рот вместе с головой взлетели дугою в воздух и – дальше, в заросли подорожника, на дальнюю обочину.
Застывший на месте человек без головы испустил нелепый кровяной фонтан и рухнул наземь, а горожане бросились врассыпную. Прежде чем пасть под выстрелом Броучека, адъютант Матулы дважды выпалил по Балашову из пистолета в спину, убив всадника, тянущего поводья Омара на себя.
Анна услышала стрельбу и крики скопцов. Скорее туда! Нет. Алешеньку она не бросит. Знала: никогда ей теперь не видеть мужа живым. Поймала свое отражение в одном из немногих небитых стекол, оставшихся в особняке. Собственное лицо отпугивало. Точно крестьянка, встреченная на перроне во время голодного мора, или еврейка во время погромов, когда приходит пора переходить от жизни к существованию.
Проснулся Алеша: услышал коня.
– Что, кавалергарды пришли? – спросил мальчик.
– Нет. Это господин Балашов…
– Он сказал, его Глебом зовут, как папу…
Лежа на канапе, Анна обняла ребенка.
– Просто имя совпало, – произнесла. – Хотя у Глеба Алексеевича, сыночек, есть и общее с твоим отцом. Есть такие мужчины, которых достижимое заботит тем меньше, чем оно ближе, а чем больше удаляются – тем сильнее влечет… Ах, что за вздор я болтаю – не слушай! Мы уедем из Языка. Нужно будет город подыскать, куда бы переселиться. А как тебе лейтенант Муц? Нравится ли?
Среди миров
До самого следующего дня Анна и Йозеф не виделись и даже едва ли перемолвились словом. После смерти капитана чехи признали главенство Муца и Дезорта, поверив в обещание выбраться из города.
Тело капитана уложили на носилки, сложив голову и туловище, и под парламентерским флагом понесли красным.
Двух красноармейцев ранило в бою. На сходке горячо выдвигались и поддерживались предложения казнить всех чехов. Бондаренко взывал к милосердию, хотя бы из гигиенических соображений, а когда спорщики стали брать верх, вытащил из-под парламентерского флага голову капитана и помахал ею перед собравшимися путейцами, утолив таким образом жажду мести.
Муц заметил, что глаза у Матулы остались открыты. После смерти во взгляде капитана наконец проявилось выражение. Чуть отчетливее, нежели смутное удивление… хотя Йозеф сомневался, не был ли то отголосок быстротечного восторга перед взмахом шашки, срубившей голову, и пришедшего в тот же миг еще более жестокого осознания проигрыша – что и другие, а не только главнокомандующий корпуса да тунгус состязались за владычество над тайгою.
Дымя, эшелон красноармейцев въехал на полустанок, неторопливо пихая перед собой разбитый чешский паровоз. Пока скопцы тушили пожары и чинили пострадавшие жилища, обе стороны принялись выхаживать раненых. Ни один из горожан в бою не пострадал, однако большинство изб, стоявших окнами к железной дороге, понесли ущерб или оказались разрушены, а после того как скопцы обвинили чехов и пришельцев в мародерстве, начались стычки.
Над станцией и зданием присутственных мест подняли красные флаги. Ведя красноармейцев по городу, Бондаренко, точно чудотворец, указывал на те или иные вещи, объявляя их народным достоянием.
Муц несколько часов потратил на уговоры: переутомленного, измученного похмельем врача красных упрашивал посмотреть Алешу; Бондаренко – оставить чехам оружие и паровоз, чтобы те добрались до Тихоокеанского побережья; чехов убеждал в том, что красным стоит доверять, а бывших среди чехов социалистов – не верить большевикам. Отношения обеих сторон оставались напряженными до тех пор, пока вечером, когда Муц, Дезорт и Бондаренко, потратив несколько часов на безрезультатные переговоры об условиях, на которых чехи оставят город, не обнаружили: старшие кашевары чехов и красноармейцев договорились, как лучше всего приготовить убитую снарядом телку – сварить.
Наутро прибыл взвод красной конницы, бабки лошадей украшала грязь, всадники были неряшливы и измождены, согбенны, в кожаных тужурках, накинутых поверх гимнастерок. Командир, аварец по фамилии Магомедов, в белой папахе и в казачьей бурке, завидовал комиссару из-за поздравительной телеграммы, отправленной Троцким по случаю захвата города, и Муц, неожиданно для самого себя, оказался союзником комиссара в споре, разгоревшемся из-за того, какое именно народное достояние должно быть отведено на постой двух дивизий. Комиссар Магомедова, Горбунин, извинился и отправился на прогулку осматривать окрестности. Повстречал Анну Петровну: женщина в черном пальто с залатанными локтями стояла на дороге. В руках у нее была камера.
– Доброе утро, – поздоровался комиссар.
– Доброе утро.
– У вас окна разбиты.
– Стекольщика дожидаюсь.
– Горбунин, Николай Ефимович, – поклонился комиссар.
– Лутова, Анна Петровна.
– Крестьянка?
– Нет.
– Рабочая?
– А как вы думаете?
– Буржуазная паразитка?
– Овдовевшая мать.
– Ваш аппарат?
– Мой.
– Хорошие снимки делает?
– Случается.
– А на это что скажете? – Горбунин достал скомканную газету, отпечатанную на одном листе и сложенную в четыре страницы. Газета называлась «Красные копыта».
Анна внимательно изучила листок. От мороза щеки зарделись, а поскольку доктор уже успел побывать и успокоить мать, в глазах женщины вновь вспыхнули любопытство и жадность.








