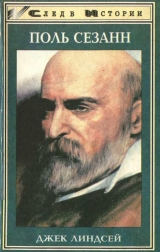
Текст книги "Поль Сезанн"
Автор книги: Джек Линдсей
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Верный Жеффруа продолжал защищать его. В томе «Художественной жизни», опубликованном в том же году, он писал: «Если над ним уже не все глумятся, как раньше, то многие, не удосуживающиеся сделать попытки проникновения в его декоративное чувство, многообразие формы, яркость цвета, которые сближают этого художника из Экса с венецианцами, взирают на него с удивлением, не догадываясь, что он обладает своим собственным новым стилем, своей особой значительностью».
Двадцать пятого сентября Поль поздравил Оранша с рождением сына. Его собственный сын находился в то время в Фонтенбло. «Я упорно работаю, – писал Поль, – и, если солнце Аустерлица в живописи заблестит надо мной, мы вместе придем пожать Вам руку».
Солари остался теперь единственным другом Сезанна. Они нередко обедали вместе дома у Сезанна или в харчевне у мамаши Берн в Толоне. Однажды из дома Сезанна под вечер стали раздаваться громкие яростные крики. Перепуганные соседи побежали за мадам Бремон. Она успокоила их: это всего лишь два пожилых человека спорят об искусстве. На Поля теперь нередко находили приступы бахвальства. «Во Франции есть более тысячи разных политиканов, но Сезанн рождается единожды в два столетия».
Часто Поль возвращался с работы чрезвычайно уставшим, после быстрого обеда он укладывался в постель, но с рассветом был уже на ногах.
Мари осуществляла за ним строгий надзор. Недовольная щедростью Поля, она велела мадам Бремон выдавать ему не больше пятидесяти сантимов, когда он шел в церковь на службу. Это, несомненно, она ответственна за то, что однажды, когда Сезанна не было дома, экономка спалила все этюды «Купальщиц». Встретившаяся женщина, продававшая на базаре вино, спросила ее: «Как поживает мсье?» – «Да не слишком хорошо». – «Занимается ли он живописью?» – «Да, такой ужас, я как раз сожгла целую кипу обнаженных женщин. Я не могла их больше хранить из-за соображения безопасности всего семейства. Что бы сказали люди!» – «Да, но некоторые из них могли быть и неплохи». – «Что вы, они совершенно ужасны».
В том же 1903 году Сезанн выставил семь полотен на венском «Сецессионе», а несколько позже три другие картины были показаны в Берлине. Австрийский критик высказывал сожаление по поводу растущего числа парижских собирателей картин Сезанна, «которые называют его самым великим из всех живущих художников и воздают божеские почести».
В ноябре умер Писсарро, а вскоре после этого на Маркизских островах скончался Гоген.
Глава 5Конец
(1903–1906)

На Поле отражалось разрушительное действие его диабета: глаза его опухли и покраснели, лицо стало одутловатым, а нос – сизым. Ясно, что после всех его тревог 1885–1886 годов издавна преследовавший Поля страх смерти обрел новую силу и если бы не диабет, то еще какая-нибудь напасть преследовала бы и доконала его. При всех страхах он не придерживался сколько-нибудь строгого режима, хотя известно, что он отказывался от обильных блюд, предлагавшихся гостям. 25 января 1904 года он сказал Ораншу, что давно не видел Гаске. Относительно искусства он заметил: «Я думаю, с каждым днем я подхожу все ближе к сути, хотя все это довольно болезненно. Если глубокое изучение натуры – а это, конечно, у меня есть – необходимая основа для любых концепций искусства, на которых основано великолепие и величие всей будущей работы, то знание средств выражения наших чувств не менее важно. А оно может быть основано только лишь на длительном опыте». 29-го, изнуренный дневными усилиями, он оставил ясный вечер, как он выразился, для писания писем.
В его жизнь вошло несколько новых друзей. Наиболее важным из них был Эмиль Бернар, который хотел встретиться с ним со времен Танги, то есть еще с тех пор, когда он был студентом-художником. В феврале он вместе с женой и двумя детьми высадился в Марселе, возвращаясь из Египта, и решил завернуть в Экс. Около дома Бернар увидел старого господина в нахлобученной фуражке, который нес охотничью сумку. Бернар представился, и Поль повторил предложение, которое он делал еще в 1890 году. «Я как раз иду писать мотив. Пойдемте вместе». Польщенный этим сердечным приемом, Бернар остановился в Эксе на целый месяц и встречался с Сезанном почти каждый день. Придя к Бернару домой, Поль увидел натюрморт. «Да вы настоящий художник!» Так как освещение там было недостаточным, Сезанн предложил Бернару нижние комнаты в Лов. Бернар работал в них и ходил с Полем на мотивы, где мог наблюдать за работой старого художника. Поль удивил его, сказав, что использует в работе фотографии. Однажды Бернара позвали в спальню Сезанна, чтобы посмотреть лежавший там том с репродукциями Остаде; над кроватью в алькове он заметил распятие (возможно, помещенное там Мари) и акварель Делакруа «Цветы», повернутую изображением к стенке, чтобы предохранить ее от выгорания на солнце.
Бернар любил рассуждать об искусстве и часто спрашивал мэтра: «На чем основан ваш метод перспективы? Что вы подразумеваете под натурой? Достаточно ли совершенны наши чувства, чтобы замечать то, что Вы называете природой?» Вопросы раздражали Поля. «Поверьте, все это не лучше слова Камбронна», – говорил он. (Эвфемизм «слово Камбронна» – это, конечно, результат деликатного редактирования Бернаром фекальной лексики Поля. Он говорил просто «дерьмо».) «Все эти шутки оставьте для рассуждения университетским профессорам… Будьте художником, а не писателем или философом». Когда Бернар возражал, Поль отвечал ворчливо: «Вы разве не знаете, что я считаю все теории идиотскими» – и отходил, бормоча: «Правда заключена в натуре, и я докажу это». Его письма сбивали Бернара с толку. Применительно к Ван Гогу он смог выработать конкретные основы эстетической теории, но Сезанн ставил в тупик и не поддавался описанию. Бернар начал сомневаться, имеет ли он вообще какие-нибудь ясные идеи относительно того, над чем работает, и работал ли он вообще сознательно. Он записывал некоторые из замечаний Поля: «Нам нужно снова стать классиками через природу при помощи ощущения. Нужно рисовать в процессе живописи. Чем больше уравновешены цвета, тем больше точен рисунок. Когда цвет достигнет своего полного богатства, форма станет завершенной. Секрет рисунка и моделирования заключен в контрастах и взаимосвязи тонов.
Работайте, не обращая внимания ни на кого, и тогда достигнете мастерства. Вот в чем должна быть цель художника. А все остальное просто дерьмо.
Начинайте с легких и почти нейтральных тонов. Затем наращивайте градации, все больше и больше усиливайте цвет».
Первое предложение является примером того, как часто, цитируя Сезанна своими словами, рассказчики приписывали ему свои собственные идеи. Возможно, между ними был просто обмен мнениями типа следующего. Бернар настаивал на необходимости возврата к классической основе, и Поль в конце концов в раздражении сказал: «Ну хорошо, если мы уж должны вернуться к классицизму, то пусть это будет через ощущения, ибо вот где ключи зарыты».
Бернар начал свой путь в понт-авенской группе, сформировавшейся вокруг Гогена, и разделял их общую любовь к декоративной очищенности, наивности, иератической чистоте линии. Затем в 1895 году он обратился к разновидности мистической неоплатонической эстетики. В стихотворении, написанном в Египте, перед приездом в Экс он писал:
«Коричневый, оливковый иль черный
взять для картины? Это все равно,
Пуссен, или Лебрен, или Карраччи?
Не важно, каждый должен быть нам люб.
Нам следует давно уж научиться
любить любую сильную работу».
Таким образом, Пуссен и академическая традиция были для Бернара одинаковы. Перед приездом в Экс в 1904 году он путешествовал по Испании и Италии, проведя много времени в Венеции, его работы в чем-то производили впечатление набросков венецианцев. Но уже в 1880-е годы он обратил внимание на Пуссена, что явилось его реакцией на методы импрессионистов. Ван Гог заметил в сентябре 1886 года: «Вокруг много говорят о Пуссене. Бракмон тоже говорит о нем. Французы считают Пуссена самым великим художником из всех старых мастеров». В 1890-е годы была другая реакция, отрицавшая символизм и декаданс, ее сторонники жаждали вернуться к греко-римскому порядку. Так, Л. Анкетен, который начинал в кругу Сёра, обратился впоследствии к Домье и Курбе и пришел около 1896 года к Микеланджело и Рубенсу. Свои предыдущие картины он закопал в саду. Хотя мы не можем свести этот поворот к усилению политической реакции, происходившей тогда, но ясно, что между этими двумя явлениями была тесная связь. Новое благовествование классического порядка было крепко связано с попытками католического возрождения, с призывами к «полному национализму», которые разделял Гаске, и роялистской политикой. Существовало сознательное отрицание радикализма и анархизма, которые ассоциировались с движениями импрессионизма и символизма. Не все художники были увлечены новой волной, например Вюйар, Боннар, Лотрек и Матисс отвергли его. Но среди окружавших Сезанна поэтов и художников большинство были приверженцами реакционного неоклассицизма.
Дени, классицист в духе Энгра, был одним из тех, кто связывал Поля с Пуссеном. Он называл его в высказывании об Осеннем Салоне 1905 года «Пуссеном натюрморта и зеленых пейзажей». Двумя годами позже он определил Сезанна «Пуссеном импрессионизма». Уже в 1898 году Дени связал с Пуссеном поэтов дисциплины и порядка в «Католическом обозревателе». В 1897 году Пуссен появился в его дневнике, а в следующем, 1898 году он открыл искусство Ренессанса в Риме. Его друг А. Жид был его гидом, он тогда только что опубликовал свое первое эссе о классицизме, вслед за которым последовала большая статья об учениках и последователях Энгра, которые превозносили Рафаэля и Пуссена. Бернар и другие заимствовали у него сравнение Поля с Пуссеном. Бернар ничего не упоминал о Пуссене в своем первом очерке о поездке к Сезанну (а только эту публикацию Поль и видел). Там также не было никаких атак на импрессионизм. Напротив. Сезанн называл Курбе, Мане, Моне лучшими художниками и добавлял: «А Писсарро был близок к природе». Но в 1907 году, после смерти Поля, Бернар вставил фразу: «Представьте Пуссена, полностью переделанного на натуре. Вот такой классицизм я и имею в виду», – и вложил ее в уста Полю. Самое большее, что Поль мог сказать, это что-то типа: «Если вопрос заключается в том, чтобы вернуться к Пуссену и тому подобному, тогда пусть это будет Пуссен, заново воссозданный от земли». Сам он, конечно, в своей системе Пуссена вовсе не рассматривал, тот программный тон, который звучит в передаче Бернара, был ему совершенно чужд.
Понять это очень важно, так как формулировка Бернара соответствовала вкусам того времени и внесла большую путаницу в осознание истинных целей Поля. Сам Бернар был религиозно настроенным дуалистом; его стихотворения описывают мир как арену яростного конфликта между сильнейшей чувственностью и мистицизмом. В основе своей позиция Бернара была противоположна главной идее Поля – искусство как воссоздание природы посредством ощущения. В конце концов Бернар осознал это обстоятельство. В 1926 году он полностью отказался от идеи «стать классиком par la natura», которая в 1904 году представлялась ему «наиболее здоровым и совсем непонятым подходом». Соответственно он объявил взгляды Поля антиклассическими, «уводящими живопись обратно в рабство внешнего облика», что для Бернара означало возврат к академизму.
Но тем временем неверное толкование было сделано. Тезис о Пуссене обеспечивал легкий путь к искажению истинной природы искусства Поля и одновременно к тому, чтобы сделать его приемлемым для того климата художественной критики, к которому сам Поль всегда чувствовал враждебность. Гаске написал поэму о Пуссене (опубликованную в 1903 году), а также о Декарте. Он выводил Поля защитником нового порядка в цитированном выше отрывке о «Купальщицах» – «Рассуждение о методе в действии». Своего Поля он заставил декларировать: «Я бы хотел, как в «Триумфе Флоры», сочетать очертания женских фигур с округлостями холмов» и, «как то делал Пуссен, наделить рассудком траву и пустить слезу в небеса». Воллар также повторял выражения Бернара, вкладывая их в уста Сезанна. Ларгье касался этой темы: «Даже спустя более чем двадцать лет мне доставляло удовольствие вспоминать, как он (Сезанн. – Пер.)произносил, не разжимая губ: «Вернуть Пуссена к жизни через природу…» Он даже описал это в стихах:
«Желание вернуть Пуссена к жизни
Не вызовет, конечно, возражений.
Есть только свет и тень и колорит,
А линия с рисунком суть абстрактны».
Около 1914 года Л. Верт доверительно сообщал: «Сезанн советовал молодым художникам рисовать их печные трубы. Он говорил им обычно, кроме того: «Необходимо воссоздать Пуссена в соответствии с природой». Т. Дюре писал в 1906 году, что Поль хорошо знал старых мастеров благодаря Лувру, в 1914-м он добавлял: «Пуссена в особенности». (Похоже на то, что и в самом деле Поль как-то сказал Ф. Журдену, что советовал одному молодому художнику рисовать его печку. В этом он вспоминал свой собственный ранний набросок печки в мастерской, сюжет этот также писали Делакруа и Коро.)
Все сказанное выше я веду не к тому, чтобы заявить, что Поль не восхищался Пуссеном. В мастерской у него висела репродукция картины «И я был в Аркадии». Но показательно, что он сделал только три копии с Пуссена против пятидесяти шести с Пюже, двадцати семи с Рубенса, двадцати шести с Микеланджело. Из его собственных высказываний и записей ясно, что художниками, кого он более всех других почитал, были Рубенс и Тинторетто. Из Пуссена Сезанн скопировал фигуры пастушки и коленопреклоненного пастуха из «И я был в Аркадии» и путто (из «Концерта»). Они относятся к 1890–1895 годам и представляют собой небольшие наброски отдельных взаимосвязанных фрагментов, а не целостные композиции. Ривьер и Шнерб, которые посещали Поля в 1905 году, сделали соответствующие заметки. Они подчеркивали восхищение Поля Моне и Курбе за их чувствительность к свету и цвету и за их свободную, уверенную манеру исполнения. Относительно старых мастеров они же передавали, что Веронезе был среди тех, о которых он думал больше всего в конце жизни. Также говорят, что «он любил Пуссена, в котором разум дополнял способности».
Вернемся к Бернару в момент его пребывания в Эксе в 1904 году. Он постоянно наблюдал Поля за его работой над огромными «Купальщицами», где «все было в хаотичном состоянии». Бернар видел Поля на пейзажах в Шато Нуар и пишущим натюрморты в мастерской. Он был ошеломлен, видя, как неистово и постоянно трудится Сезанн. Натюрморт с тремя черепами менял свой колорит и композицию почти каждый день. Работая на первом этаже, Бернар постоянно слышал, как Поль расхаживал наверху в мастерской. Часто он видел Сезанна спускавшимся в сад посидеть в глубоком раздумье и снова спешащим наверх. Однажды Поль увидел Бернара за работой над натюрмортом, нашел ошибку и захотел тут же исправить, но, когда Бернар протянул ему свою палитру, он закричал: «А где у вас неаполитанская желтая, где ваша персиковая черная? Куда вы засунули натуральную сиену, кобальт и жженый лак? Вы не можете писать без этих красок». Бернар так описывает палитру Поля того времени: «Синий кобальт, ультрамарин, прусская синяя, изумрудная зеленая, «ноль веронез», зеленая земля, киноварь, охра красная, жженая сиена, краплак, кармин, жженый лак, блестящая желтая, неаполитанская желтая, желтый хром, желтая охра, натуральная сиена, серебряные белила, персиковая черная».
Когда Сезанн не занимался живописью и не беспокоился о своей работе, он был добродушен и даже часто весел. Он обедал с Бернарами в их квартире на Театральной улице, играл с детьми и называл себя Отцом Горио. Но вскоре он обычно вспоминал о работе и делался молчалив, детей отправляли спать. Во время обедов он часто разглядывал пристально фрукты, блюда и сосуды или принимался изучать игру светотени на лицах его хозяев.
Однажды утром он пригласил Бернаров прогуляться к холмам в окрестностях Шато Нуар и удивил их своей ловкостью и проворством. Все время, даже слегка задыхаясь, он болтал. «Роза Бонёр, вот чертовка! – говорил он, карабкаясь по камням. – Она знала, как посвятить себя живописи без остатка». По дороге он рассуждал о своих любимых поэтах и прочел «Падаль» (Воллар, несомненно, заимствовал эту деталь у Бернара). Он вспоминал с благодарностью дни, проведенные в Овере с «простым и великим Писсарро», который научил его видеть цвет. «Он был для меня словно отец». В следующий момент он уже потрясал палкой, обрушиваясь на дорожных инженеров, этих маньяков, которые при помощи прямых линий все делают уродливым. Но он был уже слишком болен, чтобы сильно злиться. «Не будем больше говорить об этом. Я слишком устал и так возбужден. Я должен сохранять благоразумие, сидеть дома и ничем не отвлекаться от работы».
Однажды Бернар и Поль, идя домой с мотива, решили сократить дорогу и пошли по крутому и скользкому склону. Поль, который шел впереди, оступился и чуть не упал, Бернар схватил его за руку, чтобы поддержать. Неожиданно Сезанн впал в бешеную ярость, стал браниться и отталкивать Бернара, затем торопливо побежал вперед, время от времени бросая опасливые взгляды через плечо. Бернар пошел за ним в мастерскую и попытался объясниться, но Поль, «глаза которого чуть не вылезали из орбит от ярости», не пожелал слушать. «Я никому не позволю касаться меня. Никто не сможет достать меня своей граблей», – кричал он.
Удрученный Бернар ушел к себе. В тот же вечер, когда он собирался лечь спать, к нему постучали. Это был Сезанн, он зашел справиться, прошло ли у Бернара ухо, которое болело уже несколько дней. Он был очень приветлив и, казалось, полностью забыл то, что произошло несколько часов назад. На следующий день Бернар рассказал об этой истории мадам Бремон, которая уверила его, что в этом нет ничего страшного и что Поль весь вечер расхваливал Бернара. Ей самой приказано обходить хозяина подальше, чтобы даже не задеть стула краешком юбки во время подачи обеда. Потом Сезанн сам объяснил Бернару, что в детстве его на школьной лестнице ударили по заду, о чем мы уже упоминали.
Несмотря на недостаточное взаимопонимание во взглядах на искусство, письма Сезанна к Бернару являются наиболее важным источником его воззрений. Сохранилось шесть писем, в первых двух он просит «поцеловать детей от имени папаши Горио».
(15 апреля 1904 года). (…) «Разрешите мне повторить то, что я уже говорил Вам здесь: трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса – и все в перспективном сокращении, то есть каждая сторона предмета, плана должна быть направлена к центральной точке. Линии, параллельные горизонту, дают глубину. А поскольку в природе мы, люди, воспринимаем больше глубину, чем поверхность, то необходимо вводить колебания света, передаваемые красными и желтыми тонами, достаточное количество голубых, чтобы дать почувствовать воздух.
Позвольте Вам сказать, что я еще раз посмотрел Ваш этюд, который Вы писали на первом этаже моей мастерской. Он неплох, по-моему, Вам нужно продолжать идти по этому пути, у Вас есть понимание, что нужно делать, и Вы скоро обгоните всех Ван Гогов и Гогенов.
Поблагодарите мадам Бернар за добрую память о нижеподписавшемся, детям – поцелуй от папаши Горио и поклон всей Вашей семье».
(12 мая 1904 года). «Я Вам уже говорил, что талант Редона мне очень симпатичен и я всем сердцем с ним в его восхищении Делакруа. Я не знаю, позволит ли мне мое здоровье осуществить мою мечту и написать апофеоз Делакруа.
Я работаю очень медленно, природа представляется мне очень сложной, и нужно непрерывно совершенствоваться. Надо уметь видеть натуру и верно чувствовать, и еще надо изъясняться с благородством и силой.
Вкус – лучший судья. Он встречается редко. Искусство обращается только к очень ограниченному кругу людей. Художник должен пренебречь суждением, если оно не основано на разумном наблюдении характерного. Он должен опасаться литературного духа, под влиянием которого можно уклониться от единственно верного пути – конкретного изучения природы – и заблудиться среди отвлеченных теорий. Лувр – это хороший справочник, но он должен быть только посредником. Реальная и труднейшая задача – это изучение разнообразия природы».
В своем замечании относительно цилиндра, шара и конуса Поль в нималой степени не выступает защитником абстракционизма. Он пытается довольно неловко объяснить, как он воспринимает структуру предметов в пространстве и глубину пространства в цвете. Что касается «Апофеоза Делакруа», то он сделал несколько набросков, один можно видеть на фотографии 1894 года. На обороте акварели на эту же тему Бернар обнаружил шесть стихотворных строк, написанных Полем:
«Упругой наготой и свежестью блистая,
Средь луга женщина простерлась молодая;
Змеино-гибкий стан, округлый, крепкий зад, —
Она раскинулась изысканно и смело,
И щедрые лучи светила золотят
Роскошной белизной сверкающее тело».
(Перевод В. Левика)
Последнее слово стихотворения «viande». Мы помним о каннибалистском видении Уголино с черепом, поедаемым за экономным семейным столом. Можно вспомнить и о том, как Золя в «Чреве Парижа» виртуозно и поэтически описывает в длинном пассаже цветы и фрукты, продававшиеся на рынке, в эротических терминах, с эпитетами женственности – с комментарием Клода: «Я с отвращением думаю, что все эти паскудные буржуа собираются пожрать все это». Для Поля яблоки, апельсины, персики, как мы видели, были под определенным углом зрения любовными плодами, будучи символом изгибов и округлостей женщины и вызывая ее образ.
Бернар работал над статьей о Поле для «Оксидан». Поль писал ему:
(26 мая 1904 года). «Я вполне согласен с мыслями, которые Вы хотите изложить в Вашей ближайшей статье в «Оксидан». Но я все время возвращаюсь к тому же самому: художник должен всецело посвятить себя изучению природы и стараться создавать картины, которые были бы наставлением. Разговоры об искусстве почти бесполезны.
Работа, благодаря которой делаешь успехи в своем ремесле, достаточное вознаграждение за то, что тебя не понимают глупцы.
Литератор изъясняется при помощи абстракций, тогда как художник посредством рисунка и цвета наглядно передает свои ощущения, свое восприятие. Художник должен быть как можно искреннее и добросовестнее, как можно смиреннее перед природой. Но надо до какой-то степени властвовать над своей моделью, а главное, владеть своими средствами выражения. Проникнуться тем, что у тебя перед глазами, и упорно стараться изъясняться как можно логичнее».
(27 июня 1904 года). «Погода прекрасная, и я пользуюсь, чтобы работать. Надо было бы сделать десять хороших этюдов и продать их подороже, раз любители ими спекулируют. (…)
Говорят, что несколько дней назад Воллар устроил вечеринку с танцами и пирушку. Как будто присутствовала вся молодая школа – Морис Дени, Вюйар и т. д. Поль встретился там с Жоашимом Гаске. Я думаю, что лучше всего много работать. Вы молоды, реализуйте и продавайте.
Помните ли Вы прекрасную пастель Шардена с очками и козырьком в виде навеса над глазами? Этот Шарден – хитрец. Заметили ли Вы, что, когда он положил на носу легкую поперечную грань, соотношение вал еров стало яснее? Проверьте и напишите мне, не ошибся ли я».
Он слышал, что Ортанс и Поль сняли дачу в Фонтенбло на пару месяцев. Заканчивает он письмо сообщением, что из-за страшной жары еду ему приносят в загородную мастерскую.
В письме от 26 мая он утверждает свою веру в диалектическое взаимодействие художника и природы. То, что художник ищет и находит в природе, должно быть тщательно взвешено. Будучи хозяином своего метода, он должен быть также хозяином натуры (модели) и, следовательно, в определенном смысле преображать ее. Но что именно происходит в момент взаимодействия, он не может объяснить. Он знает, что получается, если заниматься этим делом, но описать это не находит слов. Отсюда раздражение Сезанна по поводу теоретизирования и литераторских разговоров.
Непонимание этого пункта привело к искажению его искусства символистами и неоклассицистами (часто это были одни и те же люди). Дени вещает нам, как Сезанн предвосхитил символистскую эстетику, поместив на место «воспроизведения» «представление», но на самом деле Сезанн не делал ничего подобного. То, что символисты подразумевали под «reproduire» («воспроизведение»), было нечто совершенно отличное от того, что он имел в виду, говоря о «realiser» («реализовывать»). В первом случае существует разрыв между наблюдателем и объектом наблюдения, во втором (сезанновском) – есть динамическое единство. В первом случае художник опирается на какие-то образцы или распределяет материал в соответствии с заранее обдуманным способом, чтобы достичь некоего эффекта или выражения, которое существует, скорее, в его сознании, а не в природе. Во втором случае существует слияние процессов наблюдения и воспроизведения с процессами, происходящими в природе. То, что изображается, вовсе не является при глубоком рассмотрении вещью – это процесс. И художник и природа динамически переплетены.
Ощущение Сезанном двойственного аспекта занятий живописью и его невозможность объяснить, как они дополняют друг друга, видны из его замечаний Франсису Журдену, молодому живописцу, посетившему его в последние годы. Перед «Купальщицами» он заявил, что «живопись заключена здесь», постучав себе в бровь, а затем сказал, что его целью всегда было выразить расстояние между глазом и объектом и истинный успех может быть основан только лишь на природе.
Двадцать пятого июля он благодарил Бернара за его статью.
«Мне остается только благодарить Вас за все, что Вы написали обо мне. Я сожалею, что мы не можем быть вместе, потому что я хочу доказать свою правоту не теоретически, но на натуре. Энгр, несмотря на свой стиль (экс-кое произношение) и несмотря на своих почитателей, на самом деле совсем не большой художник. Самые великие, Вы их знаете лучше меня, это венецианцы и испанцы.
Чтобы совершенствоваться в исполнении, нет ничего лучше, чем природа, глаз воспитывается на ней. Смотря и работая, он становится сосредоточеннее. Я хочу сказать, что в апельсине, яблоке, шаре, голове всегда есть самая выпуклая точка, и, несмотря на сильнейшие воздействия тени, и света, и красочных ощущений, эта точка ближе всего к нашему глазу; края предметов уходят к точке схода, расположенной на нашем горизонте. Даже с маленьким темпераментом можно быть настоящим живописцем, и можно писать хорошо, не будучи специально колористом и не очень хорошо понимая гармонию. Достаточно иметь художественное чувство, и вот это-то чувство является пугалом для всех буржуа. Институты, стипендии, отличия придуманы только для глупцов, шутов и пройдох. Бросьте критику, занимайтесь живописью. Спасение – в ней.
Сердечно жму Вам руку, Ваш старый товарищ Поль Сезанн».
Двадцать седьмого июля он писал в длинном последнем письме Гаске о своих приготовлениях к визиту к поэту. «Стряхнув свою апатию и неподвижность, я выберусь из своей раковины и сделаю все возможное, чтобы последовать Вашим приглашениям…» Похоже, что он выбрался и, видимо, не обошлось без размолвки. Поль, когда его вынуждали ходить в гости, никогда не был особенно дружелюбным, очевидно, что все предубеждения, которые он питал по отношению к Жо, при этом выплыли наружу. Гаске ничего не пишет по поводу этого столкновения, но с этого времени разрыв определенно существовал.
Двадцать четвертого сентября Сезанн пригласил Солари на воскресный завтрак, он в то время позировал скульптору, который лепил его бюст в натуральную величину. 11 октября он вежливо ответил на уважительное письмо торговца картинами Бернхейма-Жён. Вскоре после этого он отправился в Париж. В Осеннем Салоне он показывал несколько полотен. Жюль Ренар заметил в своем «Дневнике» от 21 октября: «Сезанн варвар. Следует скорее восхищаться множеством известных мазил, чем этим мастеровым цвета». Затем Ренар описывает свой вариант легенды о Сезанне. «Прекрасная жизнь Сезанна вся прошла в деревне на юге. Он даже не явился на свою собственную выставку. Он любит, когда его превозносят. Это как раз то, чего хотят многие из старых художников, которые после замечательной жизни замечают наконец, когда смерть близка, что торговцы картинами наживаются на их работах». Салон был открыт с 15 октября по 15 ноября; на работы Сезанна было много нападок. «Фальшиво, вульгарно, безумно» («Универ»); «сделано словно дикарем» («Монд Иллюстре»); «о Сезанн, благословенны нищие духом, ибо их есть царствие искусства» («Ревю Блё»). «Пти Паризьен» полагает, что его работы были похожи на кляксы небрежного школьника. Один из критиков, Жан Паскаль, в своем памфлете объявил, что Сезанн обязан репутацией Эмилю Золя.
Возможно, по приезде в Париж Поль опасался встретить старых друзей, с которыми когда-то разошелся. Он остановился на улице Дюпер, 16, недалеко от площади Пигаль. К нему сразу стали заходить люди, поэтому он вскоре отправился в Фонтенбло.
Девятого декабря, вернувшись в Экс, Поль писал Камуэну, который был тогда в Марселе, и приглашал его приехать в любое время. «…Вы всегда застанете меня за работой. Если захотите, мы вместе отправимся на мотив… Я ем в 11 часов и после этого отправляюсь на мотив, если только не идет дождь. Мои вещи сложены в 20 минутах ходьбы отсюда. Понимание натуры и реализации иногда не сразу даются художнику – кого бы из мастеров Вы ни предпочитали, он должен быть для Вас только примером, иначе Вы будете всего лишь подражателем. Если Вы чувствуете природу и имеете способности, – а они у Вас есть, – Вам удастся стать самостоятельным; советы и метод работы другого не должны влиять на Вашу манеру чувствовать. Если иногда Вы и подвергаетесь влиянию более опытного мастера, поверьте, если только у Вас есть собственное чувство, оно в конце концов одержит верх и завоюет себе место. Хороший метод построения – вот чему Вам надо выучиться. Рисунок – это только очертания того, что Вы видите. Микеланджело строит, а Рафаэль, каким бы он ни был великим художником, всегда зависит от модели. Когда он начинает рассуждать, он оказывается ниже своего великого соперника».
Двадцать третьего декабря Поль отвечал на письмо Бернара, посланное последним из Неаполя.
«…Я восхищаюсь, как и Вы, самым доблестным из венецианцев, мы поклоняемся Тинторетто. Ваша потребность найти моральную и духовную поддержку в творениях, которые не могут быть превзойдены, не позволяет нам успокоиться, заставляет Вас все время искать в этих творениях средства выражения, и Вы, несомненно, попытаетесь этими средствами передать природу. И когда, работая с натуры, Вы овладеете этими средствами, окажется, что Вы вновь обрели те приемы, которые употребляли великие венецианцы.








