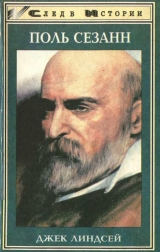
Текст книги "Поль Сезанн"
Автор книги: Джек Линдсей
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
В квартире Гийме на первом этаже помещается кухня и гостиная с окнами в сад при доме. У Гийме две комнаты и кабинет на втором этаже в правом крыле дома, который стоит в начале Итальянской дороги, как раз напротив домика, где вы жили, там еще растет сосна, ты должен помнить. Это рядом с кабачком матушки Констален.
Но, знаешь, все картины, сделанные дома, в мастерской, никогда не сравнятся с вещами, написанными на пленэре. В сценах на открытом воздухе удивительно сопоставление фигур с природой, а пейзаж здесь великолепен. Я вижу прекрасные вещи, и надо начать работать только на пленэре».
Именно в октябре 1866 года Поль определенно осознал ценность работы на открытом воздухе. Июль он провел вместе с Золя, но теперь он описывал свои взгляды так, будто они появились только что, или по крайней мере так, будто окончательное решение он принял лишь теперь.
«Я тебе уже говорил о картине, к которой собираюсь приступить. На ней Марион и Валабрег отправляются на мотив. (Я имею в виду писать пейзаж.) Я сделал с натуры эскиз (он понравился Гийме), по сравнению с ним все остальное кажется плохо. Я думаю, что в картинах старых мастеров изображения предметов на открытом воздухе сделаны по памяти, потому что в них нет того своеобразия и той правдивости, которые присущи природе. Папаша Жибер из музея пригласил меня посмотреть музей Бургиньона (коллекция Бургиньон де Фабрегуль, переданная музею Экса. – Дж. Л.), и я отправился с Байлем, Марионом и Валабрегом. Мне ничего не понравилось. Это очень утешительно. Я все хандрю, и только работа меня немного развлекает, и еще мне веселее, когда кто-нибудь рядом. Я встречаюсь только с Валабрегом и Марионом, а теперь и с Гийме. (Здесь в письме следует набросок сестры Сезанна. – Дж. Л.)Рисунок даст тебе какое-то представление о подарке, который я хочу тебе сделать. Посредине сидит моя сестра Роза и читает маленькую книжку, она сидит на кресле, кукла на стуле. Фон черный, голова светлая, сетка для волос голубая, детский фартучек голубой, платье темно-желтое; слева небольшой натюрморт, миска, детские игрушки».
Эскиз картины Мариона с Валабрегом сохранился, он очень близок к маленькому рисунку в письме. Это легкий набросок, но в нем заметен прогресс в передаче момента и точном схватывании формы.
«Передавай привет Габриэль, также Солари и Байлю, он должен быть в Париже со своим frater’oM. Надеюсь, что теперь, когда у тебя кончились неприятности с Виль-мессаном, ты чувствуешь себя лучше и работа тебя не очень тяготит. Я с радостью узнал, что ты поступаешь в редакцию большой газеты. Если ты увидишь Писсарро, кланяйся ему от меня. Повторяю, я в унынии, но без всякой причины. Ты знаешь, что на меня, неизвестно почему, каждый вечер находит тоска, когда садится солнце и начинается дождь.
Представь себе, я ничего не читаю. Я не знаю, согласишься ли ты со мной, но я все равно так думаю: мне начинает казаться, что искусство для искусства – страшная чушь. Это между нами. Вот набросок моей будущей картины на пленэре.
P. S. Четыре дня я уже ношу письмо в кармане и чувствую, что его пора уже послать,
Прощай, дружище, Поль Сезанн».
Инцидент с Вильмессаном касается публикаций статей о Салоне в газете «Эвенман»; упоминаемая «большая газета», по всей видимости, «Фигаро». Упоминания о живописи на пленэре связаны с возрастающей дружбой с Писсарро. Приветы, которые он передает через Золя, не помешали ему сразу же написать непосредственно самому Писсарро. Это письмо можно назвать знаком доверия и симпатии, ибо только близкому человеку мог Сезанн отправить письмо с резким поношением всего своего семейства, включая мать и сестер.
«Дорогой друг, я дома, среди самых отвратительных существ, какие только есть на свете; среди своей семьи, осточертевшей мне сверх всякой меры. Но не будем больше об этом. Я вижусь каждый день с Гийме и его супругой, они довольно хорошо устроились на бульваре Сент-Анн, 43. Гийме еще не приступил к большой работе, пока делает маленькие этюды, очень неплохие. Вы совершенно правы насчет серого цвета, только он и царит в природе, но уловить его здорово трудно. Пейзаж здесь очень красив, в нем много своеобразия, и Гийме сделал в пасмурную погоду, за вчерашний и сегодняшний день, очень хороший этюд. Его теперешние работы гораздо лучше тех, что он привез в прошлом году из Ипора. Меня они просто восхищают. Впрочем, увидите сами. Я больше ничего не скажу, только то, что он собирается приняться за большое полотно, как только исправится погода. Из следующего Письма, которое Вам будет написано, Вы, наверно, узнаете хорошие новости о его картине».
Как видно, Поль все еще выказывает много уважения такому посредственному живописцу, как Гийме. Посреди всех его меняющихся подходов к Делакруа, Курбе и Писсарро Поль не мог ясно представить, что, собственно, ему делать со своим мощным зовом к живописи, как освобождать чувство цвета и как строить мощную форму.
«Я только что отправил письмо Золя. Я понемногу работаю. Но здесь трудно доставать краски и они дороги. Маразм, маразм. Будем надеяться, будем надеяться, что продажа состоится. Тогда заколем золотого тельца.
Вы ничего не посылаете в Марсель, я тоже. Я не хочу больше посылать, тем более что у меня нет рам, и чем расходовать на них деньги, лучше истратить их на краски. Это я говорю о себе, а потом – будь проклято жюри.
Я надеюсь, что солнце нас еще побалует хорошей погодой. Очень жаль, если Ольер не сможет, как говорит Гийме, вернуться в Париж, боюсь, он очень-соскучится в Пуэрто-Рико, и потом, очень трудно заниматься живописью, не имея под рукой красок. Он говорил мне, что хотел бы поступить на торговое судно, которое отправляется прямиком во Францию. Если Вы будете нам писать, укажите, как ему послать письмо, то есть какой адрес написать на конверте и сколько наклеить марок, чтобы оплатить письмо полностью и не доставить ему лишних расходов».
В это письмо Гийме вложил записку, в которой заметил: «Сезанн сделал несколько очень хороших полотен. Он снова работает в светлой гамме, я уверен, Вы будете очень довольны теми тремя пли четырьмя картинами, что он пришлет. Что до меня, я не уверен, когда вернусь, возможно, когда мои картины будут закончены. Итак, Вы возвращаетесь в Париж, и я надеюсь, что Вашей жене там будет лучше, чем в Понту азе. Детки в порядке, я полагаю». 2 ноября Гийме написал Золя интересное письмо о Поле:
«Вот уже месяц, как я в Эксе, этих Афинах юга. Уверяю Вас, время не теряется даром. Прекрасная погода, живописная земля, люди, с которыми можно говорить о живописи и возводить теории, разрушаемые назавтра же, – все это помогает делать мое пребывание здесь чрезвычайно приятным. Поль в двух своих письмах писал Вам больше обо мне, чем о себе, я сделаю то же самое, то есть обратное, и напишу Вам о Маэстро. Он, можно сказать, похорошел; он носит длинные волосы, у него здоровый вид и на него оглядываются на Бульваре. С этой стороны все в порядке. Хотя он по-прежнему часто бывает в возбужденном состоянии, но время от времени тучи рассеиваются, и живопись собирается вознаградить его усилия, если его поддержат заказы, – одним словом, «небо будущего кажется иногда менее мрачным». По его приезде в Париж Вы увидите несколько картин, которые Вам очень понравятся. Среди них «Увертюра к «Тангейзеру», которую можно было бы посвятить Роберу, потому что пианино вышло очень удачно. Очень хорош портрет отца в большом кресле, колорит светлый и манера очень красива. Отец выглядел бы, как папа на троне, если бы не газета «Сьекль», которую он читает. Одним словом, дело идет, и будьте уверены, скоро мы увидим прекрасные вещи.
Жители Экса продолжают его изводить; они просят разрешения посмотреть его живопись и после бранят ее. Он придумал хороший способ: «На…ть я на вас хотел», – говорит он, и робкие люди в страхе убегают. Несмотря на это или именно поэтому, общественное мнение становится благосклоннее к нему, и близится время, когда ему предложат пост директора музея. Этого я очень хотел бы, так как, насколько я знаю Поля, в музее тогда появятся несколько пейзажей, довольно удачно написанных шпателем, которые иначе вряд ли могут попасть в какой-нибудь музей…
Холера, как Вам известно, уже покинула юг, но у нас остался Валабрег, который с умопомрачительной плодовитостью каждый день приносит по нескольку трупов (в стихах, конечно). Он покажет Вам довольно забавную подборку по возвращении в Париж. Те стихи, с которыми Вы уже знакомы, называвшиеся раньше «Два трупа», теперь переименованы в «Одиннадцать трупов»… Что касается молодого Мариона, которого Вы знаете, он лелеет надежду получить кафедру геологии. Он делает раскопки и старается нам доказать, что Бога никогда не существовало и что нелепо в него верить. Но мы мало этим интересуемся, это не живопись…»
Картина «Тангейзер» была написана в честь Вагнера, в память о его концертах, которые устраивал Морштатт. Набросок был сделан за одно утро, и Марион нашел его превосходным: «Он также принадлежит будущему, как и музыка Вагнера». Портрет Луи-Огюста, должно быть, имеется в виду тот, где он читает «Эвенман», странно, что Гийме назвал газету «Сьекль». Возможно, сначала была действительно «Сьекль», а потом Сезанн поменял название газеты на то, где был напечатан «Мой Салон» Золя.
Из писем мы знаем несколько точно датируемых произведений и можем заключить, что к 1866 году Поль сделал большой шаг в овладении техникой масла. В портрете его отца появилась уверенность формы и глубокое проникновение в характер, что является значительным развитием по*сравнению с портретом отца, выполненным вскоре после второй поездки в Париж. (Если Поль приезжал домой летом 1863 года, он мог тогда написать его.) Работа подписана 1864 годом, в портрете видна попытка написать обобщенный силуэт, на заднем плане написан натюрморт – нож, яйца, стакан и кувшин, показывающий растущее мастерство кисти. Похоже, что в 1866 году Сезанн в наибольшей степени подпал под самые разные влияния, бродившие в нем еще со времен его первой поездки в Париж. Он полностью порвал со своим ранним экским академизмом и тщательной мелочной пропиской. Он знал уже кое-что об идеях Писсарро, но как будто не очень был ими увлечен. По-прежнему Поль находился в душевном и эстетическом смятении, что было по-своему ценно, так как заставляло порождать его все новое, но оно же не давало ему утвердиться на одном каком-либо пути роста. В течение нескольких лет Сезанн колебался довольно широко между различными методами или стилями, каждый раз он пытался возобладать над трудностями путем яростной атаки на холст. Его место в сознании окружающих в то время неплохо видно из слов Мариона в письме к Золя: «Поль стал возбудителем эпидемии в Эксе. Сейчас все художники, даже расписывающие стекло, стараются писать пастозно». Гийме писал, что они с Полем часто ходят на плотину и собираются вернуться в Париж в декабре. Поль добавил короткую записку, что он не кончил свою большую картину с Вала[брегом] и Марионом и что «Семейный вечер» не удался. Но в то же время, пользуясь новыми достижениями, он писал теперь много и довольно успешно. Он усадил Валабрега позировать для этюда головы – «Лицо красного, как огонь, цвета с процарапанными полосами белого; это живопись каменщика». Но «к счастью, я позировал всего лишь один день». Напротив, послушливый дядюшка Доминик позировал день за днем, причем каждый раз рождался новый образ. Эти портреты преисполнены страстью и умением, краски часто наложены мастихином. Метод писания отдельных зон, которые в пределах черных контуров образуют невнятицу, применен здесь в раскованной композиции, с эффектным размещением масс и пространства. Наиболее выразительным примером является портрет Доминика в образе доминиканского монаха в белой рясе и со скрещенными руками. Возможно, это первая картина, в которой Поль сумел выразить свой внутренний конфликт подходящими художественными средствами. Формы складываются на полотне в строгие выверенные структуры; в них есть внутреннее напряжение между разными частями фигуры (голова и руки) и белой рясой. Это напряжение еще усилено цветовым контрастом между теплой земной плотью и белизной религиозного облачения. Черные волосы, обрамляющие лицо, дают колористическое основание для проведения густых черных контуров, разделяющих разные участки композиции. Синяя лента, на которой висит распятие, резко выделяется на фоне белого одеяния и вместе с тем объединяет все три фрагмента открытого тела. Полю удалось выразить тот конфликт между своей сильной чувственностью и тревожными страхами, которые лишали его возможности легко удовлетворять страсти и вместе с тем вовлекали его в чистое служение (искусству). Свои собственные проблемы Поль проецировал на позировавшего ему. Имя «Доминик», осмысленное как «доминиканец», послужило основой для каламбура, которые нравились Полю и возбуждали его воображение, как поэтическое, так и пластическое. Несомненно, он знал, что орден доминиканцев был возрожден проповедником Лакордером с целью внедрить республиканские идеи в церковь. (Лакордер был противником бонапартистского переворота; он также основал общество за возрождение религиозного искусства, он и его орден были хорошо известны поэтам и художникам. Похоже, что Поль придал этому образу многогранный смысл. Доминиканец, смиренно обращающийся внутрь себя, является в то же время борцом в сферах политики и искусства.)
Гонкуры в «Манетте Саломон» (1867) хорошо выразили то, что Делакруа называл послеромантическим расколом: «(Энгр) явился всего лишь основателем цветной фотографии XIX века для размножения Перуджино и Рафаэлей. Делакруа был на другом полюсе, другой человек. Образ упадка этого времени – смешение и неразбериха: литература в живописи, живопись в литературе, проза в поэзии, стихотворения в прозе, страсти и нервы нашего времени, современные муки. Упадок возвышенного во всем. (…) Его картины – шедевры в зародыше… По части движения – дикая жизнь, возбуждение и круговерть, но безумный рисунок, яростное движение, напряжение мускулов… моделировка треугольников и ромбов, которые не являются контурами тела, но обозначают экспрессию, рельеф его формы. Относительно колорита – несогласованная гармония, единства нет, тяжелые безжалостные краски, жестокие для глаза, который погружается в трагические тональности, искушающие глубины распятия, ужасы ада, как в его «Данте».
К этому надо добавить недостаток солнечного света, непрозрачность. Большая часть этого описания приложима к тому, что делал Сезанн. Он единственный из своего поколения продолжал и довел до крайности те тенденции, которые художники большой чувственности находили в Делакруа.
Десятого декабря Золя писал Валабрегу: «Скажите Полю, чтобы он возвращался поскорее. Он внесет немного бодрости в мою жизнь. Я жду его как спасителя. Если он не собирается приехать на днях, попросите его написать мне. Самое главное, пусть он привезет все свои этюды, чтобы доказать мне, что я тоже должен работать». Он много думал о романе, но был далек от того, чтобы решить, чем следует продолжить «Исповедь». В течение года в своих обзорах он восхвалял такие работы, где повествовалось о том, что он считал настоящей жизнью, – не о «куклах, набитых опилками, а о существах из плоти и костей, которые по-настоящему плачут и в ком течет настоящая кровь». Он готовил себя к тщательному изучению исторического развития романной формы. В конце 1866 года его пригласили участвовать в научном конгрессе, проходившем в Эксе. Не имея возможности присутствовать лично, Золя послал свой материал по почте – очерк романа, начиная от древних греков и до XIX века, кончая Бальзаком, которого он изучал и чье влияние явственно присутствует в «Ругон-Маккарах».
Глава 5Сомнения и уверение
(1867–1879)

Из свидетельств о манерах и привычках Поля в первые годы становления его как художника следует, что он был мятежником и законченным представителем богемы. XIX столетие увидело приход нового типа художника – респектабельного и богатого делового человека, поломавшего статус простого ремесленника, который ранее преследовал его даже на вершине успеха. Давид, с его карьерой политика, организатора и градостроителя, положил начало слому старых представлений. В XIX веке повелось, что академический художник, который мог продавать свои картины за большие цены, был столь же уважаем, как и всякий другой деловой человек, делающий деньги. Но такая роль вряд ли могла удовлетворить тех, кто продолжал славить гений, как то было свойственно романтическому движению, или тех, кто, подобно Курбе, стремился связать искусство с борьбой за перестройку общества. Под чопорным и самодовольным академическим миром, делающим деньги, нарастал богемный бунт, в котором часто были перемешаны романтические идеи и социальный протест. Насколько высок был при Империи статус академии, показывает история про то, как Моне писал вокзал Сен-Лазар. Находившийся тогда в безнадежно нищем положении Моне оделся в лучший костюм и смело направился к суперинтенданту железных дорог и представился ему как «художник Клод Моне». Чиновник, который не мог представить, что перед ним отнюдь не прославленный маэстро, выставляющийся в Салоне, пообещал Моне сделать все, что тот просит. Все поезда были остановлены, платформы очищены, в паровозы было заправлено предельно много угля, чтобы обеспечить требовавшиеся художнику клубы дыма.
Многие инакомыслящие, подобно Мане или Дега, отказывались поддерживать статус художника – корректного господина и сознательно играли роли модных фланеров. Художники в мастерских на картинах Фантен-Латура и Базиля все обладают весьма модной и живописной наружностью. Мане, несмотря на его диссидентские взгляды, запросто давали солдат в качестве моделей для картины «Казнь императора Максимилиана». Люди, вышедшие из Школы изящных искусств и закончившие обучение в Римской Академии, были уверены, передает Золя, что «государство должно предоставить им все – уроки, чтобы сначала обучать, Салоны, чтобы потом выставлять, медали и деньги, чтобы в результате награждать».
Произведения, подобные «Жизни богемы» Мюрже, устанавливали антиреспектабельные нормы, провозглашали беззаботную жизнь в искусстве, любви и вине среди бедных художников, которые или не сумели достичь успеха, или полностью противопоставили себя господствующим порядкам. Поль, который, вне всякого сомнения, читал вместе с Золя в ранние экские дни Мюрже, был сильно им впечатлен. Теперь он мог узнать более правдоподобное описание жизни художников в мастерских из романа Гонкуров (1867), в коем, впрочем, была своя идеализация мятежников, которые, в частности, были сбиты с пути женщинами (натурщица Манетта). Приведем выдержку из романа, описывающую антибуржуазный подход художников к жизни с их сложно перемешанными мотивами и побуждениями.
«У каждого был свой анекдот, свое словечко, своя повадка; каждое новое высказывание встречалось криками «ура», смехом, ворчанием, насмешками, порождало шутки, которые все имели целью сожрать буржуазию. Можно было подумать, что сейчас слышится вся художническая ненависть, все презрение, вся затаенная злоба, все возмущение крови людей искусства, все их глубоко укорененное неприятие, которое вышло наконец наружу в ужасных воплях против этого комического чудовища – буржуазии, попавшей в яму к художникам, которые сокрушали сейчас ее нелепых представителей. И все вновь и вновь возвращались к рефрену: «Нет, они чрезвычайно глупы, эти буржуа».
В основе этого спектра эмоций лежали сильные социальные антагонизмы. Барбизонская школа возникла после революции 1848 года и была антиаристократической в своей основе. «На меня никогда не давило искусство парижских рисовальных Салонов, – говорил Милле, – крестьянином я родился, крестьянином и умру». Луи Блан и фурьеристы занимали позицию, защищавшую искусство действительности в противоположность такому, которое идеализировало ценности правящего класса. После того как Шарль Блан стал директором департамента изящных искусств, государственные заказы и предпочтения стали отдаваться Милле, Руссо, Добиньи, Дюпре. Никто не мог забыть, что социалист Прудон, защитник Курбе, начертал такую программу для реалистов: «Живописать человека со всей подлинностью его натуры и привычек, за его работой, в окружении его общественных и домашних обязанностей, с его действительной значительностью, но самое главное без идеализации. Удивлять людей, заинтересовывать их, обращаясь прямо к их неподготовленному сознанию с целью образования. Вот в чем я вижу истинную отправную точку современного искусства».
Защитники академического искусства от реализма прекрасно понимали, что они защищают прежде всего искусство для привилегированных классов. Граф Ньюверкерке, сюринтендант изящных искусств, который возглавлял официальный патронаж Империи, говорил о барбизонцах и близких им художниках: «Это живопись демократов, тех, кто не меняет свое белье, но хочет поставить себя выше людей света. Это искусство не нравится мне и беспокоит меня». Результатом такого подхода были мятежные характеры вроде Поля, которые и вправду почитали доблестью не менять белье…
Хотя личные взгляды импрессионистов весьма сильно различались между собой, колеблясь от сильно окрашенных социализмом воззрений Писсарро до элитарно настроенного Дега, все движение в целом имело под собой ясную общественную основу – частично она заключалась в протесте против аристократических ценностей Империи и псевдоэлегантности высшей буржуазии и частью – в утверждении демократических вкусов. Демократический элемент в свою очередь имел много оттенков и разновидностей, а также противоречий, расходясь веером от превозношения рабочих и крестьян до провозглашения незамысловатых удовольствий плебейских форм досуга. Об этом хорошо сказал Вентури: «Тот факт, что их интересы были в согласии с большинством, иллюстрирует то обстоятельство, что моральный и социальный контекст их искусства был новым. Красавицы Ренуара были не бульварными нимфами, а девушками из предместий; крестьянки у Писсарро выглядели еще более деревенскими, чем у Милле, – налицо связи между ними и персонажами «Отверженных»; паровозы Моне выбрасывали струи революционной энергии; Сезанн периода его десяти импрессионистических лет, как и Золя, был по духу своему анархист. Их живопись означала конец привилегированным, разрыв с элегантностью и роскошью, появление нового чувства собственного достоинства, присущего людям из народа. Ривьер мог сказать: «Разработка сюжета ради тонов, а не ради самого сюжета – вот отличительная черта импрессионистов, вот что выделяет их среди остальных художников». Но тона и оттенки были не чем иным, как их способом морального и социального подхода к жизни; это было катарсисом, моментом откровения нового, нарождающегося мира».
Весна 1867 года, несомненно, вдохновляла диссидентские настроения. Огромная международная выставка была открыта в Париже, чтобы поразить мир, поднять престиж Империи и перекрыть растущие общественные противоречия. Париж стал более чем всегда центром индустрии удовольствий; княгиня Меттерних назвала готовящееся событие «большим тра-ля-ля». Военные оркестры играли в саду Тюильри, в огромном количестве устраивались балы и всевозможные приемы; в общественных парках танцевали толпы народа. Все болтали о начале международного сотрудничества, в котором железные дороги и телеграфы должны были явиться спасителями человечества. О Марсовом поле, где собралось множество деловых людей из разных стран, беспрестанно говорили, что его должно переименовать в Мирное поле; никто не обращал внимания на мощные пушки Круппа, размещенные там же между плюшевыми шторами и ландышами. На бульварах продавали фотографии Александра Дюма-отца, прижимающего Аду Менкен к своему огромному животу. Три императора – русский, прусский и французский – принимали вместе 6 июня парад. Но когда Наполеон возвращался домой с царем в экипаже, в последнего из толпы стреляли. Спас Александра быстрый возница. А в день большого праздника на выставке пришла телеграмма из Мексики: «Император Максимилиан осужден и расстрелян».
Поль вернулся в Париж вместе с Гийме в начале 1867 года. Перед тем как уехать из Экса, он послал одну картину в Марсель, торговцу картинами, который устраивал выставки-продажи. Валабрег, который остался в Эксе, писал Золя: «Было много шума, на улице толпился народ, люди были ошарашены. Спрашивали имя художника, так что с этой стороны, можно сказать, был некоторый успех, по крайней мере любопытство было возбуждено. Вообще же, я думаю, если бы картина оставалась на витрине дольше, то стекло было бы разбито и картина порвана…»
Золя мечтал о группе, работающей и борющейся вместе. 10 февраля он писал Валабрегу: «Я не собираюсь скрывать, что хотел бы видеть Вас среди нас сражающимся, подобно нам, воюющим направо и налево, шагающим впереди». Через девять дней он писал: «Поль много работает, он уже написал несколько картин, мечтает об огромных полотнах, жму Вашу руку от его имени». Он добавляет: «Я здесь окружен одними художниками, нет никого из писателей, с кем бы можно было бы поболтать». 4 апреля Золя писал: «Полю отказано, Гийме отказано, всем отказано. Жюри, раздраженное «Моим Салоном», выставило за дверь всех, кто идет по новому пути». Из письма от 29 мая мы узнаем: «Сезанн возвращается со своей матерью через десять дней. Он говорит, что проведет месяца три в глуши и вернется в сентябре. Он чрезвычайно нуждается в работе и поддержке». То, что его мать присутствовала в Париже в то время, когда он посылал картины в Салон и получил отказ, должно быть, особенно обескуражило его.
Критики «Эуроп» и в «Фигаро» осмеивали Сезанна. Золя, не написав в этом году «Салон», обратился с письменным ответом в «Фигаро» 12 апреля: «Уважаемый коллега, будьте так любезны поместить несколько строк опровержения. Дело идет об одном из моих друзей детства, о молодом художнике, сильный и своеобразный талант которого я очень ценю.
Вы перепечатали из «Эуроп» небольшой текст, где говорится о некоем мсье Сезаме, который якобы выставил в «Салоне отверженных» 1863 года «две скрещенные свиные ножки», а что в этом году у него не приняли в Салон картину, названную «Пунш с ромом».
Должен сказать, что я не сразу узнал под личиной, которую ему надели, своего старого товарища по коллежу мсье Поля Сезанна, у которого, однако, среди его произведений никогда не было картины, изображающей свиные ножки, по крайней мере до сих пор. Я делаю эту оговорку, потому что не знаю, почему бы не писать свиных ножек, ведь пишут же тыкву и морковь. В этом году жюри действительно отклонило наряду с работами многих других прекрасных художников две картины мсье Поля Сезанна: «Пунш с ромом» и «Опьянение».
Мсье Арнольд Мортье решил поострить по поводу сюжета этих картин, и он напряг все силы своего воображения, чтобы их описать. Эти усилия делают ему честь. Я знаю, что это только милые шуточки, которые не надо было принимать всерьез. Но что Вы хотите? Я никогда не мог понять этот метод критики, заключающийся в насмешках и издевательствах над тем, чего не видел. Во всяком случае, должен сказать, что описания Арнольда Мортье не точны.
Даже если так, мой дорогой коллега, добавьте свое мнение: Вы «убеждены, что художник мог добавить философскую идею в свои картины». Это неверное убеждение. Если Вы хотите найти философствующих художников, поищите их среди немцев или даже среди приятных французских мечтателей. Но аналитические художники, молодая школа, чей курс я имею честь защищать, удовлетворяются самой великой реальностью природы».
Он добавляет далее, что многие художники обращались с просьбами устроить новый «Салон отверженных», так что Мортье сможет вскоре увидеть те работы, которые он столь решительно поносил.
Философская живопись объединяется у Золя с идеализацией, как у Шеффера, ныне еще более отвергаемым, поскольку в свое время Поль и Золя восхищались им. Но в глубинном смысле «войти в великую реальность природы» и означает быть философским, и в этом отношении Поль всегда пытался с разной степенью успеха быть философским художником. В то же время Золя, провозглашая натурализм, пытался найти новую философию романа. «Искусство» было отвергнуто, как в живописи, так и в литературе, во имя «Натуры», и в рамках ее могло быть достигнуто новое жизненное искусство.
Золя со своими расходами, удвоенными его женитьбой, вынужден был переехать в Батиньоль. Дишь полторы тысячи экземпляров «Исповеди» было распродано. Он был вынужден вернуться к журналистской работе. Работая над романом «Брак по любви» (позднее названным «Тереза Ракен»), он написал серию дешевых, по два су за строчку, очерков для «Мессаж де Прованс». Эта работа наскучила ему, но с помощью Ру он подготовил ее для сцены. Валабрегу, который укорял его за такую халтуру, он отвечал, что нуждается в деньгах и известности; «серия ничего не значит для меня, но я знаю, что делаю». Валабрет поблагодарил его за защиту Поля. «Поль – ребенок, не знающий жизни. Вы его руководитель и защитник. Вы его охраняете. Вы рядом с ним, и он уверен, что Вы его всегда защитите. Между вами заключен оборонительный союз, а когда нужно, Вы сумеете перейти в нападение. Вы его мыслящая душа. Его судьба писать картины, Ваша – устраивать его жизнь». К этому времени Поль уже покинул Париж, а Валабрег вскоре приехал, получив работу у Арсена Уссей в «Артист».
В августе Золя не имел известий от Поля целый месяц. М. Ру был в Марселе, договариваясь с местным театром Жимнас о постановке их пьесы, и Золя попросил его повидать Поля. Ру отправился, но общением с Полем был поставлен в тупик: «Я обещал написать сразу по приезде в Экс. Но это оказалось бы слишком поспешным, так как я не сразу смог ответить на Ваши вопросы. Даже и теперь не очень рано. Поль для меня – настоящий сфинкс. В первые же дни моего пребывания здесь я отправился проведать его. Я застал его дома, и мы поговорили довольно долго. Несколько дней назад мы вместе отправились за город и провели там вместе ночь, у нас было довольно времени поболтать. Но, однако, все, что я могу сказать, так это то, что он здоров. Не то чтобы я забыл наши разговоры. Я перескажу Вам их дословно, а Вы переведете их. Что касается меня, то я не в состоянии. Вы понимаете, что я имею в виду. Я не так уж хорошо знаю Поля, чтобы проникать в точный смысл его слов. Все же (я отваживаюсь гадать) он сохраняет святую увлеченность живописью. Он еще не сломлен; но я полагаю, что, не питая такого энтузиазма к жизни в Эксе, как к живописи, он тем не менее предпочитает Экс Парижу. Он подавляет в себе это существование, подобное Гомару (? —Дж. Л.), и питает почтение к папашиной вермишели. Верит ли он, что он был бит Гомаром, а не Ньюверкерке? Вот это я не могу сказать Вам, это Вы решите сами, когда я опишу подробно наши разговоры».








