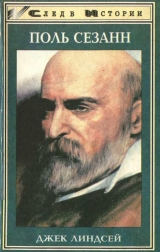
Текст книги "Поль Сезанн"
Автор книги: Джек Линдсей
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Зрелый художник
(1897–1899)

13 января 1897 года Поль написал Гийме о том, что болен гриппом, который помешал им увидеться. 30 числа Поль писал Солари, говоря о потере предыдущего письма и о том, что из-за болезни он не выходит из дома еще с конца прошлого года. «Поль меня перевез с Монмартра. Я еще не выхожу, но чувствую себя уже лучше». Далее в письме говорится о том, что Гаске предложил Полю подарить две картины старому профессору из Экса, Ж. Дюменилю. Сезанн, которого эта просьба «очень тронула», попросил Солари в сопровождении Гаске сходить к Мари и попросить ее пустить их в Жа де Буффан, чтобы взять эти работы. «Помимо некоторой вялости, вполне понятной в моем состоянии, я чувствую себя неплохо; было бы хорошо, если бы я мог устроить дела так, чтобы жить там. Но семья принуждает меня к многим уступкам». В тот же день Поль написал Гаске, прося его сделать все необходимое по всем «формальным штуковинам». «Я буду чрезвычайно счастлив, если профессор философии соблаговолит принять мое подношение… Для меня будет большой честью знать, что две мои работы приняты в столь достойном месте». Далее он благодарит Гаске за посредничество и кончает восклицанием: «Да здравствует Прованс!» Таков был этот человек, который обычно проклинал всех и всяческих ученых и профессоров в искусстве и науке и который обозлился на Жеффруа за настоящую помощь в куда как более важном для самого художника деле. Кстати, какие именно картины Поль подарил Дюменилю, не установлено.
Если мы не ошиблись, усмотрев в «Старушке с четками» отражение периода депрессии, последовавшей за бегством из Парижа, то можно утверждать, что в картине «Итальянка, облокотившаяся на стол», написанной в мастерской на Монмартре приблизительно в это время, Сезанн сумел уже преодолеть эти чувства. Для картины позировала дочь его знакомого итальянца, которого он писал в 1893 году (местонахождение этой картины неизвестно). Она к тому же была близко знакома с неким Микеланджело Ди Роза, с которого Поль написал четыре портрета. (Вообще, в записных книжках Сезанна упоминаются несколько итальянских натурщиков.) В упомянутой картине нет смиренности и отчаяния «Старушки с четками», девушка величаво покоится на ложе, гордо подняв голову. Темный колорит обладает богатством мягких оттенков, которые вполне удачно передают форму.
Этой весной был открыт зал Кайботта в Люксембурге. Открытие состоялось, несмотря на многочисленные вопли протеста, ламентации Жерома и иже с ним и возмущенные выступления в Сенате. В течение последующих двенадцати лет брат Кайботта пытался добиться выставления всей коллекции, но безуспешно. Однако Сезанн наконец мог увидеть свою работу в музее. Он приехал в Париж примерно в апреле, затем провел около месяца в Марлотте, а потом в Меннеси в лесу Фонтенбло. Из отеля де ла Бель Этуаль в Меннеси Поль написал письмо Эмилю Солари, из которого известно, что он собирался вернуться в Париж 29 мая и затем уехать в Экс.
Вернувшись на юг, Сезанн снял старый каменный дом в деревне Толоне и работал там все лето, встречаясь только с Гаске и Филиппом Солари. 18 июля Поль написал Гаске письмо, в котором извинялся за отклонение приглашения в гости, где, в частности, говорил: «У меня больше нет сил. Мне надо быть разумнее и знать, что в моем возрасте (58 лет. – Дж. Л.)нельзя поддаваться иллюзиям, они меня погубят».
Второго сентября Сезанн написал Эмилю Солари, где, в частности, восклицал: «Право, очень трогательно, что среди Ваших парижских занятий и хлопот Вы помните о слишком коротких часах, которые Вы провели в Провансе. Конечно, тут сыграл роль главный волшебник, я говорю про солнце. Хорошему впечатлению от наших краев способствовали еще и Ваша молодость, и Ваши надежды». В конце Поль добавил: «Прошлое воскресенье Ваш отец провел со мной весь день, и я его пичкал теориями о живописи. Как он, несчастный, только выдержал, значит, он очень стойкий». Через неделю Поль написал Э. Солари новое письмо, где сообщал о получении журнала со статьей молодого литератора, а также упоминал о том, что Филипп (Солари-старший) «придет ко мне в воскресенье есть утку, начиненную маслинами. Как жаль, что Вас не будет с нами».
Двадцать шестого сентября Сезанн снова отказался принять очередное приглашение Гаске. «Я ужинаю у своей матушки, а состояние усталости, в котором я обычно оказываюсь к концу дня, не позволяет мне в надлежащем виде представать перед людьми. Вы должны меня за это извинить. Искусство составляет гармоническую параллель с природой, и почему эти слабоумные, которые поучают нас, воображают, что художник непременно должен быть в подчиненном положении к природе!» Семейство Гаске обитало тогда на улице Ар-э-Метье; возможно, уже тогда Поль чувствовал себя не на месте в их показушном мире. Он был по-прежнему непопулярен в Эксе. Его успехи, казалось, лишь дополнительно раздражали толпу, но отнюдь не усмиряли ее застарелую злость, Говорят, что как-то на улице он услышал: «Таких художников надо ставить к стенке и расстреливать».
В октябре, 25 числа, в своем доме в Жа де Буффан умерла в возрасте 82 лет мать Сезанна. Перед концом она сильно ослабела и сделалась крайне раздражительной, но Поль всегда переносил ее с полнейшим терпением и мягкостью. Гаске писал: «Он вывозил ее на прогулки, выводил в Жа посидеть на солнышке. Он выносил мать, высохшую и легкую, как ребенок, из кареты и нес в кресло на руках. Чтобы развлечь и позабавить матушку, Сезанн рассказывал бесчисленные истории». Смерть матери была сильнейшим ударом для Сезанна, в частности, потому, что столкнула его с проблемой вступления во владение имуществом. Нужно было что-то делать с Жа де Буффан, к которому он был сильно привязан, но который не в состоянии был поддерживать в надлежащем виде. К тому же Жа был завещан всем детям, то есть у Поля были права лишь на одну третью его часть, а две другие надо было выкупать у сестер. Поскольку дом был в конце концов продан за ту же сумму, которую в свое время заплатил за него Луи-Огюст, Поль мог бы без особых сложностей купить владение. Однако Жа де Буффан был продан в 1899 году некоему М. Гранелю.
Второго ноября Сезанн написал письмо Эмилю Солари, где поздравлял его с намеченной женитьбой и сообщал о смерти своей матери. В конце он писал о том, что имел удовольствие видеть старого Солари, который обещал прийти в Жа де Буффан в гости. По всей видимости, уже в это время Поль отошел от Гаске и больше полагался на старого друга юности.
А в это время в Париже Золя написал свой первый протест по поводу несправедливой ссылки на Чертов остров капитана Дрейфуса, еврея по происхождению. Моне и Писсарро, которые были немало рассержены последними выступлениями Золя по поводу искусства, тем не менее сразу поспешили встать на его сторону и прислали ему письма с приветствием. Из всех членов импрессионистического движения не поддержали Золя лишь антисемит Дега и упрямый Ренуар, который, видимо, испытывал обиду за статью о живописи 1866 года. Не присоединился к Золя и Поль, подавленный смертью матери, реакционным клерикальным окружением и еще более зависимый от Матери – Церкви и Бога-Отца – Луи-Огюста.
8 января 1899 года скончался Ампрер, дожив до без малого семидесяти лет и не дождавшись ни малейших признаков успеха. До самой смерти он занимался специальными упражнениями, чтобы стать хоть немножко выше. Две-три его работы были вывешены в дешевой харчевне на улице Асгар, и Поль часто ходил туда специально полюбоваться ими.
В мартовско-апрельском номере журнала Гаске «Муа Доре» о Поле снова появилась заметка. Вновь воспевались в многоречивых пышных выражениях сельские добродетели и священная земля Прованса, которые якобы восхвалял Сезанн. В интерпретации Гаске Поль представал этаким провансальским Милле, озабоченным живописанием крестьян, с рассвета бредущих за плугом и сжимающих его своими крепкими руками. Гаске в это время был в Париже, но Сезанн не предпринимал попыток увидеться с ним. Тем не менее публикация Гаске ему понравилась, и они снова стали встречаться. Особенно часто они ходили вместе в Лувр, впоследствии Гаске записал их беседы, по всей видимости, сильно изменив их.
В мае – июне Воллар устроил еще одну выставку Сезанна, сам Поль на нее не пошел. Он терялся перед деловым торговцем, хотя никогда не сопротивлялся ему открыто.
Центром привязанности Сезанна в это время стал его сын Поль. Старший Поль простодушно восхищался здравым рассудком сына. «Мальчик более сообразителен, чем я; у меня самого нет практической сметки». Сезанн понимал, что молодой человек не имеет никакого представления об искусстве, но ценил в нем деловые качества. Сын для него был посредником и защитником от торговцев типа Воллара. Сын к этому времени уже сам осознал, что в работах отца заключены немалые деньги, и активно сотрудничал с Волларом по привлечению покупателей. Поль давал сыну десять процентов комиссионных и надеялся, что с помощью его и Воллара ему наконец удастся зарабатывать в год по шесть тысяч франков. Правда, Поль-младший указывал отцу, что тот заработает больше, если будет больше писать обнаженных натурщиц – «их намного легче продать».
В это время страна была расколота делом Дрейфуса. 13 января 1898 года Золя опубликовал в газете «Орор» открытое письмо президенту республики; Клемансо предложил дать письму название «Я обвиняю». За это Золя был подвергнут судебному разбирательству и осужден. Когда в июле его кассация была отклонена и стал реальным год тюремного заключения, романист сумел выехать в Англию. В результате цены на книги Золя стали сильно падать, но он с горячностью отказывался иметь какую-то выгоду в этой борьбе. Что же касается Поля, то он вырезал из газет антидрейфусарские карикатуры Форена и приговаривал: «Как прекрасно все это нарисовано».
Летом Поль отправился в Монжеро, что неподалеку от Понтуаза. Один молодой художник, Луи Ле Байль, прослышал от Писсарро, что поблизости поселился Сезанн. Он несколько раз приходил к Полю, который наконец почувствовал себя польщенным от неприкрытого поклонения. Они вместе ходили на мотив, и часто Поль, бывая в приподнятом настроении, рассказывал о живописи и отвечал на разные вопросы Ле Байля. Все-де заключается, говорил он, не в теории, а в практике. «Мы идем и переводим наши абсурдные теории в практику». Когда Поля спросили, какие картины ему нравятся более всего, он ответил, что предпочитает свои собственные, если только ему удается реализация задуманного. Но приподнятое настроение Сезанна было легко поколебать. Однажды какая-то девушка остановилась посмотреть на работу художников. Указывая на холст Ле Байля, она заметила, что этот, пожалуй, будет получше. Поль был чрезвычайно раздосадован, возможно, к тому же на него раздражающе подействовала близость девушки, но так или иначе на следующий день он стал избегать молодого художника. Через какое-то время Сезанн потеплел к нему снова и попытался объясниться: «Вы должны простить меня, – сказал он и добавил: – Устами младенцев…»
Вскоре после этого Поль и Ле Вайль работали в поле и увидели приближающихся к ним всадников, которые хотели поговорить с Сезанном. Поль обложил их в свойственных ему выражениях, и те в оторопи ускакали. Ле Байль объяснил вслед за этим, что то были барон Дени Кошен, коллекционер, в чьем собрании уже было несколько «Сезаннов», и его сын. Поль был в полном смятении и позже в письме просил Ле Вайля исправить дело.
Затем неприятное происшествие случилось с самим Ле Вайлем. Поль предложил ему свободно заходить к нему после трех часов, когда он обычно вставал от полуденного, сна. Ле Байль как-то пришел, безрезультатно постучал несколько раз и, не услышав ответа, вошел в комнату. Поль пришел в ярость и так как он был чересчур смущен, чтобы разговаривать с молодым человеком, то, выгнав его, послал вдогонку письмо: «Милостивый государь, мне не нравится бесцеремонность, с которой Вы позволяете себе являться ко мне. В будущем попрошу Вас докладывать о себе. Будьте любезны вручить холст и стекло, оставшиеся в Вашей мастерской, человеку, который явится за ними». Можно предположить, что причиной такой резкой вспышки послужило то, что Ле Байль, стараясь разбудить Сезанна, дотронулся до него.
Несмотря на соседство, Поль не встречался с Писсарро. Это был единственный период их отношений, когда из-за позиции Поля в деле Дрейфуса Писсарро почувствовал между ними холодок.
Зиму и весну 1899 года Сезанн провел в Париже. 16 марта он написал письмо маленькой Марте Кониль, племяннице, которая пригласила его на первое причастие в Марсель. Поль отвечал, что он привязан к Парижу довольно длительной работой (видимо, над портретом Воллара. – Дж. Л.), но надеется поехать на юг в следующем месяце. «Помни меня, когда будешь молиться, в старости находишь утешение и опору только в религии».
Воллар попросил Поля написать его портрет. Первый же сеанс закончился некоторым происшествием. В своей мастерской на улице Эжезип-Моро Сезанн соорудил помост – ящик, установленный на четырех шатких подпорках, а на нем стул. «Вам нисколько не грозит опасность упасть, мсье Воллар, – сказал Поль, – если, конечно, вы будете сохранять равновесие. Впрочем, когда позируют, то незачем двигаться». Вследствие полной неподвижности, которой требовал Сезанн, Воллар задремал, склонил голову, потерял равновесие и свалился с возвышения на пол. Поль был в ярости: «Несчастный! Вы испортили позу! Я же вам говорил, что вы должны быть, как яблоко. Ведь яблоко не двигается!» С этого дня перед позированием Воллар выпивал чашку черного кофе. Если и после этого он начинал клевать носом, то Сезанн бросал на него такой взгляд, что Воллар снова тотчас же застывал в нужной позе. Сеанс продолжался с восьми и до половины двенадцатого утра. После полудня Поль копировал старых мастеров в Лувре или Трокадеро. Он рано ложился, но ночью часто вставал, чтобы посмотреть на небо и определить, каким будет на следующее утро освещение. Воллар писал, что Сезанн работал очень гибкими кистями, типа хорьковых или куньих, и после каждого мазка окунал их в фарбтигель со скипидаром. Сколько бы кистей у него ни было, он пачкал их все во время сеанса и сильно измазывался сам. От всякого рода помех – перемены позы моделью, болтовни, внезапного изменения света или погоды, при шуме грузового подъемника, который он называл «молотобойной фабрикой», или собачьем лае с улицы – Сезанн мигом терял настроение и бросал работу. Однажды, описывает Воллар, он в гневе разрезал подвернувшуюся под руку картину на куски. Причиной гнева послужило то, что служанка вынесла из мастерской старый пыльный ковер с целью его выколотить, Сезанн объяснил, что отсутствие в поле зрения пятна, которое образовывал ковер, столь для него нетерпимо, что он не может продолжать работу. «Когда я работаю, мне необходим покой». Когда портрет был в основном готов, Сезанн заявил, что ему нравится, как написан перед рубашки, но после ста пятнадцати сеансов он уехал в Экс, попросив Воллара не уносить из мастерской одежду, в которой тот позировал. Вскоре эту одежду сожрали крысы.
Особенно Поль не любил собак. Воллар пишет: «Как-то утром, увидев меня, Сезанн радостно воскликнул: «Этот Лепин (префект полиции. – Дж. Л.)просто молодец! Он приказал выловить всех собак! Так написано в «Ла Круа». На этом мы выиграли несколько хороших сеансов». Но однажды, когда Сезанн в очередной раз произнес: «Этот Лепин действительно молодец!» – мы услышали собачий лай. От разочарования Сезанн выронил палитру и воскликнул: «Наверно, вырвалась чертовка!» Тявкающие собаки олицетворяли для Сезанна несправедливо придирающихся критиков – именно так он объяснял значение лающей собаки в картине «Апофеоз Делакруа».
Цены на картины Сезанна наконец поднялись. В апреле по предложению Моне состоялась распродажа в пользу детей Сислея, который умер в крайней бедности 29 января 1899 года. За картину Сезанна заплатили 2300 франков. В мае продавалась коллекция Дориа, и композиция «Снег в лесу Фонтенбло» была куплена за 6750 франков. Часть присутствующей на аукционе публики закричала, что это подстроено. Из рядов поднялся представительный бородатый человек и заявил: «Картину купил я, мое имя Клод Моне». В июне Моне устроил подписку на покупку картины Э. Мане «Олимпия» для передачи ее Лувру. Хотя Поль был в свое время под большим влиянием этой картины, в списке жертвователей его имя отсутствует. Старые друзья по-прежнему ценили работы Сезанна, что показывает хотя бы заявление Моне на аукционе Дориа, но одновременно на него смотрели уже как на человека, враждебного их группе и ее взглядам.
В том же году распродавалась коллекция Шоке. За семь полотен Сезанна владельцы выручили 17700 франков. Поль хотел получить с распродажи картину Делакруа «Цветы», Воллар купил ее для него в обмен на что-нибудь его собственное. Об этой большой акварели в завещании Делакруа говорилось, что цветы в ней как бы случайно помещены на фоне серой стены. Воллар прочел это место Сезанну, придя позировать, на что художник неожиданно завопил: «Несчастный! Вы смеете утверждать, что Делакруа мог писать случайно!» Воллар разъяснил ему недоразумение, и, как бы оправдываясь, Сезанн сказал: «Я ведь так люблю Делакруа!»
В конце года Поль согласился послать три работы в «Салон независимых». Воллар между тем закупал всех Сезаннов, каких только могли найти. В письме Гогену на Таити этот энергичный маршан писал: «Я купил всю мастерскую Сезанна (в Фонтенбло) и сделал на этом уже три или четыре выставки. Постепенно народ начинает стекаться».
Седьмого мая в газете «Мемориаль д’Экс» Гаске опубликовал статью, в которой резко возражал на утверждение Ф. Сарси о том, что Экс превратился в «мертвый город». Гаске утверждал, что никакой другой город не внес такого вклада в «развитие любви к знаниям, в культ науки, страсть к литературе, вкус к созерцанию». В качестве примеров выдающихся людей из Экса Гаске упоминал имена Пейрака, Дю Вера, Малерба, Вовенарга, Мирбо, Минье, Тьера, де Лапрада, Мистраля, но Золя и Сезанна он игнорировал. Хотя как раз таки, чтобы достойно возразить Сарси, он должен был назвать имена живых, а не людей прошлого. Золя Гаске игнорировал потому, что был полностью против всей системы взглядов романиста, в особенности ему не понравилась деятельность Золя в защиту Дрейфуса. В случае с Полем у Гаске вроде бы не было сильных политических причин для умолчания, к тому же он довольно похвально отзывался о художнике в «Муа Доре». Но следует учесть то, что человек этот был оппортунистом. Гаске был готов рассуждать о Сезанне в литературном журнальчике для узкого круга интеллектуалов, но он не собирался компрометировать себя в глазах широкой публики, выступая в защиту Сезанна.
Поль читал статью Гаске. 3 июня 1899 года он написал из Парижа письмо Анри Гаске о «великолепной статье» и чувствах, «которые твой сын возбудил во мне, твоем товарище по пансиону Сен-Жозеф». «В нас ведь не угасли, – писал далее Сезанн, – воспоминания юности, отзвуки впечатлений, вызванных щедрым солнцем Прованса, этим горизонтом, этими пейзажами, этими необыкновенными очертаниями, оставившими в нас глубокие следы…» Интересно отметить, что письмо, навеянное статьей, Поль адресовал не Жоашиму, а старому Анри, и акцент он делал не на саму статью, а на воспоминания юности. От Сезанна с его мнительностью не ускользнуло, что его имя отсутствовало в статье, хотя в ее контексте оно было бы в высшей степени уместным, если только Гаске в самом деле был искренен в своих похвалах. Как раз с этого времени заметно отчетливое сопротивление Поля несколько покровительственному тону, который проглядывал за поклонением Гаске.
Осенью Сезанн приехал в Экс. Нужно было перебираться из Жа де Буффан, с которым столь тесно была слита вся предшествующая жизнь. Перевозя вещи, Поль сжег большую часть этюдов и набросков. Множество из того, что он хранил в качестве реликвий, также пошло в костер, впрочем, похоже, что это Мари выступала здесь главным разрушителем прошлого и действовала, часто не советуясь с братом. «Они бы не ухитрились продать все это. Это были бедные и запыленные старые вещи, вот они и жгли. Кресло, в котором любил дремать папа; стол, за которым он сводил счета в бытность молодым человеком, – они сожгли все, что напоминало мне о нем».
Поль попытался купить Шато Ну ар (дом в Толоне), но ему это не удалось. Поэтому в итоге Сезанн вернулся в дом на улице Бульгон, 23, в красивый дом на той улице, где некогда Луи-Огюст держал банк. Жил Сезанн на втором этаже, мастерская помещалась на чердаке, ее окна выходили на север. Мари подыскала ему экономку, мадам Бремон, женщину лет сорока, «довольно полную и добродушную на вид» (Бернар). Она была хорошей поварихой, следила за диетой Поля, счищала с его одежды краску, убирала и жгла отброшенные холсты. Впрочем, вряд ли вопреки словам Ларгье, очаг в столовой топился исключительно подрамниками и полотнами. Мари жила в благочестивом аристократическом квартале Экса около церкви Св. Иоанна Мальтийского.
Полю было уже шестьдесят лет, выглядел он почти дряхлым. Гаске писал, что Сезанн хотел бы жить подобно монаху, «как, например, Фра Анжелико, так, чтобы его жизнь была бы размеренной и установленной раз и навсегда и свободный от всяческих забот и тревог, он мог бы писать с восхода до заката, предаваясь размышлениям у себя на чердаке и не боясь, что кто-то или что-то ворвется в его созерцательность и отвлечет от усилий». Уместно заметить, что Гаске забыл упомянуть здесь, что способности подчиняться у Сезанна явно не хватало, поэтому любой порядок, идущий свыше, а в особенности монашеский, взбесил бы художника.
Поль вставал рано и шел к ранней мессе. «Месса и душ – вот то, что поддерживает меня», – говорил он. Затем он обычно шел в мастерскую, рисовал в течение часа с гипсов, а потом переходил к мольберту, одновременно прекращая читать своих любимцев – Апулея, Вергилия, Стендаля или Бодлера. После завтрака Сезанн часто отправлялся писать в окрестности Шато Ну ар, вызывая кучера, который приезжал в «старинной закрытой карете, обитой внутри вытертым красным бархатом и запряженной двумя белыми старыми и смирными лошадьми» (Ларгье). На крутых местах Поль сходил на дорогу и шел рядом, часто подолгу забывая сесть обратно. «Мир меня не понимает, а я не понимаю его, вот почему я его избегаю». Иногда он прерывал себя: «Посмотрите на тот голубой, на голубизну под соснами». Однажды Сезанн подарил вознице свой холст. Тот был весьма польщен, благодарил, но, как пишет Гаске, забыл картину взять.
Иногда, перед тем как вернуться домой, Сезанн заходил к Гаске. Его разочарование постепенно росло. Мы уже упоминали, что Жоашиму недоставало деликатности в обращении с Полем, который начинал чувствовать, что «его используют».
Воллар писал, что в то время, как Сезанн работал над его портретом, в мастерской стояло огромное полотно с «Купальщицами». Огромное желание писать обнаженную женскую натуру не угасло у Поля с годами. Но если бы у него даже хватило сейчас сил обращаться с огромным холстом, то найти натурщиц, которые смогли бы вынести его метод, он был не в силах. К тому же Сезанн продолжал страдать от своей фобии прикосновений. Более или менее в безопасности он ощущал себя лишь в обществе старых женщин. Однажды в 1899 году он заявил Воллару, что собирается написать обнаженную модель. «Как, – изумился Воллар, – голую женщину!» Сезанн заверил его, что возьмет только самую старую каргу. В итоге он ее действительно нашел, написал с нее этюд, а позже выполнил два портрета в одежде. Она, по его собственному признанию, напоминала ему о «старухах в романах Бальзака». Бернар приводит запись монолога Сезанна: «Вы знаете, я делал множество этюдов с купальщицами и купальщиками, которые я собирался впоследствии перенести на натуру и выполнить в большом размере. Недостаток моделей заставил меня ограничиться случайными набросками. На моем пути было множество препятствий, например, где найти соответствующее окружение для моей картины – окружение, которое не должно сильно отличаться от видимого мною в воображении, как найти нужное количество натурщиков, как найти таких мужчин и женщин, которые согласились бы подолгу стоять без одежды в заданных мною позах! Кроме того, масса трудностей с перетаскиванием огромного холста, с погодой, с подходящим местом, со всеми принадлежностями и со всем необходимым для столь огромной работы. Поэтому я вынужден был оставить свою затею написать картину в пуссеновском духе, но полностью на природе, а не составлять ее из кусочков – этюдов, набросков, рисунков. Короче, это должна была быть картина живущего ныне Пуссена, написанная на пленэре, с настоящим цветом и светом, а не с каким-нибудь бурым колоритом бледного дневного света без рефлексов неба, как это обычно бывает в композициях, сработанных в мастерских».
К изложенным трудностям следует добавить еще и строгие нравы провинциального города, боясь которых Сезанн не мог отважиться выйти на этюд с обнаженной моделью. Что же касается натурщиц, то их Сезанн со своими мнительными страхами полностью исключил из своей жизни. Бернар приводит историю, которая однажды привела Сезанна в трепет. «У меня довольно долго, – рассказывал Сезанн, – работал садовник. Он имел двух дочерей и вечно толковал о них, когда возился в моем саду. Я делал вид, что с интересом его слушаю, ибо хорошо относился к нему и считал порядочным человеком. Я и понятия не имел, сколько лет его дочерям, и считал их детьми. В один прекрасный день он явился ко мне в сопровождении двух пышнотелых девиц лет восемнадцати – двадцати и представил их со словами: «Мсье Сезанн, вот мои дочери!» Я не знал, как истолковать его намерения, но, поскольку я человек слабый, мне приходится всегда быть настороже. Я стал рыться в кармане, чтобы найти ключ и запереться в мастерской, но по необъяснимой случайности я забыл ключ в Эксе. Я не хотел подвергать себя риску оказаться потом в недостойном положении и велел садовнику: «Принесите топор из дровяного сарая». Он принес топор. «А теперь, пожалуйста, взломайте эту дверь». Он ударил несколько раз топором и вышиб ее. Я вбежал в дом и заперся в мастерской».
Нечто сходное рассказывает Кон иль: как-то в Париже Поль нанял натурщицу, которая пришла и стала профессионально спокойно раздеваться. Но Сезанн с каждой скинутой деталью туалета делался все более скованным. Девушка, раздевшись, уселась перед ним и невинно сказала: «Мсье, вы чем-то встревожены?» Это лишь подлило масла в огонь. Поль попытался взять себя в руки и начать писать, однако он тут же потребовал, чтобы она поскорее одевалась и выставил ее вон с требованием никогда больше не приходить. Как-то Сезанн сказал Гаске, что он уже вышел из того возраста, когда следует обнажать женщин, чтобы написать их. Всех особ женского пола он почитал весьма расчетливыми, только и ждущими случая, чтобы его «заграбастать». Да и какой скандал вызвало бы в Эксе появление в его мастерской натурщицы. Однажды он сказал д’Арбо: «Послушайте, вы встречаетесь с женщинами. Принесите мне несколько фотографий». Так как он не сумел объяснить, что, собственно, он имел в виду, то сконфузил он бедного малого до чрезвычайности.
Впрочем, если Поль чувствовал себя тщательно прикрываемым родственниками, то он мог с удовольствием общаться с молодыми дамами и девушками. Его племянница сообщает: «В году 1902 или 1903-м его племянницы ужасно хотели пойти посмотреть военный парад в день 14 Июля на проспект Мирабо. Однако в девятисотые годы молодым девушкам не принято было посещать военные мероприятия самостоятельно. Поэтому я спросила дядюшку Поля, не согласится ли он служить спутником для четырех юных девиц – нам всем было тогда от тринадцати до восемнадцати, и все были, право слово, прехорошенькие. Сезанн согласился, девушки с гордостью вышагивали рядом с мэтром, по две с каждого его бока. Во время парада он воскликнул: «Что за чудную рамку вы сделали такой старой картине, как я».
Пожалуй, небезынтересно сопоставить отношение Сезанна к женщинам и священству с «Аббатом Жюлем» Октава Мирбо, в то время любимого автора Поля. Аббат был описан как вместилище разнообразных жгучих противоречий – хитрым, нещепетильным, честолюбивым, жестоким человеком со склонностью к самобичеванию. В этом персонаже Поль, наверно, видел много своих собственных черт – по крайней мере в огорчениях и фрустрациях аббата, в его мучительных и горьких переживаниях. Перед смертью Жюль в завещании высмеивает свои буржуазные связи и отказывает все имущество первому монаху, который решит расстричься после его смерти. Когда огромный сундук, который аббат ‘тщательно держал взаперти всю свою жизнь, согласно его завещанию бросают в огонь, он взрывается от жара, и по ветру в клубах дыма и языках пламени разносятся чудовищное количество порнографических гравюр, рисунков и прочих листков. В романе предполагается, что, когда аббат запирался со своим сундуком, он устраивал одинокие оргии с мастурбацией. Мысль о том, что подобного рода интересы обладали определенной привлекательностью для Поля в старости, не лишена смысла.
Ссылка на «Аббата Жюля» напоминает нам, что Сезанн был настроен очень литературно. Его замечания о «литературе», которые он сообщил Бернару в 1904 году, не должны ускользать из нашего внимания. Он, конечно, протестовал всеми доступными способами против неоправданного вторжения теорий или внешних идей в сам процесс живописи. Но вся практика Сезанна и его многолетнее восхищение Делакруа, Рубенсом и венецианцами доказывает, что его аргументы против Бернара не имеют отношения к нему как художнику, который ищет свои темы в той поэтической, литературной или вообще культурной традиции, к которой принадлежит. То обстоятельство, что академическое искусство было плоско иллюстративным, еще не закрывало дорогу настоящему художнику черпать вдохновение в любой сфере культуры или жизни. В периоды по-настоящему большой культуры все формы выражения оказывают друг на друга влияние, художник черпает их из поэтической или мифологической сокровищницы своей эпохи, не думая, что он совершает тем самым нечто не подобающее его собственным формам выразительности. Не должен он также бояться и социального контекста искусства. Посредством связей с другими сферами духа он усиливает и раздвигает границы своего искусства. Между литературой и живописью нет строгой границы. Она возникает лишь в периоды упадка и вырождения культуры. Сезанн со своей любовью к Вагнеру и Бодлеру принадлежал к синтезирующей школе, что само по себе было противоположно его стремлениям оградиться от любых форм внешнего воздействия со стороны общества, давящего своим углубляющимся отчуждением.








