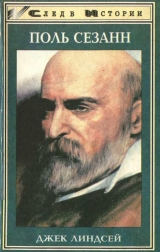
Текст книги "Поль Сезанн"
Автор книги: Джек Линдсей
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
Эта обывательская идея была как раз из таких, что наполняют провинциальных пареньков вожделением и страхом. Она была одним из источников его бесконечных фобий, припадков отчаяния, которые он испытывал, сражаясь перед мольбертом. Он идентифицировал процесс живописания с актом соития и чувствовал, что раздирается между женщиной-искусством и женщиной-любовницей.
В этом отношении Парис, юноша, стоящий перед выбором в любви, противопоставлен Парижу – продажному городу, продажным натурщицам. (Поль питал слабость к каламбурам. Люсьен Писсарро, у которого был школьный учитель Руло, рассказывал, как Поль обращался к нему: «Ну что, Люсьен, пришлось ли вам сегодня повертеться [roule]?») Париж как олицетворение Искушения был довольно распространенным образом, выраженным, например, у Оффенбаха в «Прекрасной Елене». Золя с большой проницательностью выразил это сплетение мыслей и чувств в сознании Поля, когда описывал картину Клода – Сезанна, в которой символически был представлен Париж:
«Лодка занимала всю среднюю часть композиции. В ней находились три женщины: одна, в купальном костюме, гребла, другая, с обнаженным плечом, в полуспущенном лифе, сидела на борту, свесив ноги в воду, третья выпрямилась во весь рост на носу, совсем нагая, и была так ослепительна в своей наготе, что сияла как солнце». Клод пытался завуалировать тему, говоря, что женщины купались и только что вышли из воды, и это давало ему возможность показать обнаженное тело. «Разве не находка, что тебя смущает?» – говорил он своему другу Сандозу. Золя – Сандоз возразил, что такое объяснение вряд ли оправдывает появление обнаженной женщины в самом центре Парижа. Но «Клод упрямился, возражал нелепо и резко, потому что не хотел открыть истинную причину своего упорства: он сам еще не мог объяснить мучившее его подсознательное тяготение к символизму, прилив романтизма, побуждавший его воплотить в нагом теле самую сущность Парижа, обнаженного, полного страстей и блистающего женской красотой города. Он вкладывал в него и собственную страсть: любовь к прекрасным плодоносящим животам, бедрам и грудям, которые он жаждал создавать щедрой рукой, чтобы никогда не иссякал источник его творчества».
И поэтому яблоко, а фактически всякий круглый плод, сделалось для Сезанна носителем очень важного смысла. Конечно, было много других причин, по которым он писал яблоки. Они прекрасно могут лежать долгое время даже при его медленных созерцательных методах яблоки вполне сохранялись, сколько ему было нужно. Также круглые плоды задавали ему задачи по моделированию объема, которые были очень привлекательны для художника, – точно так же, упиваясь выписыванием объема, он любил писать груди. Впрочем, в последнем случае в нем поднимались беспокойные чувства, которых он мог в какой-то мере избегнуть перед яблоками. Но последним аргументом в пользу яблок было то, что этот плод является эмблемой любви, – взять ли тот случай, когда Парис вкладывает яблоко в руку Венеры, или тот, когда Ева дала яблоко Адаму. (Стоит вспомнить и античный, символ богини-матери с яблоком или гранатом.) Таким образом, яблоко символизировало для Сезанна и момент эротического выбора, и непосредственно сам любовный объект, округлые изгибы Венериного тела. Ранее мы упомянули круглый плод на блюде, предлагавшийся женщиной в «Пунше». Существуют также ранние и поздние картины с изображением персика, чья округлая форма с ложбинкой посередине напоминает зад или противоположное ему место.
Лишь только если мы будем иметь в виду символику округлого плода в системе Сезанна, можно будет осознать такую странную работу, как «Пикник», написанную по мотивам «Завтрака на траве» Мане. Картина представляет собой свободное повторение картины Мане без обнаженных фигур. Чрезвычайно вытянутая фигура девушки с плодом напоминает раннюю «Весну», но лысина Поля не позволяет датировать эту вещь ранее 1869 года.
Американский искусствовед М. Шапиро дал интересное описание этой картины: «Обычное содержание пикника тонет здесь в странной призрачной атмосфере. Над скатертью, расстеленной прямо на траве (на ней нет ничего, кроме двух апельсинов, положенных явно для созерцания участников), склонилась высокая гибкая женщина с распущенными золотистыми волосами, сивилла, которая держит третий апельсин в вытянутых руках, будто совершает священный обряд или возносит молитву. Она бросает взгляд на мужчину в сюртуке, расположившегося на земле, он похож на самого молодого, рано облысевшего Сезанна. В отдалении стоит возвышенная прямая фигура с трубкой и со скрещенными на груди руками, словно страж или участник действа. Слева мужчина и женщина, одетые, как Сезанн и сивилла, удаляются под руку под сень темного леса (как на картине Ватто «Полное согласие»).
Три апельсина или красновато-золотых яблока воплощают три эротические возможности: по одной для каждой пары, исключая самого Поля как лишнего. Таинственность участников пикника, чрезвычайно сосредоточенных на трех плодах (единственном, что можно съесть), таким образом, вполне объясняется. Сивилла предлагает любовное яблоко Полю и одновременно отнимает его; она принадлежит курильщику, чья голова изображена вровень с ее головой и кто пристально на нее взирает. Высокая шляпа и зонтик от солнца в углу картины представляют еще одну пару сексуальных символов, сходную роль играет собака, которая смотрит на плод в руках сивиллы. Поль поднял свой указательный палец, словно бы домогаясь этого запретного для него, как он сам знает, плода – плода, который женщина, склонившись, держит на уровне своей груди.
Поль любил помещать себя самого в свои фантазии. Здесь он предстает человеком, оказавшимся лишним в любовных играх, позже он обернется любителем женщин в «Новой Олимпии»; во «Вскрытии» он будет человеком, запустившим обнаженные руки в чрево покойника, это он развалился в «Пасторали». И мы можем заметить, что, как мастер яблок, он также и мастер ситуаций выбора. Он, Парис с яблоком, предлагает приз Парижу как обворожительной и продажной женщине. Позже Поль говорил Жеффруа: «Я ошеломлю Париж своим яблоком».
В этом году обе работы, которые Сезанн посылал в Салон, были отвергнуты. В то время как другие «повстанцы» пытались предложить жюри свои наиболее приемлемые работы, Поль показывал свои наиболее выламывающиеся из рамок общепринятого. Марион писал Морштатту в марте: «Я только что получил письмо от моего парижского друга: Сезанн рассчитывает, что его не допустят на выставку, и по этому поводу знакомые художники собираются устроить ему овацию». Вскоре Валабрег писал Мариону из Парижа: «Несомненно, что Поля отвергнут. Один филистер из жюри, увидев мой портрет, заявил, что художник орудовал не только ножом, но еще и пистолетом. Разгорелось уже немало споров. Добиньи произнес несколько слов в защиту Поля и моего портрета. Он сказал, что предпочитает смелые холсты той ничтожной мазне, которую принимают в каждый Салон. Но он не смог одержать верх…» Марион переслал это письмо Морштатту. От себя он добавил: «Я успел узнать еще кое-что с тех пор. Отвергнуты все представители реалистической школы: Сезанн, Гийме и другие. Приняли только полотна Курбе, который, как говорят, стал писать гораздо хуже, и «Флейтиста» Мане, который явно выходит в первые ряды художников. (Ошибка, Мане был отвергнут. – Дж. Л.)(…) В действительности мы торжествуем, и этот массовый отказ, это великое изгнание – настоящая победа. Теперь мы должны устроить выставку своими силами и тем вызвать всех этих старых болванов на смертельное для них соревнование. Сейчас идет борьба, молодые сражаются со стариками, юность выступает против старости, полное надежд настоящее —против черного пирата– прошлого.
Потомство – это мы, а ведь говорят, что суд выносят потомки. Мы верим в будущее, а нашим противникам останется только уповать на смерть. Мы полны доверия. Мы хотим только одного – творить. Если мы будем работать – наш будущий успех обеспечен».
Поль, как глашатай непокорной и независимой молодежи, написал письмо протеста сюринтенданту изящных искусств графу Ньюверкерке. Ответа не последовало. Он написал снова, заявляя, что отказывается «принять незаконное решение моих коллег, которых я не уполномочил судить себя. Я пишу Вам, чтобы настоять на своем требовании. Я хочу обратиться к публике и быть выставленным, несмотря ни на что. Мое желание вовсе не является чем-то необыкновенным, и, если Вы спросите всех художников, находящихся в моем положении, они все Вам ответят, что не признают жюри и хотят любым способом участвовать в выставке, открытой для всякого серьезно работающего художника. Поэтому пусть будет восстановлен «Салон отверженных». Даже если я буду выставлен там один, я желаю, чтобы публика по крайней мере знала, что я не хочу больше иметь дела с этими господами из жюри, так же как и они не хотят, видимо, иметь дело со мной». К сожалению, Сезанн заявил, что «не считает нужным приводить те аргументы, что уже были в первом письме». На полях обращения Поля приписан ответ: «То, что он просит, – невозможно. Мы теперь поняли, сколь несовместима с величием искусства была «Выставка отверженных»; повторена она не будет».
Письма Поля графу Ньюверкерке, возможно, сочинил Золя с согласия других художников, чтобы подтолкнуть власти к открытию другого «Салона отверженных». Идея широко обсуждалась художниками. Ренуар отправился подкараулить жюри, когда оно будет выходить из Дворца. Он видел Коро и Добиньи, но, побоявшись представиться, назвался другом Ренуара. Добиньи помнил это имя. «Мы всем надоели, – сказал он, – защищая картину вашего друга, но ее все же отвергли. Мы сделали все, что могли, чтобы не допустить этого, но что ж поделаешь! Мы были вшестером против всех остальных. Скажите вашему другу, чтобы он не расстраивался, в его работе есть немалые достоинства. Ему стоит обратиться с прошением и добиваться «Выставки отверженных». Добиньи был также, насколько можно судить, единственным защитником портрета Валабрега Поля. Единственно, в чем ему удалось преуспеть, он отстоял пейзаж Писсарро. Граф Ньюверкерке смотрел на отвергнутых художников, как на умножившихся Милле, чьи работы «вызывают омерзение», – все они были демократы.
А вот Солари был принят. Так как он давно уже истратил все полученные в качестве премии деньги, Поль делил с ним свою наличность. Скульптор работал над бюстом Золя, большим, больше натуральной величины; Золя и Сезанн помогали его отливать. Солари был худощав, с болезненным цветом лица, довольно некрасивый; его яркие глаза сохранили детскую ясность. Он всегда был полон грандиозных идей, но в повседневной жизни ему приходилось туго. «Чарующе невозмутимый, мягкий и рассеянный, всегда ровный и спокойный, он был настоящим богемным художником, напрочь лишенный соображений о выгоде и застенчивый», – вспоминал очевидец. Золя списал с него Сильвера – героя «Карьеры Ру гонов», сделав там его благородным и наивным революционером; Мьетта, возлюбленная Сильвера, имела прообразом его сестру Луизу. Пажо встретил русского графа, асоторый сказал ему, что хотел бы иметь скульптуру для своего сада, сделанную по мотивам энгровского «Источника»; Пажо рекомендовал ему Солари, но чем кончилось дело, неизвестно.
Шум от находившегося поблизости стрельбища заставил Золя переехать с Монпарнаса в пятикомнатную квартиру с балконом на улице Вожирар, 10, рядом с Одеоном и Люксембургским садом. «Настоящий дворец», – писал он. Мать его жила теперь вместе с ним. По вторникам продолжались званые обеды, «ожидавшиеся нетерпеливо, как любовное свидание» («Творчество»), посещавшиеся старыми и новыми приятелями из Экса; Валабрег с марта жил в гостинице на улице Вавен. Вероятность того, что именно Золя написал от имени Поля письмо об устройстве нового «Салона отверженных», подтверждается тем, что он договорился с «Эвенман» о серии обозрений Салона и начал свои статьи Обращением к жюри. «Я не сомневаюсь, что вызову недовольство многих, взявшись говорить грубые и устрашающие истины, но я испытываю глубокое удовольствие, облегчив душу от всего скопившегося там недовольства». Второе письмо Поля, датированное 19 апреля, было написано в тот день, когда Золя начал свою атаку на жюри.
Золя собрал много сведений о членах жюри, о том, как они были избраны и каким образом осуществляют свою работу. У него также был материал о событиях 1863 года. Он пошел в атаку на тех, «кто отсекает настоящее искусство и подсовывает толпе обрубленный труп». «Эвенман» был популярным органом, который широко читали образованные люди, театралы и светская публика. Золя писал, что «Салон в наши дни не является более детищем художников, это работа жюри». Три четверти показанных работ были выбраны уже выставлявшимися и заслуженными художниками, оставшиеся – отобраны администрацией.
По поводу жюри Золя писал: «Есть добряки, которые принимают и отклоняют кандидатуры с полнейшим безразличием; есть преуспевающие художники – они стоят вне всякой борьбы; есть художники, которые сошли со сцены, но держатся своих убеждений и отвергают все новое; есть, наконец, модные художники, чьи малозначительные картины имеют временный успех, но они вцепились в него зубами и рычат, грозя тем из своих собратьев, кто пытается к нему приблизиться».
Золя упоминает о происшествии с одним учеником Курбе, который послал в Салон две работы, одну под своим именем, а другую под псевдонимом. Первую жюри отвергло, вторая была принята.
В конце цикла статей о выставке в Салоне Золя дает собственное определение искусства: «Определить произведение искусства можно только так: это кусок действительности, увиденный сквозь темперамент». В другом месте он говорит: «Произведение искусства есть выражение творческой индивидуальности, личности художника». В статье, посвященной Э. Мане, Золя возвещает: «Господин Мане, так же как и Курбе, как всякий самобытный и сильный талант, должен занять место в Лувре». В результате выступлений Золя получился большой скандал. Посыпались сотни писем читателей, в которых они выражали возмущение и грозились прервать подписку. Издатель газеты, испугавшись, поручил написать несколько статей на эту же тему критику Пеллоке. Золя, который к тому моменту написал уже пять статей и собирался дать еще десять с лишним, чтобы довести общее количество до шестнадцати или восемнадцати, вынужден был ограничиться еще тремя.
Приведем еще несколько выдержек из этих статей, которые он, несомненно, обсуждал с Полем и которые в известной степени могут считаться выражением настроений самого Сезанна.
«Да, я выступаю в защиту жизненной правды. Я откровенно признаюсь, что восхищен г-ном Мане, что и гроша ломаного не дам за рисовую пудру г-на Кабанеля и что я предпочитаю терпкие и здоровые запахи живой жизни. Впрочем, у меня еще будет случай высказать свои суждения. Здесь же я лишь отмечу – и никто не осмелится меня опровергнуть, – что движение, известное под названием «реализм», в Салоне не представлено. (…) Искусство здесь тщательно отлакировано и прилизано; оно обрело вид добропорядочного буржуа в домашних туфлях и белой рубашке».
«В этом году жюри особенно усердствовало в наведении глянца. Оно сочло, что в прошлом году его метла оставила на паркёте несколько соломинок. Для того чтобы порядок был безупречным, вышвырнули за дверь реалистов – им был брошен упрек, что они не моют руки. Салон же будут посещать великосветские дамы в богатых туалетах, а посему здесь должна царить идеальная чистота, все должно блестеть так, чтобы перед картинами, как перед зеркалом, можно было поправить прическу».
«И я требую от артиста не сладостных видений или устрашающих кошмаров, а того, чтобы он выявил всего себя, в единстве своего духовного и физического существа, энергично утвердил свою творческую силу и своеобразие, показал, что он может как бы единым махом отломить большой кусок природы и представить его нам в том виде, в каком он ее сам воспринимает. Короче говоря, я испытываю непреодолимое презрение ко всякому ловкому ремесленничеству, к корыстолюбивому угодничеству, ко всему, чему можно выучиться и чего можно добиться прилежанием, к театральным эффектам исторических сцен г-на Икса и надушенным грекам г-на Игрека. С другой стороны, я полон глубокого уважения ко всем произведениям искусства, отмеченным печатью индивидуальности, к творениям сильного и самобытного дарования. (…)
Я не являюсь сторонником той или иной школы, потому что я – сторонник человеческой правды, а это исключает принадлежность к какой бы то ни было касте, утверждение какой бы то ни было системы. Мне не нравится само слово «искусство»; это понятие содержит в себе некие обязательные, заранее предопределенные рамки, некий абсолютный идеал. Творить искусство – разве это не значит творить нечто внеположное и человеку, и природе? А я хочу, чтобы творили самую жизнь, чтобы человек оставался живым, чтобы он каждый раз создавал нечто совсем новое, не считаясь ни с чем, кроме собственного темперамента, собственного восприятия вещей. И в каждой картине я ищу прежде всего человека, а не картину. На мой взгляд, в каждом произведении искусства присутствуют два начала: объективное – то есть натура, и субъективное – то есть человек, художник».
Мы уже отмечали, как высоко ценил Золя Писсарро.
Когда он решил опубликовать все статьи в виде памфлета «Мой Салон», он посвятил эту работу Полю, написав ему Обращение от 20 мая 1866 года. Его слова показывают, насколько близки тогда были друзья, и в то же время в них сквозит нечто, позволяющее уловить тень предательства, фактически обнаружившего себя в словах «Моего Салона».
«Я очень рад, мой друг, что могу поговорить с тобой наедине. Ты не представляешь себе, сколько я выстрадал во время моей недавней схватки с чернью, с толпой чуждых мне людей, – я чувствовал себя настолько непонятым, окруженным такой ненавистью, что часто мужество покидало меня и перо падало из рук. Сегодня я могу позволить себе насладиться той полной внутренней близостью, которую мы ощущаем вот уже десять лет, общаясь друг с другом. Эти страницы я пишу для тебя одного: я знаю, ты прочтешь их не глазами, а сердцем и после этого полюбишь меня еще нежнее. <… >
Вот уже десять лет, как мы с тобой разговариваем о литературе и искусстве. Помнишь? Мы жили вместе, и часто рассвет заставал нас еще за спорами – мы рылись в прошлом, пытались понять настоящее, стремились найти истину и создать себе некую безукоризненную vсовершенную религию. Мы переворошили горы идей, рассмотрели и отвергли все существующие философские системы и, совершив этот тяжелый труд, решили наконец, что все, кроме бьющей через край полноты жизни и личной независимости, – глупость и ложь.
Счастливы те, кому есть что вспомнить! В моей жизни я вижу тебя всегда рядом с собой, как Мюссе того бледного юношу, о котором он рассказывает. Ты – вся моя молодость: в моих радостях, в моих горестях ты всегда принимал самое живое участие. Духовно мы с тобою развивались вместе, бок о бок, как родные братья. И ныне, когда мы впервые вступаем на избранное поприще, я верю в тебя, а ты – в меня, ибо мы понимаем и ощущаем друг друга всеми фибрами души, всем своим существом».
И так далее в таком же духе. Золя использует имя «Клод» для подписи под статьями; за себя – это имя героя «Исповеди», за Поля – это имя художника в «Чреве Парижа» и «Творчестве». Поль, как и Золя, мог искренне сказать: «Ты – вся моя юность», имея в виду, как и Эмиль, что процесс духовного возрастания у них был един. Интересно, что Золя недвусмысленно включает Поля в утверждение о том, что он отвергает все учения и системы и считает, что «внешняя сильная и индивидуальная жизнь – это только ложь и дурачество». Эти слова являются как эстетической, так и философской позицией, которую Золя приписывает и себе, и Полю. Вместе они размышляли о достойном образе жизни, о взгляде на мир. В письме, написанном когда ему было двадцать лет, Золя заявлял, что он бросил всякую официальную религию, хотя и сохранил смутную веру в Бога. Он был непримиримым антиклерикалом, считая, что истинная вера только ослабляется толкователями, подрывающими религиозные авторитеты, и монашеством, «этой новой породой жуликов, особей с обочины общества, невозможных и противоположных божественному духу». Настроение ранних писем Поля также выдержано в этом ключе. По мере того как Золя писал «Ругон-Маккаров», его антицерковный пафос все нарастал, особенно силен он в «Завоевании Плассана», где описывается Экс и семейство Муре – Сезанн. Муре – республиканец, решительно настроенный против церкви и религии; его дом располагается между лагерями бонапартистов и легитимистов, и его разрушение символизирует крушение радикальной и республиканской партий и высшую точку интриг аббата. (Луи-Опост баллотировался в 1848 году в городской совет, его имя значится двадцать вторым в списке из двадцати семи кандидатов, он выступал за «смешение классов и партий». Набрал он всего несколько голосов и потерпел поражение.) Но в «Завоевании Плассана» широкая политическая тема сужена столкновением свободомыслящего республиканца Муре с женой, которая, прежде послушная ему, стала под влиянием аббата чрезвычайно религиозной. Она фактически разрушила дом, позволив запереть мужа в сумасшедший дом, когда он был еще здоров, и тем самым вызвала его настоящее помешательство. Когда жена умерла, тронувшийся Муре поджег дом, убив себя и аббата. Здесь Золя, как и в других случаях, начал с лично знакомой ему ситуации и затем разрабатывал ее до крайнего разрушительного предела. (То же самое он проделал с Полем в «Творчестве».) Реальной основой «Завоевания Плассана» были неверующий республиканец-муж и покорная, но вместе с тем упорная жена, которая ударилась в религию. Здесь мы можем быть полностью уверены, что Золя описывал ту самую ситуацию, которую видел в семействе Сезанн. В этой напряженной ситуации Поль, боявшийся и тем не менее искавший авторитетов, занял сторону отца. Однако подход у него был другой, во многом чуждый Луи-Огюсту; интеллектуальной и моральной страстностью сына отец не отличался. Очень жаль, что не сохранились ранние письма Поля к Золя об этих первых романах. Но, впрочем, безусловно известно, что в то время он был в полной дружеской гармонии с Золя.
Этот год принес кризис в области моды. Портной Ворт бросил вызов царству кринолинов костюмом принцесс, со складками сзади на талии и опускавшимся книзу треном. Также он ввел фурро, или накидки, напоминавшие сутаны, расширявшиеся книзу. Изготовители кринолинов ответили кампанией, в которой пытались доказать, что их изделия не имеют с модой ничего общего, это, мол, просто современные научные приспособления, необходимые до тех пор, пока будут носить рубашки. Женщины оказались в трудном положении. Представить жизнь без кринолинов было невозможно. К тому же цвета приобрели политический характер. Принцесса Полина, пережив удар от поражения австрийской армии, помогла Ворту ввести цвет «Меттерни* зеленый»; а обещание знатной мексиканской даме, мечте Ворта, наряду с беседой с княгиней Меттерних позволило породить «Бисмарк коричневый». Вскоре каждая модница имела свой бисмарковский наряд для прогулок, в который входили отделанные бронзой башмаки и бисмарковская шляпа с козырьком от солнца. Разновидности цвета назывались «Бисмарк болезненный», «Бисмарк довольный», «Бисмарк сердитый», «Бисмарк глянцевитый». Париж стал морем коричневого, некоторые женщины красили волосы в тон к наряду.
Расшатывание Мексиканской империи и приближающийся кризис в финансах дополняли происходившее. Принцесса Шарлотта, вернувшись из Мехико, вспомнила о гравюрах Дюрера к «Апокалипсису». Она решила повоображать, что она находится в Вавилоне, император Наполеон – это дьявол, а праздные, хорошо одетые толпы парижан на улицах – это служители зла. Художники не могли не сознавать, что происходит вокруг, но Писсарро, Моне и Ренуар были заняты в основном тем, что осветляли свои палитры, не обращая внимания на потемнение политической сцены.
Двадцать четвертого июня Золя писал Косту, что он с неделю жил вместе с Байлем за городом, где видел Сезанна. «Поля отвергли, кроме него – Солари и всех других, кого ты знаешь. Они снова принялись за работу, уверенные, что у них есть еще лет десять, чтобы дождаться признания». Можно полагать, что троица встретилась не случайно, так как 30 июня Поль писал Золя: «Я получил два твои письма с 60 франками, за которые я тебе очень благодарен, потому что мне еще грустнее, когда нет ни гроша. Значит, у вас не происходит ничего интересного, раз твое последнее письмо такое короткое. Невозможно отделаться от патрона. Я не знаю точно, когда я уеду, наверно, в понедельник или во вторник. Я мало работал, 24-го в воскресенье был день рождения Глотона, приезжал еще родственник патрона, вот еще идиоты. <… >
Картина продвигается неплохо, но днем время тянется очень медленно. Надо купить коробочку акварели, чтобы работать в то время, когда я не пишу картину. Я решил переменить в ней все фигуры и уже поставил в другую позу Дельфена – он стоит вот так. (Здесь в письме рисунок копающего человека. – Дж. Л.) Ядумаю, что теперь будет лучше. Я изменю две другие фигуры. Рядом с табуретом я поставил небольшой натюрморт: корзину с синей тряпкой и несколько бутылок, черных и зеленых. Если бы я мог работать над картиной дольше, дело шло бы быстрее, но двух часов в день мало. К следующему дню краски уже высыхают, что очень мешает. Гораздо лучше было бы, если бы эти люди позировали мне в мастерской. Я начал на пленэре портрет старика, папаши Русселя, он продвигается неплохо, но над ним надо еще поработать. Особенно над фоном и одеждой. Это холст 40, несколько больше, чем 25.
Вечером во вторник и вчера я с Дельфеном ловили раков руками в ямах. Я поймал по крайней мере 20 штук в одной яме. Шесть я словил одного за другим, а один раз поймал сразу трех, одного правой и двух левой. Это занятие легче живописи, однако оно ни к чему не приведет.
До свидания, дорогой друг. Привет Габриэль и тебе самому. Поль Сезанн.
Поблагодари от меня Бай ля, он выручил меня деньгами. Пища становится все скуднее и все хуже. Скоро они совсем перестанут меня кормить. Чуть не забыл послать привет твоей матери».
Где был в это время Поль, неясно; ни одно из перечисленных имен больше не упоминается нигде. Но непохоже, чтобы дело было в Эксе. В июле Поль с друзьями собрались все вместе в Беннекуре – троица и еще Солари, Валабрег и Ру купались, удили рыбу, катались на лодках и бродили пешком. Они с наслаждением предавались отдохновению, напоминавшему им давние экские деньки. Позднее Золя описал эти сцены в «Творчестве» в качестве медового месяца, хотя фактически медовый месяц Клода был, скорее, его собственный, ибо вместе с ними была его Габриэль. Беннекур, стоявший на Сене между Парижем и Руаном, представлял собой скопление окрашенных в желтый цвет домиков, протянувшихся вдоль реки за аллеями тополей. Вокруг лежали поля и поросшие лесом холмы; на реке было немало тростниковых островов. Тишина нарушалась лишь старым паромом с его звякающими цепями. «Отравленные надеждой перевернуть вскоре все, что есть», как писал Золя, молодые люди отправлялись после обеда поваляться на охапках соломы во дворе постоялого двора мамаши Гигу, курили и разговаривали. «Это был час теорий, яростных несогласий, который затягивался за полночь и подчас заставлял просыпаться перепуганных крестьян. Мы покуривали трубки и созерцали луну. В качестве последнего аргумента мы обзывали друг друга идиотами». Поэты ратовали за романтизм, художники предпочитали реализм. 26 июля Золя писал Косту: «…три дня тому назад я был еще в Беннекуре, с Сезанном и Валабрегом. Они остались там и вернутся в начале следующего месяца. Как я Вам и говорил, это самая настоящая колония. Мы затащили туда Байля и Шайяна; и Вас мы туда тоже затащим. Сезанн работает. Он все больше утверждается на том своеобразном пути, куда его влечет его натура. Мы рассчитываем, что ему будут отказывать еще десять лет. Он стремится сейчас делать большие композиции, полотна по четыре-пять метров. Скоро он уедет в Экс, может быть, в августе, а может быть, только в конце сентября, и пробудет там самое большее два месяца…»
В августе Поль вернулся домой и прошелся по Бульвару со «своими редкими длиннющими волосами и с бородкой революционера», как писал Марион. Но «нас стали здорово уважать в Эксе, нам кланяются на улице». В этой группе был теперь Поль Алексис, сын богатого стряпчего, который томился, изучая право, и мечтал сбежать в Париж и в литературу. Что касается Поля, то он как будто имел некоторый успех в Эксе, ходили разговоры, правда, только среди его приверженцев, что ему предлагали директорство в музее. Какой-то местный поэт посвятил ему стихи, напечатанные в городской газете. «Какой-то идиот посвятил ему стихи, – комментировал Марион. – Что за сборище кретинов!» Сам Поль, почувствовав, что ему не удается картина с Розой, читающей своей кукле, решил написать Валабрега и Мариона на пленэре, но снова был не удовлетворен сделанным. «Сейчас ему позируем я и Марион, – писал Валабрег. – Мы идем, взявшись под руку, и вид у нас нелепейший. Поль ужасный художник в смысле поз, которые он придает своим моделям, и разгулом своих красок. Всегда, когда он пишет кого-нибудь из своих друзей, кажется, что он мстит за какую-то скрытую обиду» (письмо от 2 октября).
Внезапное ухудшение погоды усугубило депрессию Поля. Приехал Гийме со своей женой Альфонсиной. (Ранее он уже был с месяц в Эксе, ему нравилось там. Возможно, это тогда он вступался за Поля перед Луи-Огюстом и просил увеличить содержание. Впрочем, история недостоверна.) Вместе с Полем Гийме ходил писать на холмах около плотины. Их часто сопровождал Марион, занимавшийся там геологическими изысканиями.
В письме Поля к Золя от 19 октября обобщаются все события тех дней: «Вот уже несколько дней, как упрямо льет дождь, Гийме приехал вечером в субботу, сперва он жил у меня, а вчера – в среду – нашел себе небольшое, довольно приличное помещение за 50 франков в месяц с постельным бельем. Несмотря на ливень, пейзаж великолепен, мы сделали несколько этюдов. Как только погода исправится, он возьмется серьезно за работу. А я изнываю от безделья, вот уже четыре или пять дней, как я ничего не пишу. Я только что закончил одну маленькую картину, которая мне кажется лучше всех прежних; на ней моя сестра Роза читает вслух своей кукле. Размер картины только один метр; если хочешь, я тебе её подарю. Она величиной с портрет Валабрега. Я хочу послать ее в Салон.








