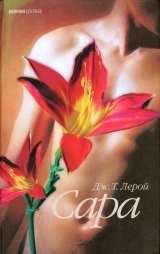
Текст книги "Сара"
Автор книги: Дж. Т. Лерой
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Я видел красные сияющие кольца, исчезающие там, где ее пальцы лежали на моем теле. Скользкими от пота ледяными руками я вцепился в бедра. Моя плоть исчезла в пламени зажигалки. Я не двигался, не кричал, не плакал. Я усвоил жестокий урок, что все в жизни повторяется, пока не поймешь, что есть неизбежное, и Сатану можно, пускай на время, изгнать. Стараясь не смотреть вниз, я уставился на пса, грызущего свою лапу.
Я прислушался к шипению горячего железа, на которое была плотно намотана прядь моих длинных, по плечи, волос.
– У меня тоже были русые волосы. – говорила она. – Это потом они потемнели. Твои, кстати, тоже потемнеют.
Она щелкнула электрощипцами, выпуская завитой локон, затем выбрала новую прядь. Я вздрагивал от каждого ее прикосновения.
– Потом поймешь, какую я оказала тебе услугу. – Щипцы закусили прядь, и Сара стала наматывать ее на железный стержень. – А ты хорошенькая. – Она просияла, склонилась надо мной, такая близкая, и наши отражения в зеркале сблизились.
– Мы же прекрасные девушки, а?
Горячие щипцы нависли у меня над самым ухом, но я как язык проглотил, не отваживаясь сказать ни слова. Я только бледно улыбнулся в зеркало – нам, двум красивым девушкам, не обращая внимание на запах горящей плоти.
Обычно, оставаясь один, когда мне нельзя было показываться на улицу, я торчал в тесном трейлере, включая радио и телевизор на полную громкость. Сам располагался между двумя этими приборами, слушая, как голоса и музыка перекрикивают друг друга. Таким образом, между ними устраивалось соревнование – кому удастся привлечь мое внимание, и судьей в этом споре был я.
Если Джексон или мама заявлялись пораньше и заставали меня за этим занятием, они выходили из себя.
– Как можно слушать все сразу? – недоумевал Джексон, на самом деле вовсе не добиваясь моего ответа. – Включай что-нибудь одно: радио или телевизор. Иначе скоро спятишь.
Сегодня, впрочем, я не нуждался в звуковой атаке. Я стоял на кресле, разглядывая симпатичную мордашку, которая по сути была уже не моим, а маминым лицом. Сперва я смотрел в зеркало, затаив дыхание, словно на отражение в воде, которое можно спугнуть и рассеять одним неосторожным движением. Потом, постепенно осмелев, я начинал морщить лицо и строить гримасы, которые также подсмотрел у нее: так она отвечала на приглашения парней из машин. Я упражнялся в этом занятии не менее часа, достигая мгновенности и совершенства, с какими ковбой первым извлекает пистолет из кобуры и стреляет раньше, чем соперник успеет прикоснуться к оружию. Затем я тренировался посылать воздушные поцелуи: голова чуть откидывается, едва заметное движение губ: поцелуй и подмигивание, слитые воедино: движение, ресниц перетекающее в поцелуй, – и то же самое в обратном порядке. На это уходило целое утро. Потом я забирался за стенку на ее часть спальни и открывал шкаф. Я осторожно сдвигал в сторону стопку клубничных освежителей воздуха для автомобиля и надевал шелковую сорочку, недавно заказанную Джексоном в магазине интимных принадлежностей. Она свисала до самых щиколоток, так что мне приходилось подтыкать ее, чтобы выставить напоказ ноги. Затем наставал черед трусиков, которые он ей подарил, тоже шелковых, белых, с оборочками сзади. Сунув обе ноги в одно отверстие, я замотал болтающийся остаток и побежал к большому, в полный рост, зеркалу на двери в ванную комнату.
– Ты прекрасна, куколка! – захихикал я и завернул ночную сорочку. – Спасибо, дорогая. – Я повертел задницей перед зеркалом, подмигнул и отпустил идеальный – пламенный и страстный – поцелуй. – Ах, папочкина крошка. Девочка, ты такая сексуальная. – Я задрал кружевную полу ночнушки. – Черт! Опять ты вылез? Хочешь все испортить? – Я сунул руку между ног, устранив выпирающие архитектурные излишества. – Убирайся, – закричал я на него. Не опуская задранной сорочки, провел ладонью по гладкому, плоскому лобку. – А как поживает горшочек с медом моей куколки? – Я подмигнул в зеркало. – Ему так нужна твоя любовь, Джексон. – Виляя бедрами, я направился к зеркалу, и все снова выскочило. – Проклятье, черт вас дери! – с досады я ударил туда кулаком. – Ой-ей-ей! – Он ответил дикой болью. – Проваливай же! Убирайся!
Я зажмурился изо всех сил, чтобы слезы не испортили макияж. И тут мне пришло в голову простое и мудрое решение. Я бросился в кухню, под раковину, и стал вышвыривать оттуда пластиковые флаконы и бутыли с универсальными моющими средствами, пока не нашел требуемое.
– И как же ты сразу не догадалась, куколка? – Я поднял над собой бутылку клея «Крэйзи Глю» и хохотал, пока не заболел живот.
Свет погасили, оставив только мерцающий огонек телеэкрана. Джексон сидел в кресле у телевизора и смотрел прямую спутниковую трансляцию проповеди, прихлебывая четвертую банку пива.
Она подошла и встала перед ним, медленно-лениво, изящной плавной походкой. Точно паучиха, подбирающаяся по сети к попавшей туда добыче.
– Иди к папочке. – махнул он ей рукой, в которой держал банку, даже не отрывая глаз от телевизора.
Она остановилась перед ним, повертевшись, развевая белой кружевной сорочкой. Подсвеченная голубым сиянием кинескопа, она казалась в сумерках призрачно волшебной. Золотистые локоны паутинками разметались по сторонам. Она вертелась перед ним и ткала из воздуха свой магический любовный кокон, которому не в силах воспротивиться никакой мужчина.
– Какого дьявола ты делаешь, во имя Господа и Его Творения?
Вращение прекратилось. Она кокетливо сделала глазки, подмигнула и послала воздушный поцелуй.
– Господи Иисусе, да что с тобой происходит? – Он уже не смотрел телевизор, он уставился на свою куколку. То есть – на меня.
Она подошла ближе, цепляя ногу за ногу, как воздушная акробатка на канате, в черных босоножках на высоком каблуке, осторожно, чтобы не споткнуться. Отправляла в воздух все новые поцелуи, протягивала пальцы, демонстрируя фирменный маникюр.
– Да какого черта?.. – Он растерянно расплескал пиво, посадив темное пятно на колено своего оранжевого водительского комбинезона.
– Это мать тебя научила? – Он растер пятно ладонью, не спуская с нее глаз, физиономия его стала хищной и вытянутой, как у ищейки.
– Я твоя девочка-куколка. – Голос ее был нежным и стыдливым, как ему нравилось. Он рассмеялся, хохотом заглушив трансляцию проповеди.
– Она что, сегодня вернулась пораньше и разыгрывает меня? – Отхлебнув пива, он крикнул в темную пустоту трейлера: – Сара!
– Это я, папочка, – захихикала она в ответ.
– Гос-споди. – Он прикончил банку с пивом, и та покатилась по линолеуму, которым был выстелен трейлер. Звон эхом раскатился по узкому пространству. Он пошарил вокруг в поисках нераспечатанной банки, не спуская с нее глаз.
– Боже, до чего ты похож на свою мать… – Пиво хлопнуло у него в руке как граната. – Наверное, такой она и была лет десять назад, – хмыкнул он.
Она капризно выпятила губки и сунула в рот большой палец.
– Вытащи. Ты же знаешь, что этого нельзя делать.
Перестав сосать палец, она вытянула его почти совсем и снова запустила в рот – и так несколько раз, неотрывно глядя ему в глаза.
– Что-то с тобой не то, сынок, – неторопливым движением он смахнул пену с губ. – Что-то не то. – Он потер мокрое колено ладонью.
В этот момент она развернулась, задрала сорочку и выставила задницу куколки, в кружевных трусиках, с оторочкой крылышками – от которых он был без ума. Он поспешно захлебывал это зрелище пивом, глотая его с такими звуками, будто тонул в море.
– Мать запорет тебя до полусмерти за такие выходки.
Она еще несколько раз покрутила задницей у него перед носом, затем повернулась и опять посмотрела на него, не вынимая пальчика изо рта.
Он постоянно говорил ей: «Куколка, я тащусь, когда ты сосешь свой пальчик, в этот момент мне кажется, ты – ангел». Когда ей надо было выпросить у него денег или что другое, она всегда начинала с того, что совала палец в рот, потом садилась к нему на колени, клала голову на грудь – и он гладил ее по волосам. Затем следовало неизменное: «Скажи папочке, что куколка хочет». И если он вытаскивала палец, чтобы более внятно изложить просьбу, он непременно вставлял его на место. И никогда не говорил, что она уже выросла из детского возраста, чтобы разыгрывать из себя младенца, не натирал ей палец красным жгучим перцем, как часто делают родители с детьми, чтобы отучить от дурной привычки, не насмехался над ней и не наказывал за это. Напротив – с пальцем во рту она его вполне устраивала. Во всех отношениях.
Она молча обернулась к нему, палец во рту как затычка, голубые глаза удивленно распахнуты, с черной обводкой, на лице играют цветные тени из «ящика». Она ждет, когда же папочка ее узнает. А папочка уставился на нее, и взгляд блуждает вокруг, точно самолет, выбирающий место для посадки. И тут он рыгнул, громко и раскатисто. Взгляд у него стал точно у провинившегося ребенка.
– Пардон, – пробормотал он. И в этом смущении она прочитала, что ее узнали. Она тут же запрыгнула к нему на колени, удобно устроилась, опираясь на руки, лежавшие на подлокотниках кресла. Ногти вцепились, ероша серебристый велюр.
– Господи, да что ж это происходит – или бес в тебя вселился? Что это нашло на тебя? – Он запрокинул голову точно курица, бьющаяся в предсмертных судорогах. На лице его застыла бессмысленная усмешка.
– Разве твоя куколка не красивая? – пробормотала она, вынимая палец изо рта и зарываясь лицом в жесткую растительность на его груди.
Грудь его затряслась сдержанным нутряным смехом, неуверенно завибрировав под ее прелестной головкой.
– Разве девочка не хорошенькая? – Она запустила руку ему за спину, обнимая и прижимаясь.
Он ничего не сказал, глядя мимо нее в свой «ящик» с проповедью, потом несколько раз метнул взор поочередно на нее и на телевизор – глаза его блуждали точно тусклые металлические гирьки на шкале весов. Она задрала ноги на подлокотник, демонстративно перебрасывая ногу на ногу. Туфель при этом свалился на пол, улетев в темноту трейлера. Он чуть не подпрыгнул, видимо, приняв это за звук открываемой двери. Она захихикала, прикусив палец во рту. Он обвел ее взглядом, кашлянул и потянулся за пивом.
– Кхм, да… хочешь пивка? – Голос его заметно вздрогнул, пальцы выбивали на подлокотниках тревожную дробь.
Она вынула палец изо рта, аппетитно причмокнув, приняла банку и сделала несколько глотков, не сводя с него взгляда.
– Гм, что-то твоя мамаша задерживается… не пора ли ей уже появиться? – произнес он, рассеянно блуждая глазами.
– Я твоя сладкая девочка, папочка, – снова прильнув к его мохнатой груди, она уютно пристроилась там, обхватив руками его светящийся в сумерках оранжевый торс.
Так они сидели в тишине, под гудение электричества, не шелохнувшись, уставившись на проповедника, немо шевелившего губами. Банка с пивом была пуста. Он смел ее ладонью на пол. Дыхание его становилось все чаще. Он забросил ногу на ногу, пока она терлась о его грудь как котенок. Он то и дело прокашливался.
Он всегда говорил ей: «Тебе нечего бояться в этих руках, куколка. Никто тебя больше не тронет». Она же обнимала его или скользила по его большим рукам как по перилам, пока не утыкалась в кулаки.
– Поиграй со мной, – нашептывала она ему – и кулаки беспрекословно разжимались.
– Папочка… – Телевизор прощально вспыхнул, и все погрузилось во тьму, в которой светились лишь оранжевые и голубые индикаторы электроприборов.
Когда она просыпалась, пугаясь мрака, билась и кричала, он, обнимая ее всякий раз, успокаивал:
– Тише, детка, это просто кошмар.
И никогда не кричал на нее, не отчитывал за то, что разбудила среди ночи, не шлепал за то, что обмочилась, не насмехался над тем, что она кричит словно ребенок.
– Папочка успокоит тебя, – говорил он.
С его стороны не было дежурной ласки, с какой оглаживают собаку, он не боялся прикоснуться к ней точно она заразная, не сторонился и не чурался ее, и брал на колени приласкать, а не отшлепать.
Но для этого оставалось только произнести последние слова заклинания.
Потому что она прекрасна.
Потому что она его куколка.
– Люби меня, папочка.
Она обвила себя его руками. Пульт управления упал под ноги. Он смотрел на погасший телевизор. Рука его точно пресс-папье, покоилась на ее талии.
– Мне нужна твоя защита, – шептала она ему прямо в сердце.
– Моя детка, – отвечал он, и руки его начинали скользить по ее телу.
– Сучка неблагодарная!
Вода расплескалась в раковине красивыми розовыми лужицами – как после окраски пасхальных яиц.
Что-то похожее на радиобудильник пролетело по трейлеру, волоча за собой шнур с отодранным штепселем, подобно хвосту кометы. Рядом разбилось окно.
Белый шелк размок и распластался в крашеной воде точно белок яйца, брошенного в горячий бульон.
– Убирайся, гнусный пидор! Я убью тебя, проваливай!
Вещи летали в воздухе и с грохотом разлетались на части.
Пятно в самом центре, как я ее ни тер, светило красным, кровоточащим, немигающим глазом.
– Пусти меня, сукин сын! Я сказала – выпусти!
Я болтал белый шелк в воде, которая розовела от кровоточащего раненого сердца.
– Паскуда!
Туфель отпрыгнул от красного металлического кресла, на котором я стоял.
– Сгинь с глаз моих, предатель!
Она кричала так, что трейлер дребезжал от ее гортанного вопля, точно консервная банка, и осколки только что разбитого окна, торчавшие в раме, трепетали стеклянными лепестками, осыпаясь наружу.
Я сунул руки в холодную воду, успокаивая ее.
Она снова завизжала, но в этот раз приглушенно, зажатым ртом.
Кровавое пятно порицающе и обвиняюще смотрело на меня.
И шелк расходился волнами, как мутно-белая медуза, колебался волнообразно, точно дыша, замирающими волнами в раковине.
– Не зажимай мне рот! – так же глухо прокричала она сквозь его ладонь. Тяжело и учащенно дыша, как за перегородкой, когда они стонали вместе в своей кровати. Я повернулся.
Побагровевшее лицо уже не было зажато ладонью, ее волосы потемнели от пота и казались сейчас каштановыми, намокшие пряди путались в его курчавой черной бороде. Брови ее забавно подпрыгивали, словно жили самостоятельной жизнью. Она изворачивалась в его объятиях. Заметив, что я обернулся, она сжала кулаки, продолжая извиваться с заметно возросшим усилием. Он смущенно посмотрел на меня: казалось, он держит в руках дикое животное, которое поймал, но не знает, как укротить и что делать дальше.
– Лучше выйди, – предупредил он, но смотрел при этом на нее.
– Я еще не отмыл пятно, – шепотом ответил я.
– Лучше уходи, – повторил он глухим усталым голосом, не выпуская Сару, впиваясь в нее пальцами так, что белела кожа на руках и лице.
Спрыгнув со стула, я забрался под раковину за священным белым сосудом.
– Сейчас все будет в порядке, – сказал я как фокусник, готовый удивить зрителей. Забравшись снова на стул, я осторожно вылил полгаллона магической жидкости в воду. Ее горький запах вселял в душу уверенность. Очиститель воистину святая вода, и я знал – спасение близко.
– Это поможет твоему спасению, – она держала меня за правое запястье. В другой ее руке был большой керамический кувшин, наполненный чистейшей субстанцией, прозрачной, как жидкое стекло. – Забыл, чему тебя учили? Она кивнула утвердительно, я – отрицательно замотал головой в ответ. – Хотя бы этому-то твоя мать должна была научить тебя, – пробрюзжала она, выпустив мою руку и устанавливая кувшин на деревянную полку рядом с большой фарфоровой ванной на ножках в виде громадных львиных лап.
– Простите, мадам, я сожалею, – шепотом отвечал я, ощущая, как слюни вперемешку с соплями текут с подбородка. Я не вытирал их, боясь шелохнуться.
– Уверена, что ты еще больше пожалеешь, Джеремая.
Она склонилась над ванной, и передо мной оказался ее затылок. Волосы ржаного цвета, как у мамы, собраны в тугой пучок. На округлом лице собрались капельки пара, такие же, как на ее серебряном крестике.
– Я очень сожалею и раскаиваюсь, мадам, – я шмыгнул носом, старясь не раскачивать рукой, стоя по струнке. Я выдавливал из себя боль и не позволял слезам струиться из глаз, усиленно моргая.
– Теперь мне ясно, почему она тебя бросила. Сара ничем не лучше – дьявол взывает к вам обоим, – сказала она, обращаясь к встающему из ванны пару, то и дело проверяя бурлящую воду рукой. – Нельзя позволять себе грязных искушений, – говорила она над обжигающим водоворотом.
– Да, мадам.
Я шмыгнул носом, втягивая сопли. Каждый раз, как она поворачивалась, сердце мое сжималось, я узнавал в ней маму, ее черты напоминали о ней, только более грубые и утонувшие в морщинах.
– Надеюсь, ты не испытываешь жалости к себе, – погрозила она пальцем.
Я закрутил головой и снова посмотрел на босые ступни. Я только что прибыл к бабушке с дедушкой, куда всего час назад доставили меня социальные работники. Меня забрали из дома последних моих опекунов – и тут служба соцобеспечения узнала о существовании деда с бабкой. Мне там, на старом месте, понравилось: у опекунов был ручной поросенок, который всегда подбегал, стоило выйти во двор, и тыкался в меня пятачком, хрюкал и просил почесать за ухом. Но мой отец-опекун обнаружил во мне зло: он с воплем требовал, чтобы я надел трусы и вел себя прилично. Я пытался объяснить, что все в порядке, сел к нему на колени, но он оттолкнул меня, да так, что я упал. Я знал, что если он сунет в меня свою штуку, то разрешит мне остаться и не станет выбрасывать на улицу. Я просто пытался с ним поладить. Он стал орать на свою жену, требуя вызвать службу социальной помощи. И вот я стоял в чем мать родила перед родной бабкой, удерживая правую руку от прикосновения к телу и всех возможных злых деяний.
– Это сгорит дотла, Джеремая. – Губы ее, полные, выпуклые, как у мамы, скривились. – Но куда более страшный адский огонь пожрет тебя, если не спасти твою душу сейчас, немедленно.
Я старался держать правую руку подальше, точно протухшую рыбу.
Она скрутила крышку с керамического сосуда. Крепкий запах хлорки заполнил ванную, смешиваясь с паром. Я глубоко вдыхал полной грудью запах лета и бассейна, тепло охватывало меня, распространяясь по всему телу.
– Джеремая!
Я открыл глаза, она оторвала мою левую руку, прикрывавшую пах, и дернула по направлению к ванне.
– Тебя снова надо пороть? Мне позвать его?
Я только моргал, весь дрожа.
– Или ты не чувствуешь, как зло вползает в тебя? Ты не хочешь бороться с ним?
Я отвечал немым взглядом, полным муки и раскаяния.
– Мама. Я хочу маму, – вырвалось из меня словно стон. И слезы хлынули таким потоком, что даже дыхание остановилось. Вздохнув, она вылила содержимое сосуда в ванну и взболтала рукой.
– Она тебя бросила, потому что больше не в силах была с тобой справиться. – Бабушка отерла взмокший лоб. – Если перестанешь творить зло, угождать дьяволу, думаю, она вернется.
– Значит, она заберет меня?
– Да.
– Как в прошлый раз?
– Да.
– Но я же опять натворил плохое.
– Крепись, Джеремая. Надо быть крепким – и зло к тебе не пристанет. Ну, давай, полезай.
– Ванна слишком высокая, не дотянуться.
Она со вздохом подсадила меня. Я отдернул ногу:
– Вода кусается!
– Мне что, деда позвать?
– Хорошо, хорошо! – завизжал я.
– Считаю до трех – и зову.
На счет «два» я уже был в ванной. Слезы хлынули и смешались с кипятком.
– Горячо? Не жарче адского огня. Представляешь, там какие муки. Ну-ка, ставь вторую ногу!
– Очень горячо!
– Ваше преподобие! – позвала она.
У меня началась истерика. Он держала меня в ванной точно котенка, пытающегося выпрыгнуть за борт.
На лестнице послышались шаги. Мы дружно повернули головы к двери.
Он вошел вместе с потоком прохладного воздуха. Я замер, сразу перестав брыкаться. Ничего не сказав, бабушка вышла, закрыв за собой дверь.
Глаза его были такими же чистыми и жгучими, как горячая вода с хлоркой, в которой я стоял.
– Сядь.
Я немедленно погрузился в воду по шею. Он склонился надо мной.
– Руки, – раздался суровый приказ.
Я выставил руки над водой, и он связал их шнурком, висевшим на крючках для полотенец.
– И пусть я услышу еще один звук, Джеремая, тогда ты пожалеешь о дне, в который родился. – Он вышел, оставив дверь приоткрытой.
Подо мной как будто разожгли костер. Но к этому времени я уже ушел от боли. Я снова был с мамой в Лас-Вегасе, мы выиграли кучу денег. Она была так счастлива, все время тискала меня и говорила о том, какие мы хорошие и чистые.
Я запустил руки в жгучую воду и легонько потер кровавое пятно. И, словно чернила ручки-невидимки, оно стало таять на глазах.
– Убью! – рычала мама сквозь его пальцы.
– Сынок, я не смогу так долго ее держать, поэтому тебе лучше уйти.
Я подумал, как здорово было бы, если бы раковина была большой, как бабушкина ванна, чтобы я мог забраться туда целиком – меня бы никто не видел, и я спокойно закончил бы дело.
– Ты слышишь? – воскликнул он.
Я вытащил сорочку, ту самую, белую, с оборками-кружевцами, развернул и выставил напоказ.
– Смотрите, получилось! Все сошло!
Вода стекала с мокрого белья, образуя большую лужу под стулом.
Все стояли и смотрели, как вода капает и брызгает на пол.
Я развернул сорочку перед ними: кровь сошла, но бледное пятно все равно просвечивало на том месте, где пролилась моя кровь.
Мать завопила вновь, пиная Джексона босыми пятками и вырываясь на свободу.
Я стоял, застыв, выставив перед собой трусы и сорочку, словно старая леди – свое вязание на спицах, пока она рвалась ко мне, как собака с цепи.
– Ты всегда норовил прибрать к рукам мои вещи! – вопила она, и, умудрившись схватить настольную лампу, швырнула в меня.
Я опять увидел, как в замедленной съемке, летящий мне в лицо предмет, и непостижимым образом успел спрыгнуть с кресла, когда лампа ударилась в зеркало над раковиной. Брызги стекла и воды ударили фонтаном.
Я приземлился на пол на карачках, точно лягушка. Надо мной нависло ее лицо, забрызганное красным. Рука Джексона снова зажимала ей рот, голубые глаза крутились в глазницах точно мраморные шарики.
– Отбеливатель не всегда помогает, – оправдываясь, сказал я.
– Уходи, – процедил он, удерживая ее из последних сил – извивающуюся судорожно, со стоном.
Вскочив, я отправился за перегородку и бережно положил купленную им белую сорочку на кровать. Рукава впереди я скрестил точно на погребальном саване, положенном на крышку гроба разрезанного на части ребенка.
Потом пошел в «детскую» – выделенный мне угол в трейлере, собрал джинсы, майку, кроссовки, только без носков, и снял куртку с вешалки, которую Джексон специально соорудил мне по росту, чтобы можно было дотянуться.
Я прошел мимо них. Она уже повернулась к нему и остывала в объятиях – Джексон по-прежнему не выпуская Сару из рук, но голова ее уже покоилась на его груди. Мне они не сказали ни слова.
Джексон молчаливо кивнул на дверь.
Я перешагнул зеркальный осколок, в котором отразилось забрызганное кровью лицо с черными енотовыми глазами, рот измазан помадой точно на клоунском лице, – точно как у нее.
Но это было мое лицо. Лицо человека, который должен уйти.
– Пока, – шепнул я и ушел.
На улице было не то чтобы слишком, но холодно. Еще темно. Единственным источником света служили разбитые окна трейлера: мы были далеко от стоянки. Черными хребтами динозавров высились надо мной Голубые горы. Оттуда был слышен стрекот цикад и шорох ночных зверей. За окнами трейлера метнулись тени.
В голове вспыхнул свет – это я мысленно вызвал его, чтобы обходить вампиров и оборотней. Стало так светло, что приходилось прищуриваться, зато я знал, куда направляюсь. Я шел быстро, осторожно, стараясь не спотыкаться о комья грязи и не выдать своего присутствия. На старой опустевшей стоянке была заброшенная собачья конура, видимо сколоченная для сторожевого пса. Перед входом я сделал дверцу из доски от ящика – от любопытных енотов. В будке у меня была подушка, одеяло, просроченная библиотечная книжка и фонарик, который я стащил, когда ездил с Джексоном в магазин автотоваров Малькольма. Я спрятал тонкий серебристый луч в рукаве, моля Бога, чтобы меня никто не увидел. Бог исполнил это пожелание.
Очутившись в будке, я завернулся в одеяло, пристроил подушку так, чтобы видеть происходящее снаружи и обстановку внутри. Дощечкой, как дверью, загородив вход в конуру. Здесь, в этом тесном мирке, стены как будто открывали путь в иное измерение, как в том шкафу из книжки, откуда можно попасть в другой мир.
Здесь я чувствовал себя Тарзаном, предоставленным природе плотоядным хищником, живущим в под кровом дома, когда-то хищнику принадлежавшего. Мы, хищники, всегда защитим себя – мы готовы к любым неожиданностям.
Я прибрался как мог с последнего ночлега, но запахи конуры прочно поселились здесь и настойчиво дразнили обоняние. Было так уютно, что хотелось остаться здесь навсегда. Я буду ждать, пока откроется новое пространство в стене и я провалюсь в иное измерение.
Луч фонарика падал на выцветшую картинку. Улыбающийся рыжий мальчик в веснушках, под широкополым сомбреро, взбирался по лесенке на дерево с персиками. Он приветливо махал рукой, срывая плод, словно приглашал присоединяться. Стоило шевельнуть фонариком – и рука его, благодаря игре теней или еще чему другому, приходила в движение. Привычно перевернувшись на живот, я пристроил фонарик под подбородком.
Мне казалось, что мальчик с картинки зовет меня в свою страну персиков.
«Пойдем, – говорил он, – здесь хорошо – только ты и я – и мы уже никогда не вернемся».
И руки мои поползли в заветное место.
«Ты сможешь носить мое сомбреро, – соблазнял он и призывно протягивал руки».
Расстегнув ширинку, я пошарил в штанах и вдруг испугался. Искомый предмет не обнаруживался. Торчавший всегда внизу живота, точно рукоятка микроотвертки, он вдруг исчез, словно бы его никогда и не было. Я ощутил панику и облегчение одновременно. Неужто Господь наконец сжалился надо мной, и мой соблазн растворился в хлорке – окончательно и бесследно? Я провел рукой по лобку, опасаясь опустить ее ниже, чтобы не напороться…
И тут я ощутил между ног нечто странное. Я быстро принял сидячее положение, навалившись спиной на стенку собачьей будки. Затаив дыхание, я стянул джинсы до самых колен и посветил фонарем. Мне уже представлялось, что я увижу ровную, гладкую, покатую поверхность, как у куколки Барби.
Но когда я открыл глаза, фонарик высветил желтовато-розовый от клея пах: все оказалось на месте. И внезапно мне страшно захотелось по маленькому. Сколько я не дергал, там все было приклеено на совесть. Результатом стали только слезы в глазах.
– Господи милостивый, – твердил я снова и снова: слова звучали слишком большими и пустыми внутри деревянного ящика, чтобы возыметь эффект. – Все прилипло! – завопил я в крышу, затянутую паутиной. И сам испугался собственного крика. Я трясся от страха, боли и нестерпимого желания. Жутко хотелось в туалет. И тут я ощутил струю, бьющую в деревянный пол. Она промочила насквозь одеяло, но даже кратковременное облегчение вызвало только новые рыдания.
Дыхание Джексона словно рой москитов назойливо гудело в ухе.
– Ты моя куколка, моя сладкая девочка, моя крошка, – и так далее, задыхаясь, сообщал он мне каждую минуту.
Его руки быстро скользили вверх-вниз по белой куколке, точно собака, лихорадочно роющая лапой в мусоре. Он покрывал мое лицо жесткими жадными поцелуями, обволакивал меня пивными испарениями. Он снял меня с коленей, мои руки обвили его шею. Он перенес меня за перегородку на их кровать.
– Ты моя крошка…
– Я хорошенькая?
– М-хм. – Джексон рухнул рядом, звякнув молнией оранжевого комбинезона, словно единым махом разорвав его на груди. Его руки завозились в темноте, и я услышал, как хлопнула резинка трусов.
– Готова? Папочка идет к тебе. – Он стал снимать мои руки с шеи.
– Не-ет!
– Ты же задушишь меня, куколка, ты задушишь папочку.
– Я твоя куколка?
– Ну, конечно, детка, расслабься. Я тебя немного смажу.
Я почувствовал, как его палец лезет под трусы. На потолке двигалась тень его гигантской головы.
– Расслабься, детка.
Борода его царапнула меня по носу, словно еловая ветвь. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он кряхтел над моим ухом. Боль была невыносимая. После ковбоя меня зашивали на операционном столе.
Он плакал, могу поклясться. Между вздохами и стонами. И мир расплывался передо мной от его слез, которые падали на мое лицо.
Мне хотелось сказать ему многое. Что я хочу остаться с ним навсегда, и чтобы он доверял мне все свои секреты, как маме, а я мог лежать у них на руках, заползать к ним в постель, смеяться и засыпать мертвым сном. Но ничего этого я не добился.
И вот я стоял в ванной и разглядывал пятно на самом видном месте ее белых кружевных трусиков, которые она ему заказала из этого треклятого магазина нижнего белья.
Потом он натянул их на меня снова. Как оказалось, несколько преждевременно. Он ничего не сказал, я тоже.
– Теперь она бросит меня, – повторял я вслух, стараясь не расплакаться.
Он включил телевизор и хлопнул очередной банкой пива. Красное пятно упрямо маячило передо мной, не желая исчезать. Эти трусики она всегда стирала сама, вывешивая на двери душевой кабинки. У нее тоже были кровотечения: из-за мужиков – из-за их, а также моих дурных мыслей.
Она вернулась домой после вечерней смены и увидела меня в своей ночнушке – как две капли воды похожего на нее. Я стоял над раковиной на красном металлическом стуле и пытался отстирать пятно с ее любимых трусиков.
Джексона она застала спящим рядом с таким же непристойно красным пятном на белом покрывале, которое мы умыкнули из гостиницы.
Она завопила так, что Джексон вскочил и с перепугу тоже заорал благим матом.
Она кричала, что он водит ее за нос. Что он трахается с кем попадя за ее спиной, пока она на работе. И больше всего она взбеленилась на то, что он позволил мне надеть тряпки, которые сам купил ей, – и теперь они пропали.
Теперь она непременно убьет меня.
Убить – это еще не самое худшее, что может произойти в жизни.
Я посветил фонариком на рыженького мальчугана, свет упал на его веснушчатое лицо. Он по-прежнему призывно махал рукой, словно уверяя, что все нормально и все у нас сложится.
По пути в больницу мы репетировали разговор с доктором. Мама не повезла меня в местную клинику – вместо этого мы пустились в долгий путь, в захолустную амбулаторию где-то в горах Вирджинии, где работали доктора, не любившие бумажной волокиты.
– Ну, рассказывай, как это тебя угораздило? – тоном экзаменатора спрашивала она меня, с сигаретой в руке, руль в другой, не сводя взгляда с шоссе, лишь изредка поворачивая голову, чтобы выпустить дым в окно.
– Я сам, – пробормотал я, чувствуя резь в желудке. Я сглотнул.
– Что – сам? Громче говори, громче! И глядеть им в глаза, понял? – Она заткнула выпавшую из прически прядь и чуть не прижгла себе ухо сигаретой.








