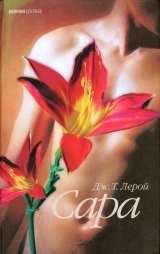
Текст книги "Сара"
Автор книги: Дж. Т. Лерой
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Мы обогнали бегущего Бадди, который одолел половину пути до города: он уже сбил пламя и, судя по всему, обгорел не так сильно, как Честер, но все же был в копоти и красный как вареный рак, а волосы на голове выжжены почти дотла. Мы даже не притормозили, чтобы рассмотреть его. Мы ехали, остановившись только чтобы заправить бак, мама расплатилась скатанной в трубочку бумажкой, которую извлекла из лифчика под майкой.
Мы ехали, пока не добрались до какого-то города размером побольше, чем тот, в окрестностях которого жили с Честером, и этот город был мне незнаком. Я окунулся в пустой сон без сновидений. Проснулся, когда она остановилась возле магазина «секонд-хенд», принадлежавшего Армии Спасения.
– Жди меня здесь, – ровным бесцветным голосом велела она. И, уходя, бросила напоследок: – Окон не открывать, думай об очищении мыслей и храни свои помыслы чистыми. – Затем она исчезла за обклеенными листовками дверями Армии Спасения.
Вернувшись, она заполнила салон запахом нафталина. Я заглянул в набитую сумку: вся одежда там была черного цвета.
– Твоего размера не было, мы покрасим то, что на тебе, чтобы уголь не узнал тебя, – монотонно произнесла она, трогая машину с места.
Остановились у аптеки. Здесь она купила черную краску для волос и противоядие. Она прочитала на ярлыке: «В случаях острого отравления…», многозначительно постучав ногтем по коричневой пластиковой бутылочке, и сунула ее под сиденье. Мы приехали на заправку «Мобил». Здесь мы уединились в женской уборной, заблокировав за собой дверь. Она приготовила раствор и намазала волосы мне и себе холодной черной краской.
Кто-то стал стучать в дверь.
– Уборная не работает, – крикнула она. – Проваливайте!
Мы сидели на кафельном полу, пока она отсчитывала время, когда краску можно будет смыть:
– Один Миссисипи, два Миссисипи, три Миссисипи, четыре…
Из уборной мы вышли с черными волосами, оставив за собой раковины, обведенные черной каймой. Она сняла майку, джинсы, свои серые кроссовки, белоснежный лифчик и трусики, оставив все это в бумажном пакете с рекламой пункта Армии Спасения под туалетной кабинкой. Теперь на ней был только блестящий черный плащ и черные ботинки на толстой рифленой подошве.
– Закупим провиант, выкрасим оставшуюся одежду, и черный уголь не узнает нас. – Она довольно улыбнулась, и мы проследовали к машине.
Несколько дней спустя меня выписали из больницы. Один из приходских проповедников дедушки отвез меня домой, его волосы персиково-рыжего цвета плотно облегали череп, как приклеенные. Все три часа дороги он читал вслух псалмы, сделав перерыв только для того, чтобы послушать дедушкину радиопроповедь на тему «Почему мы сгорим в вечной геенне огненной, если не спасемся по-настоящему».
Я глядел на белый пластиковый браслет на своем запястье, где багровыми буквами было выведено мое имя. Когда я впервые пришел в себя, там было написано «Джон Доу», [12]12
Лицо без имени.
[Закрыть]но, как оказалось, один из работников больницы знал моего деда, навел справки в полиции, и теперь я снова возвращался в свое прошлое, с напомаженными волосами, прямым пробором, в черных штанах из мягкой ткани, в белой накрахмаленной сорочке на пуговках-кнопках и курточке.
Прежде чем выйти из машины, остановившейся перед супермаркетом «Пиггли-Виггли», куда нам предстояло сходить, чтобы запастись черной краской и единственными «белыми» продуктами: «Принглз» и «Кэнада Драй», я достал из заднего кармана черный камешек и выложил его на панель перед ней.
Мама смотрела на малыша и долгое время ничего не говорила. Я хотел признаться ей в том, что случилось тогда, в подвале, перед пожаром: об угле, спрятанном под домом, о том, что я один во всем виноват, но вместо этого сказал только:
– Это ребенок.
Она понимающе кивнула и взяла его. После чего прижала камешек к сердцу и сунула в карман, не разжимая ладони.
– Спасибо, – прошептала она.
Я снова стоял в уставленном антиквариатом дедушкином кабинете, словно во сне вспоминая запахи лимонной мастики мозаичного стола, печеного хлеба, топот полуботинок по паркету, часы, отсчитывающие секунды, и правила из Библий в мягких замшевых переплетах, а также свисавшие с крючьев кожаные ремни.
Я прислушивался, ожидая угадать приближение его шагов, и в отсутствие этих долгожданных звуков осторожно приблизился к черной печке с открытой заслонкой, из которой скалилась решетка, напоминавшая тюремное оконце или почерневшие зубы каторжника. В ее пасти светился красный демон.
Я приложил руку к металлу как делал дома, когда становилось жарко: и рука мамы легла сверху, прижимая мою ладонь.
В машине она обернулась ко мне и стала говорить очень серьезно, откидывая слипшуюся прядь волос, сейчас напоминавшую язык сношенного ботинка.
– Мы с тобой – единственные, кто выжил и перенес проклятие. Все остальные сгорят заживо или будут отравлены.
Уголком глаза я видел, как болтают и смеются прохожие, выталкивая из магазина тележки со снедью, ничуть не обеспокоенные своей грядущей судьбой.
Под Рождество она всегда рассказывала мне эту сказку, приезжая домой ранним утром, пропахшая пивом, помадой и сигаретным дымом. Включая свет, она расталкивала и сажала меня в кровати и рассказывала, что случилось с ней на Рождество.
Это был древнегерманский обычай – а мой дедушка был родом из германцев, как и те гортанные слова, что она выкрикивала бабушке поздней ночью, когда меня увезли.
Над камином вывешивалось десять чулок – по числу детей в семье, а пустые башмачки ставились под елкой. В Рождественское утро все выстраивались перед дверью в коридоре, в праздничных нарядах, притихшие и взволнованные, ожидая, пока бабушка не запустит их в комнату. Они чинно шли к камину и по весу чулка определяли, радоваться им или горевать.
– Я знала, что в моем в чулке, и по перешептываниям братьев узнавала, что у них, – бормотала она, похлопывая себя по колену. – У них случались «сюрпризы», но не у меня. – Она забросила руку мне на плечо. – Я всегда была примерной девочкой. – Она встряхнула головой, как норовистая лошадь, откидывая с глаз волосы, запутавшиеся в ресницах. – Образцовой девочкой. И вот… – Она запустила пальцы в пряди, пропитанные табачным дымом. – Каждый находил у себя в чулке сласти или розгу… Джейсон и Джозеф получили в подарок березовые прутики, а мы с Ноа и Джобом – куски угля. – Голос ее сорвался в крик: – Чертов уголь! И вот…
Она встала, пьяно раскачиваясь над кроватью.
– Я учила стихи, псалмы, целые главы, служила уличным проповедником, раздавала на углу листовки и брошюрки, ходила на курсы изучения Библии, делала все, что только можно… – Она взмахнула руками, как будто сдергивая скатерть со стола. – Сестры набивали рот пирожными и пересчитывали монетки, насыпанные в чулки и башмачки, а Джейсон с Джозефом шли на рождественскую экзекуцию… Я тоже пошла, понеслась как молния! – Она привалилась к стенке. – С чулком в одной руке и башмачком в другой. Вот так…
Она вытянула перед собой руки.
– «Что это значит?» – спросила я его, не успел он еще повернуться, старый черт! – Она прыснула. – Так он мне ничего и не ответил. Ни-че-го. Сказал только, чтобы я немедленно вышла из кабинета!
И она изобразила голосом, похожим на дедушкин, произнесенные им слова.
– «Но для чего это?» – снова кричала я, требуя объяснить смысл такого подарка, его аллегорию, что он в это вкладывал. И знаешь, что… знаешь, что он ответил? – Она хлопнула по стене, хохоча. – Он не ответил мне ничего, ни-че-го! Я просто стояла как последняя дура, с этим дурацким носком и ботинком. У него там был дико дорогой персидский ковер, чертов антиквариат! И я размолотила этот уголь до последнего кусочка – растолкла в пыль на его вонючем ковре! – задыхаясь от смеха, выговорила она.
Опираясь о стену, она медленно скользнула по ней вниз, не переставая смеяться.
– И знаешь, что он сказал? – Она захлопала рукой по полу, слезы катились градом от смеха. – «Ты порочна и зла в своем сердце», вот так!
Она зафыркала, затем стала хватать воздух ртом, так что уже непонятно было, плачет она или смеется.
– Не прошло и года после этого случая, как ты появился на свет – он знал, о чем говорил, старый черт! – Она легла на пол, продолжая смеяться, пока не заснула.
Иногда у нее в руке торчала иголка, которую приходилось вынимать, протирая это место туалетной бумагой, а она в полубессознательном состоянии бормотала, рассказывая об остальном: как ее потом заставили чистить ковер, относить угольные крошки в печь и разжигать огонь. Она стояла, кипя от возмущения, ожидая, когда он соизволит ее простить. Ждала, пока он порол братьев. Стояла и ждала несколько часов, пока семейство ходило на службу в церковь, сжимая кулаки и глядя, как выгорают последние остатки угля вместе с ее гневом, пока ее отец читал проповедь. Ждала, пока он вернется, снимет свой пасторский сюртук, повесит его и разгладит. Затем она получила свою порцию розог, ни разу не вскрикнув. И после этого продолжала спрашивать, что она такого сделала.
Она сняла блузку, по его приказу, прикрывая еще только обозначившиеся груди. Тогда он встал над ней, схватил за волосы и поволок к квадратной чугунной плите.
И никто не пришел, когда она кричала – когда ее прижимали к дверце печи.
Никто не сказал ни слова о горячей решетке, отпечатавшейся на ее теле, словно тюремное оконце или врезавшиеся в спину отпечатки чьих-то зубов.
– Мы сможем перехитрить его, – говорила она, поглядывая на прохожих. – Если станем такими же черными и хитрыми, как уголь, который ждет своего часа, – мы никогда не сгорим. – Она показала на тех, кто входил в раздвигающиеся стеклянные двери. – А эти пропадут, все до единого.
На лице ее снова появилась сердито-брезгливая гримаса:
– Мы выживем, потому что знаем силу и зло, которые кроются в угле.
Она вышла из машины, и я последовал за ней.
Вива Лас-Вегас
Вдоль пустынных топазового цвета гор, под теснящимися деревьями, наша машина путешествовала в этом далеком изолированном мире. Никакого света из баров и клубов сюда не проникало и ничто не отвлекало, всюду царила лишь безмятежно дикая природа, не нарушаемая даже эхом цивилизации. Жизнь изменилась, к ней приходилось привыкать.
Я сидел рядом с ней. Я был нашим штурманом. На коленях у меня была разложенная карта дорог. Я – хранитель карт. Я пальцем меряю тонкие жилки дорог, прикидывая расстояния. Я держу в памяти названия лежащих впереди городов, деревень и станций, точно спасатель, помогающий искать родственников по списку выживших в катастрофе.
– Ты уверен, что мы правильно едем? – кусала она припухшую губу.
– Верь мне, – чинно прокашлявшись, я ерзал на сиденье, стараясь выглядеть чуть выше и старше. Сейчас она была точно гусеница, ползущая по моей руке. Такое ощущение было мне по душе. – Следи за дорогой: сейчас будет Таунавачи, – распорядился я.
Она склонилась к рулю и сощурилась. Ее желтые волосы, раздуваемые ветром, пересекали диск позднего октябрьского солнца, точно стрелка, показывающая три часа дня. Вид ее был до того великолепен, что у меня защемило под ложечкой.
– Ну-ка, подсказывай дальше, что затих! – Она нетерпеливо подпрыгивает на сиденье, сверкая на меня глазами. Я смеюсь.
– Ты еще не доехала.
– Как я устала от этих чертовых деревьев и чертовых гор! – бьет она по баранке.
А я – нет. Ведь это как в сказке: мы точно Гензель и Гретель, заблудившиеся посреди древней чащобы.
– Таунавачи… смотри! Мы проехали!
Она резко свернула, завизжали покрышки.
– Ну вот, чуть не проехали из-за тебя, – заныла она.
– Да нет же, – заморгал я растерянно.
– Проехали! Черт возьми, а мне нужно выпить, сигареты кончились, валиум… и все остальное!
Желудок у меня сжался.
– Ну, хорошо, давай проедем еще немного вперед.
Деревья за окном уже редели.
– Вегас такой большой город, там можно разжиться деньгами… – она похлопала по карману своих джинсов.
– Разве детей туда пускают? – посмотрел я на нее.
– Да у меня же есть водительские права.
– Нет, я имею в виду… – У меня сдавило горло.
Тут она вмешалась:
– Далеко еще? Мое терпение вышло!
– Дальше. Еще дальше, прибавь газу.
– Мужики готовы все отдать за молодую горячую блондинку.
По шоссе перед нами пробежал олень. Она даже не обратила внимания.
– Мне чертовски везет, сам Сатана помогает играть на «одноруких бандитах», клянусь. И мужиков окрутить так легко…
Я покрутил рукоятку стеклоподъемника, и холодный ветер взъерошил волосы. Я поежился, наполняясь странным возбуждением. Отчего-то я подумал о птицах, которые могут сейчас залететь в окно и похитить мои дорожные карты, точно хлебные крошки в сказке про Гензеля и Гретель, которыми они отмечали дорогу. И что тогда? Мы заблудимся здесь навсегда.
– Теперь куда? – взглянула она с трогательно-доверчивым выражением. В глазах ее промелькнула прозрачная зелень листвы, и весь проносящийся мир.
– Так, теперь поворот налево… да, правильно. – Моя уверенность тут же отразилась в ее полных губах, беззвучно повторивших указания.
– Сюда? Так?
– Да, теперь через ручей и еще раз влево.
Схема развилок после каждого поворота и все направления хранились в моей памяти, наполняя меня силой и уверенностью.
– Прибавь газу, – скомандовал я.
– Ты тоже можешь выиграть автомобиль, я попробую это устроить. – Она размахивала руками во время разговора, почти забыв про руль. – И умчаться из этой зловонной лужи.
Острый приступ боли в животе вынудил меня согнуться пополам.
– Прибавь, – выдавил я, чувствуя, как застучало сердце и заурчало в желудке.
– Что такое? – обернулась она.
– Рассол из-под оливок, – откликнулся я, морщась.
– Что ты сказал?
– Быстрее, быстрее! – я почти кричал, ветер взвыл в ушах.
– Перестань командовать. – Однако она выжала газ.
– Только не останавливайся! – истерически смеялся я.
– Что?
Она тоже засмеялась.
– О, ты полюбишь Лас-Вегас, – ударила она задорно по баранке.
– Быстрее, – просил я.
– Я не могу ждать, клянусь! – Она вытерла губы.
– Не останавливайся, – раскачивался я, обхватив руками колени.
– Эй, – она стала притормаживать. – Слушай, мы, кажется, пропустили поворот?
– Нет! – закричал я.
Рука ее взлетела быстро, точно в фокусе, превращаясь в кулак, и ткнула меня, довольно чувствительно, в бедро. Я тут же стих. Она продолжала притормаживать. Деревья выводили к россыпи камней и кустарнику.
– Где мы теперь? – спросила она голосом, уже ничуть не похожим на впавшую в истерику Гретель. Я неохотно развернул карту.
– Поворот должен быть где-то впереди. Мы еще не доехали.
– Ты что себе думаешь! – снова ткнула она меня кулаком.
Я старательно сложил карту.
– Что такое? – спросил я как можно спокойнее.
– Не прикидывайся, – сверкнула она глазами. – Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.!
Я неуверенно улыбнулся ей и вздохнул.
– Я не собираюсь сбить тебя с дороги, если ты это имеешь в виду. Поворот впереди, – пробормотал я, поднимая стекло.
Теперь перед нами проносилась пустота: полынь, перекати-поле и голая песчаная равнина.
Я забрался за спинку ее кресла, пристроился, точно в колыбели, там, где оно плавно изгибалось. Но небо все равно нависало надо мной, на нем не было ни одной облачной тени. Словно большое увеличительное стекло, сквозь которое меня рассматривал Бог.
– Видишь огни? Вон там город, мы сбились в сторону. Там он меня ждет. Ох и повезет сегодня кому-то, ох, повезет… – она забарабанила пальцами по панели.
Я съежился, прижимая к себе аккуратно сложенные карты, в которых больше не было необходимости.
– Но в этот раз повезет не какому-нибудь пьяному ковбою вроде Дуэйна, помнишь его? – рассмеялась она. – Нет, теперь я заполучу женатого профессионала. – Она причмокнула.
Я стал подкручивать ее сиденье, опуская спинку вниз.
– Получишь нового папочку! Пора тебе устроить взбучку, – пробормотала она. – Как раз самое время.
Я вжался лбом в холодную искусственную кожу, чувствуя, как мама налегает спиной.
– Да ты же, наверное, проголодался! – Я окунулся в тошнотворный запах винилового кожзаменителя. – Пончики свои уже слопал?
Я усмехнулся про себя и залез под сиденье. Оттуда я достал сплющенный рулет с вареньем и выставил перед собой. Спирали его закручивались как на мишени. Желудок заурчал, откликаясь на прилипчивый аромат.
– Что не доел? Ты же голодный. – Она поправила зеркальце, чтобы лучше меня видеть.
– Хочешь? – Я покрутил рулетом, но ответа не получил.
– Наверняка же голодный.
Я снова поманил ее рулетом, чувствуя голодную резь в животе.
– А я чувствую волчий голод! Большой сочный бургер – вот что бы меня сейчас спасло, побольше жареной картошки и кетчупа… как ты на это смотришь?
Я зажмурился и внутренне напрягся, точно солдат, наступивший на противопехотную мину. На миг в желудке все унялось.
– Ну, давай, поднимайся, что там застрял!
Она больше не спрашивала, куда ехать.
Я взобрался на сиденье с ногами и уставился на распахнувшийся перед нами пейзаж, напоминающий размытый засвеченный снимок. Глазу не на чем было зацепиться, как-то запечатлеть происходящее – все проносилось словно бесконечное песчаное море.
– Через милю должен быть дайнер, – сказала она вдруг. Ее глаза неотрывно смотрели вперед. Она уперлась взглядом в дорогу, думая только о Вегасе. Я раздвинул ноги по сторонам. Она включила магнитофон. – Обожаю эту песню. Это же «Убитые Кеннеди»!
Она стала подпевать:
– «Яркий огненный город…»
Я стал поднимать над сиденьем расставленные ноги.
– «Окатил мою душу…»
Я посмотрел на нее в зеркале, как она раскачивает головой направо и налево, вид у нее был как у ребенка, потерявшегося во сне.
– «Окатил мою душу…»
Я почувствовал, что больше сдерживаться не могу. Мои внутренности действовали по собственному произволу.
– «Ог-нем…»
Я ждал, не мигая уставившись в зеркало.
– «Вива Лас-Вегас, Вива Лас…»
Она повела носом.
– Ты, что ли, испортил воздух?
Она бросила взгляд на меня в зеркале. Я улыбнулся.
Она фыркнула:
– А ну прекрати!
Я вспомнил фильм, в котором герой держит ладонь над огнем в доказательство выдержки и верности.
– Сукин сын, чертов ублюдок!
Она обернулась, продолжая рулить, и я тут же спрятал руки под себя.
– Хочешь все испортить, опять! – всхлипывала она, и удары посыпались мне по ногам, груди, животу – всюду, где ей удавалось достать. – Ты всегда так, всегда. Я тебе жизнь отдала, а ты!
Я продолжал бессмысленно ухмыляться, когда почувствовал, что-то плотное навалилось на нас, прижимая ее ко мне.
– Я всем для тебя пожертвовала, неблагодарный!
По ее лицу заструились слезы. Я придвинулся поближе, становясь доступнее для ударов. Прикусив губу, я продолжал улыбаться.
– Поганый выродок! – Она продолжала вести машину, тыча в меня кулаком и то и дело оглядываясь на дорогу. – Я так старалась, столько потеряла ради тебя.
У меня вырвался невольный смешок, и внезапно впереди вспыхнул белый неон дайнера «Долли», озарив ветровое стекло и весь салон с ее летящим для удара кулаком, точно луч проектора из будки киномеханика.
Молча она отвернулась, вытерла нос рукавом и заехала на парковочную площадку. В наступившей тишине хруст гравия прозвучал подчеркнуто громко. Я сидел, бессмысленно ухмыляясь.
– Но ты же наверняка проголодался.
Внезапное изменение тона было привычным, но все равно настораживало. С какой-то холодной заботливостью звучал ее голос, точно старательно разутюженный, без складочки, без морщинки.
Она вышла, открыла багажник, порылась там и, обошла машину с моей стороны, открыв мне дверь.
– Сходи, милый, приведи себя в порядок, – она вручила мне пакет с моими вещами и как-то отчужденно потрепала по затылку. – Вот тебе десять долларов, купишь нам по гамбургеру, договорились?
Она шмыгнула носом и снова утерлась, отводя глаза в сторону Я ступил на серый гравий и на мгновение заглянул ей в глаза: взор ее был прикован к огням Лас-Вегаса.
– Я пока заправлюсь на «Шевроне» – мотнула она головой. Рука ее выскользнула из моей ладони, и она поощрительно похлопала меня по спине, с некоторой настоятельностью, словно поторапливая.
Неуклюже переступая, я, как робот, направился в указанную сторону. Она что-то напевала, усаживаясь в машину. Я продолжал идти, бессмысленно улыбаясь. Вот она включила зажигание. За витриной ресторанчика люди, залитые желтым искусственным светом, беседовали, смеялись, ели. По ногам у меня с каждым шагом текло все больше мочи.
Сзади скрипнули протекторы, выстрелив гравием. За витриной какой-то ребенок запихивал вилкой пирожное в рот. Колеса скатились на асфальт.
Я оглянулся: улыбка намертво приклеилась к лицу, когда я смотрел вслед рванувшему с места автомобилю.
Я замер, согнувшись, словно от удара в живот, и смотрел, не дыша, как габаритные огни проплыли мимо заправки «Шеврон», не задерживаясь, и умчались, словно бесплотный дух, по ночной трассе.
Красно-оранжевые огоньки постепенно уменьшались – пока не исчезли совсем.








