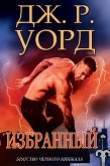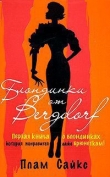Текст книги "Хранители Братства (ЛП)"
Автор книги: Дональд Уэстлейк
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
– Хотелось бы, чтобы все было так просто, – сказал брат Декстер. – Но меня гложут сомнения.
– Люди, с которыми я разговаривал, не слишком обнадеживают, – кивнул брат Иларий. – То, как сейчас используется здание – будь там монастырь, больница или что-то еще – не связано с тем, получит ли оно статус достопримечательности. Мне сказали, что Комиссия по достопримечательностям избегает присваивать статус любому строению, уготованному под снос. Видимо, есть какие-то юридические нюансы.
– Но ты пока не знаешь наверняка, – сказал брат Оливер. – И узнаешь лишь в понедельник.
– Да, в понедельник я кое-кому позвоню, – сказал брат Иларий, – и сообщу вам о результате.
– Отлично. Я думаю, это вселяет надежду. – Брат Оливер огляделся. – Кто-нибудь еще?
Воцарилась тишина. Мы переглянулись, затем вновь посмотрели на брата Оливера. Он сказал:
– В таком случае, я…
Брат Джером откашлялся с такой силой, что задребезжали стекла в окнах. Он подтянул рукава три или четыре раза, притопнул ногами под столом, чтобы удостовериться, что под ним надежная поверхность, опустил брови чуть ли не до середины щек, шмыгнул носом и произнес:
– Не хочу уезжать.
Мы все приготовились к куда более апокалиптическому заявлению. Пока остальные в изумлении таращились на брата Джерома, брат Клеменс похлопал его по плечу – рукав снова сполз – и сказал:
– Я знаю, Джером. Здесь наша обитель. Мы нуждаемся в ней, как рыбы нуждаются в воде. И мы сделаем все возможное, чтобы спасти монастырь.
– Молитва, – сказал брат Джером.
– Мы молимся, – ответил брат Клеменс. – Каждый из нас.
– Не все, – уточнил брат Джером.
Брат Клеменс посмотрел на брата Оливера. Тот слушал, задумчиво нахмурившись, затем сказал:
– Я согласен, брат Джером. Мы старались держать происходящее в тайне, чтобы не тревожить остальных. Но так больше не может продолжаться. Нам придется рассказать им, хотя бы ради того, чтобы объединить их молитвы с нашими.
– Я поддерживаю, – сказал брат Клеменс, и остальные кивнули в знак одобрения.
– Завтра утром, – сказал брат Оливер. – После мессы.
Он обвел нас сумрачным взглядом и остановил его на мне.
– Брат Бенедикт, – огласил аббат.
– Да?
– Ты собираешься сегодня за «Санди Таймс»?
– Хотелось бы.
Брат Оливер на минуту прикрыл глаза, затем снова взглянул на меня.
– Будь так добр, – сказал он, – не выискивай там больше ничего.
Глава 6
Но я все-таки кое-что нашел. Вернее, она нашла меня. Но это случилось после того, как я сходил на исповедь к отцу Банцолини.
Войдя в исповедальню, я волновался больше обычного, словно встал не с той ноги – или не с того колена – и ляпнул:
– Благословите меня, отче, ибо, думаю, я влюбился.
– Что? – Никогда прежде я не видел отца Банцолини в таком раздражении, а он был настоящим виртуозом раздражения.
– Ох, простите, – сказал я и начал заново, на этот раз как следует: – Благословите меня, отче, ибо я грешен. С моей последней исповеди минуло три дня.
– И за три дня ты успел влюбиться?
– Эх…
– Влюбиться в плотском смысле?
– Ох…
– В ту девушку из телерекламы?
– Что? О, нет, не в нее.
– А ты легкомыслен в своих увлечениях, да, брат Бенедикт? Что ж, можешь поведать мне обо всем.
И я рассказал ему. Отец Банцолини уже знал о нависшей над монастырем угрозе сноса, поэтому я приступил к рассказу с начала моего Странствия, с обстоятельств моей встречи с Эйлин Флэттери Боун, и с того, как это повлияло на мой разум – во сне и наяву. Пока я говорил, легкие раздраженные и нетерпеливые вздохи исповедника постепенно стихали, и в конце его голос зазвучал непривычно мягко и спокойно.
– Брат Бенедикт, – сказал он, – полагаю, ты стал жертвой того, что называют культурным шоком. Однажды я написал статью об этом для религиозного журнала.
– Не знал, что вы писатель, отец Банцолини.
– Весьма скромный, – скромно сказал он.
– Я бы хотел почитать что-нибудь из ваших работ.
– Я принесу несколько вырезок, – небрежно сказал он. – Но вернемся к культурному шоку. Такое иногда случается с людьми, когда их внезапно выбрасывает из той культуры, той среды, в которой они жили и чувствовали себя комфортно. Например, волонтеры из Корпуса мира испытали культурный шок, когда их неожиданно отправили в захудалую центральноамериканскую деревню, где все вдруг стало другим. Начиная с самых основ: отношения к еде, сексу, умершим. Некоторые люди в такой ситуации просто не могут работать, впадают в ступор. Другие утрачивают связь с реальностью и пытаются заставить реальность соответствовать своим предвзятым представлениям о том, каким должно быть общество. Есть множество различных симптомов, но причина всегда одна – культурный шок.
У меня возникло ощущение, что мне уже не обязательно читать статью отца Банцолини на эту тему, потому что я ее только что прослушал.
– Очень интересно, – сказал я.
– Как нетрудно догадаться, эта проблема характерна для миссионерства, – продолжил он. – Считаю, что именно это случилось и с тобой, брат Бенедикт. За последнее десятилетие ты так привык к образу жизни в стенах этого монастыря, что не выдержал внезапного перемещения в совершенно иную среду. Говоря уличным языком: это выбило тебя из колеи.
– Культурный шок.
– Воистину так, – подтвердил отец Банцолини. – Чувства, что ты питаешь к той девушке, безусловно реальны, но они далеко не так особенны, как тебе кажется. На ее месте могла оказаться другая девушка, любая девушка из плоти и крови, что встретилась тебе в новом непривычном окружении. Как мы уже знаем, благодаря просмотру телевизора, целибат не полностью подавил природу твоей сексуальности, брат Бенедикт.
– М-м.
– Под влиянием культурного шока, – сказал отец Банцолини, – ты искал нечто знакомое, на что мог бы отреагировать привычным образом. Это и оказалась та девушка; ты отреагировал на нее так, словно увидел по телевизору.
Вряд ли. Но с духовником на исповеди не спорят.
– Очень интересно, – повторил я. И я не лгал. Отец Банцолини мог заблуждаться, как Мартин Лютер,[30]30
Немецкий христианский богослов, реформатор и создатель протестантизма, одно из направлений которого названо его именем – лютеранство. Был отлучен от католической церкви, объявлен еретиком, так что с точки зрения доброго католика Мартин Лютер – яркий пример глубокого и злостного религиозного заблуждения.
[Закрыть] но был интересным собеседником.
– В прошлый раз ты спрашивал, – припомнил исповедник, – могут ли сны быть греховными. Обычно я отвечаю, что сам сон следует считать нейтральным, но твое отношение ко сну может быть греховным. К примеру, если тебе приснится убийство – сон не будет равнозначен греху. Но если после пробуждения ты будешь наслаждаться мыслью об убийстве человека, что ты видел во сне – такое отношение определенно будет грехом.
– Ну, там было не убийство, – сказал я. – Но, полагаю, это был грех.
– Не торопись, – предупредил меня отец Банцолини. – Я же сказал, что обычно так отвечаю. Но, по правде говоря, брат Бенедикт, я считаю, что все, происходящее с начала твоего Странствия, для тебя равноценно сну. Жертва культурного шока не более виновна в своих мыслях и действиях, чем больной в бреду. Я даже написал статью о моральной ответственности, и как на нее влияет расстройство сознания. Могу принести тебе вырезки, если хочешь.
– Очень хочу, – сказал я. Я и не подозревал, какие глубины можно открыть в самых заурядных, на первый взгляд, людях!
– Захвачу в следующий раз, – сказал он. – Что касается твоей нынешней проблемы, то, думаю, стоит попросить брата Оливера больше не брать тебя ни в какие поездки, что он предпринимает.
Моя реакция на эти слова удивила меня самого. Мне бы стоило обрадоваться; я должен был ощутить облегчение от того, что, наконец, получил законный повод прекратить все эти Странствия. Но я не радовался и не чувствовал себя легче. Наоборот, меня охватило чувство опустошения, внезапное ощущение большой потери – словно у меня отобрали что-то важное, жизненно необходимое.
Да, похоже я и правда пострадал от культурного шока. И с ним покончили как раз вовремя.
– Да, отец, – сказал я. – Именно так я и поступлю.
Еще одна-две вылазки наружу, и я мог бы утратить свое призвание.
– И пока последствия недавних Странствий не пройдут, – сказал отец Банцолини, – не думаю, что тебе стоит слишком тревожиться из-за случайных мыслей, что могут промелькнуть в голове. Сейчас ты не в полной мере несешь ответственность.
– Рад это слышать, отец, – сказал я.
***
Один раз «Отче наш» и один раз «Аве, Мария»! Я почувствовал укол совести, пока торопливо исполнял свое покаяние, словно каким-то замысловатым образом обвел отца Банцолини вокруг пальца и теперь мог наслаждаться плодами своей хитрости.
Но, наверное, я был слишком легкомыслен и не мог долго переживать. К тому времени, как я быстро прочел молитвы и направился к выходу из часовни, я уже не испытывал чувства вины. А ведь у меня были две причины, имей я достаточно силы воли, чтобы это признать. Во-первых, мое бессовестное заискивание перед отцом Банцолини, итогом которого стало самое легкое покаяние за всю историю моих исповедей. А во-вторых, чувство утраты, что я испытал и утаил, когда отец Банцолини сказал, что мне не следует больше путешествовать.
Но я не только не был сломлен этими доказательствами своей никчемности, но даже гордился ими. Легкое покаяние, на мой взгляд, уравновешивало множество полученных раньше тяжких покаяний, которые я не заслуживал. И мысль о том, что философия Странствий не просто чужда мне, но и опасна для моего здравомыслия, приятно будоражила. В самой идее Странствия появилось теперь нечто притягательное, похожее, возможно, на то, что наркоман испытывает к своему дурману. Опасное, но захватывающее чувство, по сути захватывающее, потому что опасное.
Эх, жаль, но мое увлечение Странствиями подошло к концу. Теперь я должен вернуться к приемлемому уровню зависимости – еженедельному походу за «Санди Таймс».
Время пришло. Я направился в канцелярию за шестьюдесятью центами и разрешением покинуть монастырь. За столом дежурил брат Эли, в окружении стружек от резьбы по дереву, которой он занимался.
Брату Эли, задумчивому стройному молодому человеку с вытянутой шеей, было чуть за двадцать. После, казалось бы, нормального калифорнийского детства, он угодил в армию и попал во Вьетнам, где и дезертировал. Он много времени провел в тайном Странствии по Азии и попутно освоил искусство резьбы по дереву, которым, как он утверждал, три года зарабатывал на жизнь. Нелегально вернувшись на родину, он два года назад предстал перед дверью нашего монастыря, заявив, что слышал о нас в одном буддийском храме, и что его собственный опыт Странствия согласуется с нашей философской позицией. Молодой человек спросил: не возражаем ли мы против присоединения к нашему братству беглеца, находящегося в розыске? Брат Оливер заверил его, что законы человеческие, будучи преходящими, противоречивыми и зачастую ошибочными, значат для нас гораздо меньше, чем законы Божьи. Так этот молодой человек отказался от имени, запятнанного преступлением с точки зрения властей, и стал братом Эли, резчиком по дереву.
О, да, резчиком по дереву. Худощавые Иосифы, шагающие рядом с дородными осликами, несущих еще более дородных Марий, женоподобные ангелы, откатывающие массивные валуны от символических пещер, волхвы верхом на верблюдах, святые на коленях, мученики в последние минуты жизни – все это находил его трудолюбивый резец, скрытое в обычных кусках дерева. И Иисусы, уйма Иисусов: Иисус благословляет, Иисус постится, Иисус проповедует, Иисус воскрешает из мертвых, Иисус позволяет омывать свои стопы, Иисус несет свой крест, Иисус, пригвожденный к кресту, Иисус, снятый с креста.
Если брат Эли когда-нибудь станет аббатом, никто из нас не будет спасен больше, чем он.
А пока мы быстро уладили наши дела. Брат Эли поприветствовал меня, без заминок выдал шестьдесят центов, попрощался и вернулся к Мадонне с Младенцем, обретающими форму из очередного куска дерева (привет брату Оливеру!). А я вышел наружу.
То ли у меня разыгралось воображение, то ли мир сегодня и правда был не таким, как обычным субботним вечером. Обычное сияние огней казалось более резким, суета – более неистовой. Опасность и безумие, казалось, таились за каждым фасадом и за каждым лицом на Лексингтон-авеню. Я шагал быстрее, чем раньше, и получал меньше удовольствия от этой вылазки. И даже газетчик, продавший мне воскресный номер, казался сегодня не таким уж знакомым и дружелюбным.
– Добрый вечер, отец, – сказал он как обычно, но тон отличался.
На обратном пути я остановился у привычной урны, собираясь избавиться от ненужных разделов газеты: объявления, путешествия, бизнес, рекламные приложения. Но, дойдя до раздела «Недвижимость», я остановился. Может, стоит все-таки сохранить этот раздел? Возможно, более тесное знакомство с миром недвижимости не помешает нам в ближайшие недели. Я вернул раздел в пачку сохраненных и поспешил домой.
Должно быть, она поджидала меня. Я шел по 51-й улице, до дома оставалось всего полквартала. Эйлин Боун вышла из автомобиля, припаркованного чуть впереди, обошла капот и встала на тротуаре, в ожидании, когда я с ней поравняюсь.
До нее оставалось около дюжины шагов; достаточно близко, чтобы ясно разглядеть ее в свете уличных фонарей, и достаточно далеко, чтобы уклониться от встречи. Я мог бы развернуться, возвратиться на Лексингтон, повернуть налево на 52-ю улицу, снова налево на Парк-авеню, миновать бутик «Задок» и пройти те же полквартала до дома. Вероятно, именно так мне и следовало поступить.
Но я поступил иначе. Я сделал двенадцать шагов вперед, крепко сжимая газету и глядя прямо на Эйлин. Она была в брюках, темном свитере и удлиненной куртке до бедер. Она выглядела высокой, стройной и мрачно красивой. Она казалась утонченным воплощением каждой искрящейся угрозы, что я ощущал сегодня вечером в воздухе.
Я остановился, подойдя к ней. Казалось несообразным просто кивнуть, сказать «привет» и пройти мимо, поэтому я остановился. Но первым заговорил не я, а она.
– Здравствуйте, брат Бенедикт, – сказала Эйлин.
Ее улыбка и тон голоса поставили меня в тупик, я не мог угадать, что за ними скрывается. Какие-то оттенки юмора и какие-то нотки серьезности переплетались в ее голосе, взгляде, положении головы, линии губ, и я просто позволил всему этому охватить меня, как русской симфонии, и даже не пытался искать смысл.
– Подбросить вас до дома? – спросила она.
– Это недалеко, – ответил я.
– А мы поедем дальним путем, – сказала она. Затем она немного помрачнела и добавила более серьезным тоном: – Я хочу поговорить с вами, брат Бенедикт.
– Мне жаль, – сказал я, – но я непременно должен вернуться…
– О вашем монастыре, – добавила Эйлин. – Насчет его продажи. Возможно, я могла бы помочь.
Эти слова заставили меня остановиться. Хмуро взглянув на нее в попытках разгадать, я спросил:
– Почему?
– Вы имеете в виду «как?» – поправила она.
– Нет, я имею в виду «почему?» Ведь это ваш отец продает этот участок.
– Это одна из причин, – сказала она. – Но могут быть и другие. Я надеюсь, вы расскажете мне.
– Брат Оливер – вот, кто…
– Нет, брат Бенедикт – вы. – Во взгляд Эйлин вернулся юмор, заставляя ее глаза сверкать и оставляя мягкие тени на скулах. – Я чувствую, что могу доверять вам. Если кто-то и может донести до меня эту историю со стороны монастыря, то это вы.
– Завтра, – предложил я. – Если вы придете завтра, я, возможно…
– Я уже здесь и сейчас. Завтра я могу передумать.
– Тогда, зайдем в монастырь. Я покажу вам арх…
– Нет, брат Бенедикт, – прервала меня Эйлин. – На моем поле, не на вашем.
И она указала на свой автомобиль. Такой же длинный, гладкий, изящный, справный и блестящий, как его владелица. Эйлин была права. Автомобиль был в таком же смысле ее, как монастырь был мой.
– Не думаю, что смогу получить разрешение… – начал я.
– Зачем? Мы поговорим десять минут, после чего я высажу вас у дверей монастыря.
Я покачал головой.
– Нет. У нас есть правила.
Эйлин начала терять терпение:
– Я уже жалею, что приехала сюда, брат Бенедикт. Может, мой брат был прав в том, что вам, монахам, безразлично, что с вами может случиться.
– Я спрошу разрешение, – сказал я и добавил, показав газету, – Отнесу ее и спрошу брата Оливера.
Эйлин смерила меня изучающим взглядом, словно пытаясь определить, является ли моя настойчивость проявлением слабости или силы. Затем отрывисто кивнула и сказала:
– Ладно. Я подожду снаружи.
***
Я нашел брата Оливера в калефактории, где он наблюдал за боксерским поединком братьев Перегрина и Квилана. Целью занятий боксом являлось скорее оздоровление, чем выход агрессии – это была часть комплекса упражнений, предложенных братом Мэллори, бывшим боксером полусреднего веса, который теперь исполнял роль судьи, тренера и обоих секундантов.
Брат Перегрин, бывший владелец летнего театра, смотрелся нелепо в своей длинной коричневой рясе и с огромными шестнадцатиунцовыми перчатками на руках, а двигался, как марионетка с перепутанными нитями. Так же странно выглядел и брат Квилан. Они кружили друг вокруг друга, как двойная звезда, а брат Мэллори энергично метался из стороны в сторону, словно перед ним разворачивалась невероятная по накалу страстей схватка.
В действительности же, брат Квилан пятился, описывая большие окружности, вытаращив глаза, приоткрыв рот и выставив перед собой руки в перчатках, а брат Перегрин наседал на него, нанося беспорядочный поток ударов по перчаткам Квилана.
Я дождался пока закончится раунд, прежде чем окликнул брата Оливера. Пока брат Мэллори перескакивал от одного угла ринга к другому, раздавая боксерам полезные советы и подбадривая, я рассказал брату Оливеру о своей встрече с Эйлин.
– Хмм, – сказал он, нахмурившись. – Чего она хотела?
Я вкратце пересказал наш разговор, упомянув про ее предложение и угрозу передумать до завтра.
– Вопрос в том, – подытожил я, – стоит ли мне соглашаться?
Брат Оливер погрузился в раздумья. Начался следующий раунд, и он заодно наблюдал за боем. Лицо брата Перегрина заливал румянец, в то время как брат Квилан побледнел, как смерть.
– Думаю, – произнес, наконец, брат Оливер, – тебе стоит пойти.
– Вы уверены?
– Не вижу в этом особого вреда, – сказал аббат.
Но я видел. Я не до конца понимал, в чем таился вред, но каким-то шестым чувством предвидел его, ощущал его привкус, и потому колебался. Я надеялся, что брат Оливер запретит мне покидать монастырь, тем самым снимая бремя ответственности с моих плеч. Но он дал разрешение – и что теперь мне делать?
– Хорошо, брат Оливер, – сказал я без воодушевления и покинул поле боя.
Итак, я отправляюсь в очередное Странствие. Очевидно, таков был мой долг, если благодаря Странствию я мог хоть как-то помочь спасти монастырь. И, должен признаться, я сам этого желал, несмотря на позицию нашего братства, несмотря на предостережения отца Банцолини, и несмотря на собственное понимание своей зависимости. Очень сильной зависимости. «Бог решил, что лучше творить добро из зла, нежели вовсе не допускать зла», – писал святой Августин в «Энхиридионе».[31]31
Полностью этот сборник религиозных наставлений называется «Энхиридион о вере, надежде и любви».
[Закрыть] Или, как сказал Оскар Уайльд: «Я могу противостоять всему, кроме искушения».
***
Забраться в салон автомобиля было довольно затруднительно. Благодаря какому-то чуду дизайна, сидение располагалось на несколько дюймов ниже уровня тротуара, а через дверной проем в форме замысловатого параллелограмма было нелегко протиснуться кому-то крупнее пончика. Однако мне все же удалось попасть внутрь, хотя и не слишком грациозно; в конце пришлось выпустить из рук все, за что я держался, и просто упасть спиной, погрузившись на несколько дюймов в белую обивку сиденья. А когда я подтянул колени к груди и подобрал полы рясы под ноги, мне потребовалось снова высовываться наружу, чтобы дотянуться до ручки и закрыть дверь.
Миссис Боун – я решил, что вернее будет называть ее так – забавляясь, наблюдала за моими потугами.
– Полагаю, вы не привыкли к таким машинам, – заметила она, когда я, наконец, завершил труды свои тяжкие.
– Я вообще не привык к машинам, – отозвался я. – Это моя первая поездка за последние десять лет.
– Ну надо же. – Эйлин удивленно подняла бровь. – И как вам тут?
Поерзав, я ответил:
– Успел забыть, насколько неудобные эти сиденья.
– Неудобные? Сотрудники «Дженерал Моторс» расстроятся, услышав это.
– Полагаю, ко всему можно привыкнуть, – сказал я.
– Так и есть, – согласилась Эйлин, переключила передачу, и мы отъехали от тротуара.
Ощущения были приятными, хотя и более ошеломляющими, чем от поездки на поезде. До внешнего мира было рукой подать, почти как если бы я шел пешком, но детали появлялись и исчезали с поразительной скоростью. Изящные руки миссис Боун едва заметно касались рулевого колеса, и мы избегали столкновений со всеми преградами, что попадались на пути.
Поначалу никто из нас не говорил. Миссис Боун сосредоточилась на управлении, как, впрочем, и я. Мы поехали на север до 55-й улицы, где повернули налево под светофором, который, как мне показалось, уже переключался с желтого на красный, затем промчались по Мэдисон-авеню и с неохотой затормозили перед красным сигналом на 5-й авеню. Во время остановки я мог отвлечься от дороги и изучить профиль Эйлин, отметив, что в своих грезах я слегка изменил ее образ. Я представлял ее более неземной, более текучей, плавной и нежной, не столь настоящей.
Сравнение вновь вызвало в памяти тот сон – а также мои мысли после утреннего пробуждения – и, боюсь, мои чувства неоднозначно проступили на лице, когда Эйлин, тоже ожидающая переключения светофора на 5-й авеню, повернулась ко мне. На ее лице появилась легкая усмешка, и она спросила:
– Да?
– Нет, ничего, – ответил я и отвернулся, уставившись сквозь лобовое стекло на огни и темноту субботнего вечера. – Куда мы едем?
– Просто катаемся.
Сигнал светофора сменился и автомобиль плавно двинулся вперед.
Пока мы катили на запад по 55-й улице, я заставил себя сосредоточить внимание на автомобиле. Он напоминал одну из тех небольших шикарных машин, что я иногда видел в телевизионной рекламе – создавая впечатление объемной формы, на самом деле автомобиль был довольно приземистым, и мог вместить с комфортом лишь двух человек. Имелось заднее сидение, но оно явно не предназначалось для людей с ногами. Тем не менее, автомобиль самым расточительным, пафосным и мимолетным образом демонстрировал то сочетание богатства и потакания своим желаниям, что зовется роскошью.
А миссис Боун, конечно, походила на девушек, что обычно снимаются в телерекламе подобных машин.
На 6-й авеню зажегся красный. Автомобиль остановился, миссис Боун вновь взглянула на меня и, о Боже, я снова таращился на нее, без сомнения с тем же двусмысленным выражением на лице. А япытался думать о машине. Эйлин нахмурилась:
– Как давно вы стали монахом?
– Десять лет назад.
Загорелся зеленый; Эйлин повернула руль, и мы свернули направо, на 6-ю авеню.
– Что ж, – сказала она, не отрывая взгляда от дороги, – это либо слишком давно, либо недостаточно давно.
Мне нечего было на это ответить, поэтому я отвернулся, глядя на поток машин. Перед нами появилось желтое такси с наклейкой на бампере, гласящей: «Верните Христа в Рождество Христово». Здравая мысль, лишь слегка омраченная тем, что надпись была сделана красно-бело-синими буквами, словно Иисус был типичным американцем, выдвинувшим свою кандидатуру на выборы. Но главное – доброе намерение, каким бы запутанным путем оно ни осуществлялось.
Насмотревшись на бамперную наклейку, я перевел взгляд за боковое окно, на мирскую суету. Вечером тринадцатого декабря, в начале одиннадцатого, улицы были заполнены людьми, в основном держащимися за руки парочками. Повсюду в витринах магазинов красовались языческие символы праздника – изображения и фигуры толстого бога изобилия в красном одеянии – но большинство пешеходов, казалось, были поглощены более личными развлечениями: кино, театр, ночной клуб, поздний ужин. Ни один из наших западных богов – ни аскет Иисус, ни сластолюбец Санта-Клаус – похоже, не владел мыслями горожан этим вечером.
«Верните Христа в Рождество Христово». Что дальше придумают? «Верните Иегову в правосудие»? Вы только задумайтесь об этом на минутку.
Как же изменились боги. Или, вернее будет сказать, как изменилось наше представление о Боге. Давным-давно люди жили в трепете перед суровым и неумолимым Богом-Отцом, громовержцем, карающим яростно и непредсказуемо. Европейцы заменили его Христом – более человечным Богом, своего рода сверхъестественным Лучшим Другом, приятелем, берущим на себя нашу вину. Что касается Святого Духа, то он всегда был слишком… призрачным, чтобы привлечь много поклонников. Что у Него за личность, какие черты характера, как верующим распознать Его?
Но даже Иисус Христос несет с собой некое ощущение строгости, чувство долга, риска и возможности поистине ужасной потери. Поэтому возникает веселый Санта-Клаус – бог настолько добродушный, что он даже не требует верить в него. Его живот и нос говорят о чрезмерной любви к еде и выпивке, и он, скорее всего, не прочь ущипнуть официантку за зад. Но это неважно, это лишь безобидное веселье, ребенок, резвящийся в каждом из нас. Век за веком мы очеловечивали Бога, пока, наконец, не опустили Его до нашего уровня и даже ниже; благодаря Санта-Клаусу мы теперь можем поклоняться не только себе, но и самым глупым своим сторонам.
– Четыре цента за ваши мысли.
Я повернул голову и удивленно уставился на миссис Боун.
– Что?
– Инфляция, – объяснила она. – Вы о чем-то задумались?
Я провел ладонью по лицу.
– Я размышлял об Иисусе Христе.
– Я ковбоя узнаю по наряду.[32]32
Строка из песни «Улицы Ларедо», американской ковбойской баллады.
[Закрыть]
– Что?
– Ничего, – сказала она. – Просто цитирую братьев Смазерс.[33]33
Дуэт популярных в 60-е эстрадных комиков и телеведущих, Тома и Дика Смазерс, исполнявших свою версию вышеупомянутой песни.
[Закрыть] Можем поговорить сейчас, если вы готовы вступить в ряды воинствующей церкви.
Я огляделся по сторонам. Звучит полнейшей бессмыслицей, но мы были не в городе. Хотя с годами я настолько развил свои способности к медитации, что мог полностью отрешиться от окружающей реальности, но ощущение времени у меня сохранилось, во всяком случае приблизительное. Я твердо уверен, что размышлял о проявлениях Бога не больше трех-четырех минут.
И все же мы были за городом. Или не совсем за городом. Вдоль дороги тянулась сплошная стена деревьев и кустов, но мы находились в потоке по-прежнему оживленного движения, а темноту рассеивал свет множества уличных фонарей.
– Где мы?
– Проезд в Центральном парке, – ответила миссис Боун. – Мы можем здесь кружить и разговаривать без спешки.
– Вы хотите говорить во время Странствия?
– Почему бы и нет?
– Что ж, – сказал я. – Можно попробовать.
– Хорошо. – Эйлин устроилась поудобнее, готовясь к серьезному разговору, и начала, не спуская глаз с машин, едущих впереди: – Дело обстоит так: срок аренды земли у моего отца истек, он продал участок, и вам грозит выселение, чтобы новый владелец мог снести монастырь…
– Так и есть, все верно.
– И почему же этого не должно случиться?
– Прошу прощения?
Эйлин пожала плечами, продолжая следить за дорогой.
– Мой отец – порядочный человек, – сказала она. – В своем роде. Он владелец собственности и хочет ее продать. В этом нет ничего плохого. Те, другие – как они зовутся?
– Дворфман.
– Нет, короче.
– ДИМП.
– Да, ДИМП. Эта компания – полезная и действенная часть нашей социальной системы, она обеспечивает рабочие места для трудящихся, запускает капитал в оборот, повышает престиж города, штата и нации. В этом тоже нет ничего плохого. А вы, монахи – вы ведь не сеете и не жнете, так? Да, вы тоже порядочные люди и никому не приносите вреда, но что вы можете предложить такого, что перевешивает право моего отца распоряжаться своей собственностью или пользу для общества, что приносит ДИМП?
– Не знаю, – ответил я. – Ничего не приходит в голову.
– Тогда почему бы вам просто не собрать свои манатки и не переехать? К чему вся эта шумиха?
Я не нашел ответа на эти вопросы.
– Если вы просите меня, – сказал я, – оправдать мое существование на основании пользы, что я приношу, то, полагаю, у меня вовсе нет оправдания.
– А какое еще может быть основание?
– О, не могу поверить, что вы так думаете, – сказал я. – Неужели вы считаете, что полезность – единственное, что имеет значение?
Эйлин бросила на меня быстрый насмешливый взгляд и вновь вернулась к дороге.
– Вы правда хотите поговорить о красоте и истине?
– Я не знаю, о чем хочу говорить, – сказал я и добавил: – Шикарная у вас машина.
Она нахмурилась, но не повернулась ко мне.
– Как это понимать?
– Дешевая и не такая привлекательная машина выполняла бы те же задачи.
Теперь Эйлин взглянула на меня, и ее улыбка казалась почти свирепой.
– Вот. Вы сами признаете это. Вы – такое же излишество.
– Я?
– Все мы любим излишества, – сказала она, – как вы только что подчеркнули. Но разве вы не согласны с тем, что когда роскошь и предназначение сталкиваются – роскошь должна уступить?
– Миссис Боун, я не…
– Зовите меня Эйлин, – сказала она.
Я глубоко вздохнул.
– Я предпочел бы называть вас миссис Боун, – сказал я.
Она оторвала взгляд от дороги и пристально посмотрела на меня, словно изучая. Мягким тоном она произнесла:
– Я ваш повод к греху, брат Бенедикт?
Я замешкался с ответом. Эйлин вновь повернулась к дороге.
– Никогда толком не понимал, что означает «повод к греху».
Эйлин рассмеялась, но дружелюбно.
– Не уверена, но, возможно, это самое приятное, что мне когда-либо говорили, – заметила она.
Внезапно она склонилась над рулевым колесом с решимостью, написанной на лице, и автомобиль рванул вперед. Мы обогнали дребезжащее перед нами такси, пробрались через минное поле несущихся вокруг машин и резко свернули, остановившись на пустой парковке. Вокруг царила темнота, но я видел лицо Эйлин, когда она обратилась ко мне:
– Вы должны помочь мне, брат Бенедикт. Я хочу помочь всем вам, правда, но сперва вы должны помочь мне.
– Как? Чем помочь? – Я собрал все свои жалкие силы в ответе на ее напор. – Я не понимаю, чего вы от меня хотите.
– Разве вы не сообразили, что я пересказала вам доводы своего отца? – спросила она. – Я хочу, чтобы вы опровергли их, брат Бенедикт. Я хочу, чтобы вы победили в битве за мою преданность. Я самая неравнодушная из семьи Флэттери, и я хочу выручить вас, но я не могу ничего сделать, пока не поверю, что верно идти против воли отца.
– Мне жаль, но я не силен в спорах. Я хотел бы вас убедить, но...
– Я не прошу меня охмурять, – сказала Эйлин. – Не надо включать хитроумного иезуита и продавать мне снег зимой. Я рассчитываю на искренность. Я могу помочь вашему монастырю, поверьте мне, брат Бенедикт, но вы должны убедить меня, что я должна это сделать.
– Чем вы можете помочь? Что вы способны изменить?
– Неважно. Просто поверьте мне на слово. И убедите меня, брат Бенедикт. – Эйлин склонилась ко мне, ее глаза горели в полутьме.
Никогда еще я не чувствовал такое замешательство. Убедить ее? Опровергнуть доводы ее отца о пользе полезности и излишестве всего остального? В моей голове не зарождалось никаких мыслей, совсем никаких, и, конечно, никаких слов не слетало с языка. Все, что я мог сделать, глядя в немигающие глаза Эйлин – молиться о ниспослании отвлечения.