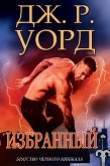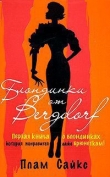Текст книги "Хранители Братства (ЛП)"
Автор книги: Дональд Уэстлейк
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Глава 11
Что я чувствовал, шагая в темноте по Парк-авеню, мимо клуба «Боффин» и того, гм, магазина, а затем свернув за угол на 52-ю улицу и потеряв монастырь из виду? Что я чувствовал? Ничего.
Я не испытывал страха, беспокойства, неуверенности, беззащитности, не чувствовал недостаточной подготовки к Странствию. За последние две недели я так много путешествовал, что теперь считал себя опытным странником. И почему простые передвижения во время Странствия должны вызывать ужас?
Но я не чувствовал и приятного волнения, предвкушения, любопытства и нетерпеливой тяги к приключениям. Я никогда не жаждал приключений, так с какой стати я должен раскрывать им объятья, когда они мне навязаны?
Не ощущал я и нежности, влечения, искренней страсти и стремления увидеть Эйлин Флэттери Боун. Я не желал ее, как и приключений, так почему я должен раскрывать ей объятья, когда…
Ладно. Выражение, возможно, неудачное, но суть в том, что я не хотел Эйлин, или, во всяком случае, не хотел хотеть ее. Чего я хотел от нее, так это ее помощи в сохранении нашей обители, и чтобы она вернула меня в монастырь. Два акта спасения, не более того. В моей аккуратно упакованной сумке лежал билет не только туда, но и обратно, и я очень хотел воспользоваться им полностью.
Полагаю, на самом деле я все-таки испытывал все те эмоции, что только что отрицал, и даже больше: неуверенность в себе, всеобъемлющий гнев, легкое расстройство пищеварения. Но результатом этого было эмоциональное перенапряжение, взаимное подавление, тот же эффект, что получится, если добавить в чан понемногу краски разных цветов и перемешать – все сольется в неопределенный и неинтересный сероватый цвет.
И вот, защищенный этим серым покровом, я пустился в свое Странствие.
***
Неужели в метро всегда так много людей? Когда я сел в поезд Е на пересечении Лексингтон-авеню и 53-й улицы – по ошибке я сперва вошел в поезд F, и выпрыгнул из него, так что закрывающиеся двери едва не защемили подол моей рясы – вагон был полон подчеркнуто неряшливо одетых людей. Создавалось впечатление, что они вырядились, чтобы присутствовать на публичной казни. Поскольку был вечер пятницы, это, несомненно, жители Куинса, приехавшие провести время на Манхэттене. Но разве обязательно при этом выглядеть так, словно твои родители – близкие родственники?
Бо́льшая часть этой публики покинула поезд на следующих остановках, где их сменила другая категория пассажиров – мужчины и женщины среднего возраста, многие полноватые, в слегка потрепанной одежде, но при этом выглядящие более прилично. Они явно направлялись домой после работы (среди них затесались три Санта-Клауса). Эти ехали в основном до 14-й улицы, а следующая остановка была моей. Западная 4-я улица, как обещали подробные указания, написанные изящным почерком брата Эли.
Эта станция была крупнее обычных, с двумя длинными бетонными платформами, по обе стороны от которых пролегали железнодорожные пути. Лестницы в конце обеих платформ вели вниз, в недра земли, где, как гласили указатели, ходили поезда D и F. Поезд F? Разве не из него я выскочил на пересечении Лексингтон-авеню и 53-й улицы? Тогда как он оказался здесь?
Что ж, возможно, с поездом F не все так просто, и брат Эли не хотел, чтобы я запутался. Я добрался куда нужно, и это главное.
Но где же поезд А? Поезда один за другим прибывали на станцию, все с буквенными кодами и местами назначения, написанными на маленьких табличках по бокам. Они с ревом подъезжали и останавливались то у одной, то у другой платформы, а из недр земли время от времени доносился грохот и ворчание беспокойных поездов D и F, но где же мой поезд А? Возможно, его украли в Гарлеме.
Нет, вот он появился, сплошь покрытый прозвищами и названиями, намалеванными яркими аэрозольными красками. Поезд остановился, двери разъехались – то, что двери открывались без чьего-либо прикосновения все еще удивляло меня – и я вошел внутрь. Я присел рядом с молодым чернокожим мужчиной, одетым в широченные штаны сливового цвета, ботинки на платформе с полосатыми красно-белыми шнурками, горчичную кофту на молнии, с игральными костями, свисающими с ее язычка, длинное приталенное пальто с узким поясом двух оттенков зеленого, и большую мягкую кепку в шахматную клетку. Также он носил солнцезащитные очки, за что я его не винил.
Этот поезд был заполнен плотнее, а пассажиры выглядели более разнообразно. Пока поезд мчался от станции к станции, я разглядывал их лица и одежду, все еще не до конца освоившись среди незнакомых людей. Спустя несколько остановок, я стал обращать внимание на названия станций: Джей-стрит, Боро-Холл, затем Хойт-Скермерхорн. Странные люди, странные названия, все вокруг казалось чужим и непривычным, а я ведь едва покинул Манхэттен. Крепко сжимая свою сумку на коленях, я чувствовал, как меня неудержимо уносит вдаль.
***
Выйдя из поезда на конечной станции, я заметил указатель, сообщивший мне, что автобус Q10 идет до аэропорта Кеннеди, но я не видел смысла понапрасну тратить деньги и пренебрегать указаниями брата Эли. До сих пор они оказывались очень полезны.
Во время поездки в метро больше всего меня сбивали с толку названия остановок. Кингстон-Труп? Эвклид? Ральф? Такое ощущение, словно городские власти Нью-Йорка наняли Роберта Бенчли[67]67
Американский журналист, актер и сценарист в начале 20-го века. Был известен своим едким юмором.
[Закрыть] придумывать названия для станций.
Более серьезной проблемой стали станции, названия которых перекликались с указаниями брата Эли. Например, вскоре мне предстояло идти по бульвару Рокавей, и я испытал мгновенный шок, когда из тьмы вынырнула станция – метро к тому времени превратилось в надземку – под названием «Бульвар Рокавей». Ранее, еще под землей, подобную реакцию вызвала у меня станция «Рокавей-авеню». Либерти-авеню также фигурировала в моих пешеходных руководствах, и по пути прозвучало это название, поезд остановился, а двери приглашающе разъехались. Оглядываясь назад, я понимал, что всю дорогу только и делал, что обшаривал рясу в поисках записей брата Эли, стискивал сумку и приподнимал зад со своего места, готовясь чуть что выскочить из поезда на платформу.
Фон Клаузевиц однажды сказал: «Карта и местность – не одно и то же», и он был прав. Брат Эли, составляя свои инструкции, руководствовался, конечно, картами. Но когда я вышел на улицу, оказалось, что Леффертс-авеню теперь стала бульваром Леффертс. Однако, будучи опытным путешественником, я проигнорировал это разногласие. Повернув направо, согласно своим полевым указаниям, я зашагал вперед.
Я шел по жилому району для рабочего класса на окраине города – кварталы небольших двухэтажных домов, тесно прижавшихся друг к другу, с передними верандами, давным-давно переделанными в комнаты. Позади некоторых домов виднелись гаражи, причем два соседних дома делили одну подъездную дорожку. Крошечные лужайки огораживали сетчатые металлические заборы, часто попадались таблички с надписью: «Осторожно, злая собака!» Также наблюдалось большое разнообразие садовой скульптуры, от фигурок гусей до Пресвятой Девы. Было около десяти вечера, но свет в окнах многих домов уже не горел, а кое-где мерцал голубой отблеск экрана телевизора. Я был единственным пешеходом на узком тротуаре, хотя по улице постоянно проезжали автомобили.
Теперь поворот налево, на бульвар Рокавей. Движение здесь было более оживленным, улица почти целиком предназначалась для автомобилей. По обеим сторонам тянулись заправочные станции, стоянки магазинов подержанных машин, автомастерские и тому подобное. Я по-прежнему оставался единственным пешеходом, и странность этого заставила меня осознать, что это я тут чужак, а все, что вокруг – нормальная жизнь. Конечно, я привык к автомобильному движению на Манхэттене, обычно представляющему собой одну огромную дорожную пробку, но на Манхэттене полно и пешеходов. По этому узкому острову все еще ходят на своих двоих, чего не делают больше нигде. Здесь, в Саут-Озон-Парке в Куинсе, находилась окраина реального мира; люди либо разъезжали на автомобилях, либо сидели дома.
Похоже, пришло время обдумать один вопрос, связанный со Странствиями. В монастыре наше внимание в основном притягивал священный аспект Странствия, но не может ли существовать различных форм мирских Странствий? Если человек воздерживается от Странствия в автомобиле или вовсе остается дома – присутствует ли в этом некая добродетель? Если зависимость от автомобиля – просто привычка, тяга, то разве выбор такого образа жизни, когда приходится постоянно ездить на работу, за покупками в супермаркет или отвозить детей в школу – не является частью привычки?
Можно сказать, что человек, выбравший место для жизни, вынуждающее его все время передвигаться в автомобиле, находится в Странствии, даже пребывая в своем доме. Его бытие становится переходным, состоящим из Странствия покоя, пока он находится дома, и Странствия движения,[68]68
Параллели с физическими терминами (энергия покоя, энергия движения) на совести переводчика.
[Закрыть] когда он в пути. Если концепция Странствия слишком глубока, чтобы относиться к ней легкомысленно – а мы твердо верим в это – такого человека можно назвать Странствующим торчком, столь же безоговорочно привязанным к своей привычке, как любой наркоман и, несомненно, испытывающим схожие пагубные воздействия.
Начнем с физического здоровья: человек, чередующий сидение дома с сидением за рулем автомобиля, разрушает свой организм так же верно и, возможно, так же неприглядно, как если бы принимал героин. Состояние души: испытывая день за днем напряжение от управления машиной, человек становится либо раздраженным и грубым, либо, наоборот, вялым и безразличным; и то и другое наносит ему ущерб, которого можно было избежать. Культура: переходное состояние, сочетающее Странствие покоя и движения – это образ жизни кочевника, лишающий свою жертву корней и чувства общности, племенного и культурного наследия, к которому он мог бы обратиться в час нужды. И, наконец, моральная сторона: физически нездоровый человек с онемевшими чувствами и нарушенными общественными связями вряд ли может претендовать на полноценное моральное состояние.
Я ощутил волнение – так мне хотелось поскорей вернуться домой и представить братьям свою теорию, услышать их мнение. Есть ли другие показатели, подтверждающие сделанные мной выводы? Ну, у людей наблюдалась растущая тенденция, достигнув пенсионного возраста, приобретать дом на колесах и проводить последние годы жизни, кочуя из одного трейлерного парка в другой – высшаястепень переходного бытия, объединяющая Странствие покоя и движения, и заставляющая брать свой дом с собой в Странствие!
А еще есть Лос-Анджелес.
Вот и 131-я улица? Правильно ли я иду? Под уличным фонарем я сверился с записями, сделанными мелким, но идеально выверенным подчерком брата Эли, и убедился, что прошел лишний квартал. Мне следовало повернуть направо на 130-й улице. Погрузившись в свои размышления, я на время сбился с пути.
Поэтому я направил свои стопы обратно к 130-й улице. Тут нужно было повернуть направо. Но, если идти с другого направления, то налево? Я покрутился в разные стороны, перепроверяя указания брата Эли и привлекая внимание (преходящее) проезжающих мимо водителей, пока, наконец, не определился с тем, в каком направлении мне следует идти дальше по 130-й улице.
Я снова оказался в жилом районе, но дома здесь были поновее, немного меньше и располагались на расстоянии друг от друга. И я, похоже, приближался к аэропорту; огромный реактивный авиалайнер вдруг проплыл над моей головой, двигаясь по небу, словно по невидимой натянутой проволоке. Самолет летел, казалось, на высоте восьмиэтажного дома, и я почти ощутил боль от издаваемого им шума. Он визжал, вопил и звучал подобно ногтю, царапающему школьную доску, но в тысячу раз громче. И эта громадина двигалась так медленно! Как он мог лететь так неспешно и при этом не падать на землю, как телевизор, выброшенный из окна? Я втянул голову в плечи и набросил капюшон, закрыв уши, но визг все продолжался и продолжался, пока самолет не скрылся, двигаясь по диагонали, за домами на дальнем конце улицы.
И никого. Из этих домов должны были с криками выбегать люди в пижамах, держась за уши, озираясь в ужасе и изумлении, спрашивая друг друга: «Что это? Неужели наступил конец света?!»
Но никто не выбегал. В некоторых окнах горел свет, работали телевизоры; во всех этих строениях, облицованных кирпичом, несомненно жили люди, но никто не вышел.
Я продолжал идти. Все мысли о переходном состоянии и зависимости людей от автомобилей вылетели у меня из головы, и вместо этого я погрузился в раздумья о способности человека приспособиться к чему угодно. Еще два реактивных авиалайнера проследовали той же невидимой дорогой в небесах, издавая леденящий кровь визг и подтверждая суть моих размышлений. Затем я перешел по небольшому мостику какую-то широкую автомагистраль. Брат Эли упоминал что-то такое в своих указаниях. Вот оно: «Пересеки Белт-Паркуэй».
Белт-Паркуэй. Три полосы несущихся автомобилей в одну сторону, три полосы в другую. Ночью это зрелище приобретало своеобразную красоту – лента белых огней фар, движущаяся навстречу ленте красных задних фонарей – но беспрестанно повторяющиеся звуки вшух-вшух-вшух, с которыми машины проносились под мостом, отвлекали от впечатляющего вида. Я, не останавливаясь, пошел дальше.
Поворот налево, на 150-ю авеню. Там находился гараж Департамента санитарии, а также открытая парковка, заполненная выкрашенными в белый цвет мусоровозами, похожими на гигантских тараканов в белых военных маскхалатах. Машин на улице почти не было, не говоря уж о пешеходах, уличные фонари попадались редко, а после здания Департамента санитарии тротуар кончился. Впереди в темноте едва виднелись еще какие-то шоссе. Я миновал пункт проката автомобилей, после чего дорога, вдоль которой я шел, повернула направо и поднырнула через подземный туннель под другой улицей. Строения впереди выглядели скудно освещенной мешаниной. Подойдя ближе, я увидел знак с надписью: «Все движение» и стрелкой, указывающей налево, посмотрел в ту сторону и увидел неподалеку шоссе, над которым возвышались огромные зеленые знаки. На одном из них я различил надпись со словом «Аэропорт», поэтому отправился в том направлении.
Да, это оказалась главная дорога в аэропорт, по которой двигались все автомобили и такси. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИМ. ДЖОНА Ф. КЕННЕДИ» гласил самый большой знак, а чуть ниже: «ГЛАВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ – 2 МИЛИ».
Две мили? Тут был въезд, а терминалы находились в двух милях? Я покачал головой, мысленно похвалив сам себя за то, что вышел с большим запасом времени, переложил сумку в другую руку и продолжил путь.
Я пересек травянистый участок, отделяющий меня от шоссе, затем повернул в сторону терминалов и пошел по обочине, оставляя поток автомобилей слева от меня. Машины проносились очень быстро, обдавая меня порывами ветра, и я старался держаться как можно дальше от проезжей части. Впереди я видел пешеходный переход, показавшийся мне узковатым.
Впрочем, я не добрался до него, во всяком случае пешком. Мимо меня промчался автомобиль, вырулил на обочину, прошуршав покрышками по траве, и остановился. Это была, как я заметил, полицейская машина, и я ничуть не удивился, когда сзади у нее зажглись два белых огня и она подобралась ко мне задним ходом. Я посторонился, позволив полицейской машине встать между мной и проезжей частью, и стал ждать.
Они вылезли из салона – двое молодых полицейских с суровыми настороженными лицами, и нелепыми усиками, как у Граучо Маркса.[69]69
Популярный в середине 20-го века американский комик и киноактер.
[Закрыть]
– Ладно, приятель, – сказал один из них, – выкладывай свою историю.
– Я иду в аэропорт, – сказал я.
Он с пренебрежением посмотрел на меня, словно думал, что я считаю его недалеким простаком.
– На своих двоих?
Я опустил взгляд на упомянутые части своего тела – обутые в сандалии ступни, пальцы которых изрядно запачкались после всех этих хождений во внешнем мире.
– Да, на своих ногах, – ответил я. Другой ответ, подходящий в данных обстоятельствах, не пришел мне в голову.
Второй полицейский указал на шумное шоссе в двух шагах от нас, словно это была важная улика против меня.
– Ты идешь пешком по скоростной магистрали Ван-Вик?[70]70
Магистраль названа в честь первого мэра Нью-Йорка Роберта Андерсона Ван Вика. Но если этого не знать, то название Ван-Вик звучит немного странно, напоминая one week («одна неделя»). Правильнее было бы произносить «Ван Вайк», поскольку фамилия мэра имела голландское происхождение, но и фамилия и название магистрали «американизировались».
[Закрыть]
– Так она называется?
Первый полицейский щелкнул пальцами, глядя на меня.
– Давай-ка взглянем на твои корочки.[71]71
В оригинале полицейский говорит: Let’s see some eye dee, где последние слова брат Бенедикт так и слышит – eye dee (eye – «глаз»). Хотя полицейский, конечно, имеет в виду ID (identification).
[Закрыть]
– Прошу прощения?
– Подтверждение личности, – пояснил он. Хотя это прозвучало не как объяснение, а, скорее, как добавочное требование.
– Подтверждение личности, – повторил я, с сомнением поглядев на свою сумку. Найдется ли в моем багаже что-нибудь с моим именем? Мои инициалы – одинокая «Б» – написаны маркером для белья на обратной стороне воротника рясы, что была сейчас на мне, но вряд ли этого окажется достаточно для таких крутых и самоуверенных людей, как эти двое.
Полицейский, щелкавший пальцами, сурово нахмурился.
– Нет корочек?
– Понятия не имею, – признал я. – Я могу посмотреть, но не думаю…
– А сумка для чего? – спросил второй полицейский.
– Я отправляюсь в Странствие, – ответил я. Мне казалось, это очевидно.
– Летишь на самолете?
Я мог бы попытаться съязвить, но, вероятно, это прошло бы мимо его понимания.
– Да.
– Билет есть? – спросил полицейский, и его замысел, наконец, обрел ясность.
– Конечно! – ответил я, восхищенный его сообразительностью. – И на нем будет мое имя! – Я опустился на одно колено, расстегивая молнию сумки.
Краем глаза я уловил какое-то движение, и это заставило меня поднять взгляд. Оба полицейских отступили на шаг, приблизившись друг к другу и к своему автомобилю. Оба уставились на меня с пугающей сосредоточенностью, а их руки застыли над кобурами.
– Э-м-м, – произнес я.
Я видел достаточно телепередач, чтобы кое-что понимать во внешнем мире, и потому быстро сообразил, что мое намерение сунуть руку в сумку напрягло и рассердило этих полицейских. Лучше бы мне их успокоить, и побыстрее.
– Мой билет, – сказал я, указав пальцем на сумку. Я внимательно следил, чтобы не направить, невзначай, палец на них. – Он там, внутри.
Ни один из полицейских не шевельнулся и не проронил ни слова. Казалось, они не знают, как поступить в такой ситуации.
– Хотите, сами достаньте билет, – предложил я. – Дать вам сумку?
– Просто вытащи билет, – сказал один из полицейских, и вроде бы он немного расслабился. Хотя его напарник все еще был полон подозрений, что я террорист, маньяк или беглый преступник.
К счастью, билет клали в сумку в последнюю очередь, и он лежал с самого верха. Я взял его, оставив сумку расстегнутой, и передал тому полицейскому, что первым попросил показать его (он же первым успокоился). Полицейский изучил билет, пока его напарник продолжал изучать меня. Машина позади них вдруг заговорила скрипучим неразборчивым голосом, напоминающим голос попугая. Полицейские и ухом не повели. Тот, что разглядывал билет, спросил:
– Ты брат Бенедикт?
– Верно.
– А что это здесь написано: ОКNM?
– Орден, к которому я принадлежу. Орден Криспинитов Novum Mundum.
– Что это значит? – спросил второй полицейский. – Вы католики?
– Да, часть римско-католической церкви.
– Никогда не слышал о таком ордене. – Кажется, он считал этот факт очень важным. – Летишь в Пуэрто-Рико, да? Миссионерская деятельность?
– Нет, э-э, не совсем. Нет.
– В отпуск?
– Мне нужно там кое с кем увидеться, – объяснил я. – По монастырским делам.
Полицейский указал на мою сумку моим же билетом.
– Не возражаешь, если я загляну туда? – Вопрос был сформулирован, как просьба, но их беззастенчивая манера намекала, что у меня не такой уж богатый выбор.
– Конечно, – ответил я. – То есть, конечно, нет. В смысле, нет, не возражаю. Вот. – Я протянул ему все еще расстегнутую сумку.
– Спасибо. – Еще одно утверждение, несовместимое с тоном, которым было сказано.
Он распаковал мою сумку, поставив ее на плоский багажник полицейского автомобиля, в то время, как напарник продолжал хмуро сверлить меня подозрительным взглядом. Машины, проезжавшие по скоростной магистрали Ван-Вик, притормаживали, несомненно, чтобы водители могли утолить свое любопытство и насладиться придорожным развлечением. Аккуратно свернутые носки брата Квилана чуть не скатились с багажника, но полицейский подхватил их.
Его напарник, тот, что внимательно наблюдал за мной, вдруг спросил:
– Что такое успение?
Я удивленно переспросил:
– Что?
Он повторил свой вопрос.
– А, успение, – сказал я. – Ну, учитывая сложившиеся обстоятельства, это то, что поможет мне не опоздать на самолет. Но, думаю, вы имели в виду Успение Пресвятой Богородицы.[72]72
В католической традиции чаще говорят: «Вознесение Девы Марии», но ради игры слов (успение – успеть; в оригинале тоже была шутка, но непереводимая) был использован православный термин.
[Закрыть] Иисус вознесся, потому что, будучи Сыном Божьим, он обладал силой поднять себя, но Мария, будучи человеком, лишенным божественной силы, была вознесена, поднята силой Господа. Вы ведь пытаетесь проверить – действительно ли я католик?
Он не ответил. Второй полицейский, собрав мои вещи обратно в сумку, вернул мне ее со словами:
– Тут редко встречаются пешеходы, брат. Особенно одетые, как ты.
– Ничуть не сомневаюсь, – сказал я.
Полицейский все еще держал мой билет. Снова посмотрев на него, он заметил:
– «Америкэн Эрлайнс».
– Верно.
Протянув мне билет, полицейский сказал:
– Садись, мы тебя подбросим.
– Большое спасибо, – ответил я.
Я ехал на заднем сидении полицейской машины, держа билет в одной руке и придерживая сумку другой. Доверчивый полицейский сидел за рулем, посматривая на другие машины, и время от времени бормотал что-то себе под нос, пока его напарник говорил в микрофон. Полагаю, он говорил обо мне, но я ничего не мог разобрать, а когда радио отвечало голосом попугая, я тоже не понимал ни слова.
Убедившись, что радиопереговоры закончились, я наклонился поближе к передним сидениям.
– Знаете, – сказал я, обращаясь к более покладистому из двух полицейских, – у Рэя Брэдбери есть старая история, точь-в-точь как эта.[73]73
Рассказ «Пешеход» (1951).
[Закрыть] Про человека, что шел пешком, и его остановила полиция, потому что в будущем ходьба превратилась в подозрительное занятие.
– Ну надо же, – сказал он, не глядя на меня, и принялся перебирать листы на планшете.
Эти слова были последними произнесенными за время поездки – не считая неразборчивого кудахтанья радио – пока мы не остановились у терминала, и я не сказал:
– Еще раз спасибо.
– Приятного полета, – напутствовал меня полицейский, но без особого участия.
***
Был ли мой полет приятным? Не могу сказать с уверенностью, поскольку не с чем было сравнить.
Я получил новый опыт, вот и все. Сперва я оказался в громадной толпе людей, и всех нас провели через «пункт досмотра», где мою сумку обыскали второй раз за вечер, и с помощью рентгеновских лучей попытались обнаружить оружие, что я мог скрывать под рясой.
После этого нас пропустили в длинный коридор со множеством поворотов направо и налево, и внезапно мы оказались на борту самолета.
Как это произошло? Я ожидал, что придется идти по бетонке от здания терминала к самолету, но коридор привел наспрямо в самолет. Честно говоря, даже трудно было определить: где кончается коридор и начинается салон самолета. Я удивленно вертел головой по сторонам, когда стюардесса – симпатичная, немного пухленькая – сказала:
– Отец, могу я взглянуть на ваш посадочный талон?
Посадочный талон – картонка, которую мне выдали на стойке регистрации, где я предъявил билет.
– Брат, – смиренно поправил я и протянул талон стюардессе.
– Как скажете, – сказала она, улыбаясь. Она проверила посадочный талон, разорвала его пополам, отдала половину мне и сказала: – Ближе к концу салона, справа от прохода.
– Спасибо, – сказал я.
– Пожалуйста, отец.
Ее задорная улыбка скользнула по моей щеке и перескочила на следующего пассажира. Почему она так сильно напомнила мне того полицейского, что пожелал мне: «Приятного полета»?
В дальнем конце салона другая стюардесса, постарше, не столь энергичная, но более чуткая, указала мне место среди огромной пуэрториканской семьи, возвращающейся домой на праздники. Когда я говорю «огромный», я не имею в виду, что кто-то из них был очень толстый. А этим пояснением я не хочу сказать, что кто-либо из них был худым. Я немного запутался.
Это было чу́дное семейство по фамилии Разас. Их родной дом находился неподалеку от города Гуаника на южном побережье, и они приняли меня в свой круг (или в свой край; меня посадили с краю, у окна), словно только что спасли от снежной метели. Трое или четверо из них помогли мне отрегулировать ремень безопасности, подставку для ног и спинку кресла, мою сумку полдюжины раз переставляли с места на место, одно другого продуманней, и я потерпел крах, пытаясь отказаться от подушки.
А потом мы оказались в небе, и огни аэропорта за маленьким овальным окном сменились темнотой, кое-где усеянной далекими звездами. Я ожидал, что буду нервничать во время взлета, ведь это традиционное время для первополетных волнений, но все произошло так внезапно. Пока я пытался понять испано-английский, на котором со мной жизнерадостно и одновременно тараторили трое членов семьи Разас, я упустил возможность испугаться.
Похоже, семья Разас полагала, что они отправились на пикник, а не летят на самолете. Корзины, пакеты, коробки с едой – все возникало из ниоткуда, словно в пародии на библейское чудо с хлебами и рыбами. Большущие толстые сэндвичи, куриные ножки, фрукты, пиво, газировка, сыр, помидоры – все лилось нескончаемым потоком. Все уплетали за обе щеки, не переставая при этом болтать.
Вокруг нас сидели и другие похожие семейные группы. Пели песни, рассказывали истории, шлепали озорных детей, бродили туда-сюда по проходу. Стюардессы подчеркнуто держались в стороне.
Каким-то поразительным образом это обшитое жестким пластиком пространство в чреве самолета, с рядами трехместных «скамей» и проходом между ними, превратилось в праздничную террасу, целую серию праздничных террас, а декабрь превратился в весну. Окутанный этой атмосферой, наполненный курятиной, пивом и дружелюбием, убаюканный царившей вокруг меня суетой, я откинулся на спинку кресла в своем уголке, положил голову на подушку, и мои мысли вновь обратились к Странствию и его бесчисленным проявлениям.
На мой взгляд, семейство Разас являлись полной противоположностью «автомобильных людей» – тех, кто находился в состоянии Странствия даже дома и заканчивал жизнь, скитаясь из одного трейлерного парка в другой, волоча за собой подобие дома. Разасы, напротив, обладали настолько сильным самосознанием и прочными связями друг с другом и своим наследием, что без особых усилий могли справиться со Странствием, рассеивали такие присущие ему черты, как одиночество, разрушение и разобщенность. В то время, как другие даже дома пребывали в состоянии Странствия, Разасы в путешествии были как дома. Создаваемая ими среда обитания подавляла внешнюю среду. Они нашли смысл Странствия, о котором, как мне кажется, в нашем сообществе никто и не помышлял. «Когда я вернусь, – сквозь сон подумал я, – мне будет что рассказать остальным о своих приключениях». С этими мыслями я погрузился в сон.
***
По времяисчислению Дворфмана наш самолет должен был приземлиться в 04:26; полагаю, так и произошло. Солнце еще не встало, и я чувствовал себя разбитым из-за переедания и недостатка сна. И от перемены климата; в Нью-Йорке было прохладно, почти холодно, но Сан-Хуан встретил меня теплом и влажностью. Шерстяной свитер, который я обычно надеваю под рясу зимой, превратился в орудие пытки – жаркий, колючий, сковывающий движения.
Разасов встречали несколько взводов близких, и после множества криков, улыбок и рукопожатий они разбрелись, образовав огромную подвижную толпу. Они предлагали подвезти меня, но я знал, что они едут в противоположную сторону от нужного мне города, и отказался, не желая, чтобы они делали двадцатимильный крюк из-за меня.
После того, как я побрился и почистил зубы в мужском туалете аэропорта, и снял свой толстый свитер, я снова ощутил себя человеком. Но в ближайшей кофейне, где я решил выпить кофе, повторилась нью-йоркская история. Милая девушка за стойкой дала мне карту острова, на которой красным фломастером отметила маршрут до Лоиза-Альдеа.
– Вы взяли машину напрокат, отец?
– Брат, – поправил я. – Нет, я пойду пешком.
– Но это же двадцать миль!
– Я не спешу. Спасибо за карту.