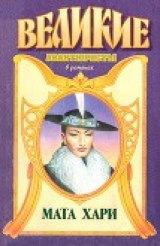
Текст книги "Любивший Мату Хари"
Автор книги: Дэн Шерман
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Глава седьмая
Ноябрь оставался неустойчивым – то заморозки, то таяние. После короткой зимней весны, когда даже зацвели живые изгороди, пошёл проливной дождь, вдавивший всё в гравий.
Смерть Ролана Михарда вызвала два расследования. Первое, проведённое французами, пыталось обелить и сохранить в неприкосновенности репутацию военных; оно заключило, что смерть была самоубийством из-за того, что он узнал о своём раке желудка. Последний выстрел полковника, направленный как раз в то место, где предполагалась злокачественная опухоль, был признан логической альтернативой долгой и мучительной болезни.
Второе расследование, проведённое в Лондоне и не предназначавшееся для широкой публики, сосредоточилось на неудачной попытке Кравена схватить Рудольфа Шпанглера. Шестидесятидвухстраничное документированное заключение обнаруживало, что Кравен допустил две ошибки: как руководитель операции он недооценивал Михарда, а не завербовав французов, ослабил свою оборону.
По ходу расследований с Греем беседовали лишь однажды: вечером в понедельник, элегантный человечек из Министерства иностранных дел. Они встретились в дешёвой пивной недалеко от того места, где начинались события. После нескольких отрывистых фраз, которыми они обменялись, Грею предоставили чек на четырёхзначную сумму и спокойно предложили всё забыть. Михард был упомянут только вскользь. Зелле не упоминалась вовсе.
Но её имя, если быть справедливым, появилось однажды в таком контексте: не могло ли существовать отдельной связи между означенным лицом из Берлина и упомянутой выше танцовщицей? Пожалуйста, сообщите.
Вопрос задал подчинённый Каммингса, один из кабинетных следователей, Мартин Саузерленд, позднее занявшийся этим делом. Хотя бумагу и не отослали немедленно, написанная от руки копия документа отправилась в министерские хранилища, где и ждала во тьме своего времени.
А как восприняла эти события Маргарета? Если не считать нескольких мучительных вопросов, она в конце концов решила принять смерть Михарда в точном соответствии с объяснением: поражённый смертельной болезнью, он храбро и одиноко покончил с жизнью. Доказывает это и описание дня, проведённого с Зелле в её квартире на улице Бальзака, дня, принёсшего ему прозрение.
Была первая холодная. неделя декабря. Прибыв без предупреждения, Грей обнаружил её спокойной, она сидела на низком диване и разбирала газетные вырезки и запущенную корреспонденцию. Она была в чёрном, лишь глаза были подведены тушью – чтобы подчеркнуть печаль? На каминной полке стояли фотографии Михарда, курился запах ароматизированных свечей, расставленных на подоконнике.
Они пили кларет под музыку Шопена, раздававшуюся из граммофона. Она сказала, что полковник предпочитал прелюды, особенно в тоскливые дни. Затем, прикоснувшись к руке Грея, она разразилась слезами.
– О, я знаю, он не хотел бы, чтобы я плакала. Но я не могу сдержаться, Ники. Я просто не могу сдержаться.
Немного позднее она говорила о неспокойном духе Михарда и некоем видении, которое посетило её предыдущей ночью...
– Это было ощущение, действительно так. Ощущение: он вернулся и хочет дать мне понять, что я не должна грустить о нём. Что до самого конца он вёл богатую и счастливую жизнь и принял гордую солдатскую смерть. Вот почему он никогда не говорил нам, что он болен. Понимаешь? Он не хотел, чтобы что-нибудь портило его последние дни.
Потом она говорила о себе. Михард всегда ценил её танцы, сказала она. И только ради его памяти она должна продолжать. Тем более что, кажется, некий импресарио недавно выразил свою заинтересованность в её карьере. И существуют явные возможности для ангажемента в Испании ранней весной.
Когда он уходил, она позволила ему короткий платонический поцелуй.
– Большое спасибо за то, что ты пришёл, – сказала она ему. – Я так рада, что ты пришёл.
Но когда он попытался заглянуть ей в глаза, она просто улыбнулась и отвела взгляд.
Михард, скорее всего, оказался прав... она была существом за пределами его понимания. Какая ирония судьбы – представиться другом, чтобы уничтожить её любовника, и остаться навсегда другом, просто другом.
Он видел её время от времени в оставшиеся дни декабря, обычно в компании неизвестных ему мужчин, мужчин, которых он не желал знать. Однажды после представления в доме одного корабельного магната он даже видел её рядом с ещё одним военным, майором из достойной семьи, явно состоятельным.
Затем, во вторник, они встретились, чтобы отобедать на улице Лилль. Она прибыла поздно, всё ещё немного запыхавшаяся после встречи с импресарио Габриэлем Аструком. Она говорила о своём будущем представлении в Мадриде и своём пробном появлении с Русским балетом в Монте-Карло. И говорила со своим другом о своих мужчинах... Жюле Камбоне[13]13
Камбон Жюль (1845—1935) – французский дипломат, посол в Берлине с 1907 по 1914 г.
[Закрыть] из французского Министерства иностранных дел, Джакомо Пуччини[14]14
Пуччини Джакомо (1858—1924) – итальянский композитор, автор опёр «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан», «Турандот».
[Закрыть], Жюле Массне[15]15
Массив Жюль (1842—1912) – французский композитор, автор опёр «Манон», «Вертер», «Тайс» и др., профессор Парижской консерватории.
[Закрыть], о неком безымянном графе, каком-то, по всей вероятности выдуманном, принце[16]16
...безымянном графе... каком-то... выдуманном принце. — Известно, что среди поклонников и близких друзей Маты Хари были герцог Кумберлендский, барон Ротшильд и принц Монако.
[Закрыть]. Друг Ники должен был сидеть рядом и слушать всё это. Должен был. Не мог не слушать.
Была пятница. Сказанное Михардом дошло до него в тот день, когда он водил её по Лувру. Она попросила его «открыть» для неё современников, чтобы она могла поговорить о них в светском обществе. Она приехала в наёмном экипаже, чего он не мог себе позволить, и более семи часов он таскал её по галереям.
К её чести, обычно ей нравилось то, что получше: лилии Ренуара, лавры Моне[17]17
Ренуар Огюст (1841—1919) – французский живописец, график и скульптор, близкий к импрессионистам.
Моне Клод (1840—1926) – французский живописец, один из главных представителей импрессионизма.
[Закрыть], тополя Сера в струящемся свете. По правде, Гойя оставил её несколько безучастной, но она, должно быть, разглядела что-то в Ван-Гоге, потому что сделалась необычно задумчивой.
Они пообедали холодной лососиной и спаржей. Недавний дождь сделал воздух бодрящим, поэтому они прошлись от ресторана до её квартиры пешком. Было всё ещё рано, затянувшийся зимний вечер... Он небрежно пригласил сам себя наверх.
Со времени его последнего визита она заполнила свою гостиную вещами, которых он прежде никогда не видел: восточными масками, ветхими гобеленами, ужасающего вида бронзовым Буддой. Фотографии Михарда, однако, исчезли.
Она предложила ему чашку какао, но он попросил коньяку. Она сбросила шаль, он перекинул своё пальто через ручку кресла. После минутного молчания он прошёлся до дальней стены, где висел любопытный набросок танцовщицы у ног араба.
– Ты?
Она отбросила выбившуюся прядь волос:
– Да, это я. Но на самом деле я в таком виде не позировала. Он сам выдумал это.
– Кто?
– Друг. Тебе не нравится?
– Нет, не особенно.
Он пересёк комнату, раздвинул в стороны портьеры, чёрные тучи на индиговом небе, длинные шпалеры розовых кустов в свете фар проходящих автомобилей.
– Я не говорила тебе, что, возможно, захотят, чтобы я появилась в Вене в следующем году?
На столе чёрным пауком стояла лампа. Он выключил её.
– Вена?
– Да, разумеется, это только предположение. Ты же не думаешь, что я обожаю Вену?
– Не знаю. Я там никогда не был.
– Да? Тогда ты должен туда съездить. Да, Ники, тебе вправду надо поехать туда со мной... и изучить.
Он рассматривал её, сидя в обитом вельветом кресле, прикончив свой коньяк и налив ещё. Она говорила, что не следует так много пить. Потом он взял её за руку:
– Маргарета, я думаю, мы должны поговорить.
– О чём, Ники?
– О нас.
Она выдернула свою руку и отвернулась к окну. Она покусывала нижнюю губу.
– Маргарета, я знаю, что не могу дать тебе всего, что давал Ролан...
– Ники, пожалуйста. Мы не можем возвратиться к тому, что было.
– Почему?
– Потому что сейчас всё изменилось.
– Что изменилось?
– Всё. Изменился ты. Изменилась я. Мы изменились.
Она встала и подошла к окну. На подоконнике в вазе стояли высохшие цветы – ещё прошлого года. Рассеянно оторвала лепесток. Тот рассыпался в прах.
– Маргарета... ты, кажется, не понимаешь.
– Не понимаю чего, Ники?
– Куда бы я ни посмотрел, я вижу твои проклятые глаза.
И вдруг ему захотелось закричать, разбить вазу об стену. Но тут он увидел на её лице слёзы.
– Это ты не понимаешь, – сказала она.
– Я?
– О Ники, ты не понимаешь, что я только причиню тебе боль, рано или поздно я не смогу удержаться, чтобы не причинить тебе боль. Неужели ты не понимаешь этого до сих пор?
Он покачал головой:
– Мне всё равно...
– Но тебе не будет всё равно, если это случится. В тот момент, когда это случится, тебе не будет всё равно.
Позднее, идя по Монмартру, он увидел, должно быть, не менее дюжины женщин, столь же красивых, как Зелле. Но спасения не было, потому что она по-прежнему оставалась единственной.
Он думал о ней слишком много в последующие дни. Думал о Кравене и хотел бы, чтобы ему представился случай выразить сожаление. Он думал о Михарде и о его словах.
Когда декабрь растаял в январе, он обнаружил, что возвращается к жизни, которую вёл прежде. Он рисовал по утрам, в начале дня, затем отдыхал и встречался с Вадимом де Маслоффом за вечерней выпивкой. Он даже в какой-то момент нанял другую натурщицу – тоненькую девушку с мальчишеской фигуркой и стрижеными светлыми волосами. После скромной выставки акварелей он провёл пятнадцать дней, путешествуя по Италии, заполняя маленький альбом набросками, передвигаясь от одного дешёвого отеля к другому.
От недели в Венеции остались несколько портретов детей, сделанных возле каналов, и юмористические изображения молодых людей, удящих рыбу на отмелях Чиожиа. В Риме он был зачарован архитектурой. Во Флоренции встретился с молодой англичанкой, путешествующей с тёткой, но это ни к чему не привело.
Вернувшись в Париж, он обнаружил: ничего по большому счёту не изменилось, кроме того, что воспоминания о Зелле стали чуть менее настойчивыми. Он следил теперь за её карьерой по газетам и по сплетням в тех кафе, где знали, что он знаком с нею. Говорили, её выступление в Мадриде имело чрезвычайный успех и что из Мадрида она переехала в Монте-Карло, где появилась в спектакле «Король Лаоро» с Джеральдиной Фаррер и несравненной Замбелли. Фотография, позднее опубликованная в местных газетах, представляла её улыбающейся на палубе яхты. Он получил почтовую открытку из Ниццы с изображением чаек на дощатом настиле пляжа и едва разборчивой надписью: «По-прежнему желаю тебе всего наилучшего!» Всё для друга.
Обозначенная только этими размытыми фотографиями, этими случайными записками и вырезками из газет, она казалась уже не вполне реальной. Скорее, она стала тем, чем, подозревал он, должно быть, всегда хотела стать – расплывчатой мечтой, женщиной для каждого мужчины. Покуда испанцы нашли её поистине несравненной. Покуда какой-то русский князь, по-видимому, просил её руки, принц Монако, по сплетням, просил её остаться в его летней вилле. Сведения о её прошлом оставались смутными. Сведения о её любовной жизни имели свойство изменяться в зависимости от её настроения или от настроения репортёра, сообщающего их.
И если бы всё могло завершиться здесь, в этой точке, между безвредной ложью и скучной правдой, тогда, возможно, её бы вспоминали просто как ещё одну тривиальную забавницу из тех мятежных лет перед Великой войной. Но к концу января произошёл некий инцидент, полностью разбивший эту вероятность, возник указатель, показывающий дорогу к чёрному году, который никто никогда не забудет...
Всё началось с печального сообщения в газете о ликвидации собственности в имении Ролана Михарда. Видимо, акция была санкционирована судебными чиновниками, чтобы покрыть огромные долги. Заинтересованных лиц просили приехать пораньше.
Грей полагал, что не что иное, как любопытство, привело его в тот день к дому, где проводились аукционы, странное желание бросить один-единственный последний взгляд на разрушенную жизнь полковника. Он прибыл поздно, много позже того, как торги закончились. Этаж почти опустел. Оставалось лишь несколько безделушек, которые оказались никому не нужны.
Он вошёл осторожно, не вполне зная, что ищет. Проданные вещи лежали на соседнем складе, каждая снабжена ярлыком для доставки. Из высоких окон сверху тянулись колонны пыльного света, освещая холмы мебели под чехлами, бронзовые лампы, подсвечники и фарфоровые фигурки. Впереди был лишь один свободный проход к тому первому, главному портрету Зелле.
Картина была прислонена к буфету как какой-то ненужный хлам. Но это и вправду я! Он провёл рукой по раме – довольно сильно истёрта. Он сделал шаг назад, чтобы рассмотреть эти полузабытые касания кисти. Вы должны были сказать мне, что вы можете так рисовать. Он поднял картину.
– Простите, мсье, но картина продана.
Он повернулся и увидел женщину в синем халате с бухгалтерской кницей, переплетённой в холстину.
– Продана?
– Да, мсье. Все эти вещи проданы.
– Кому?
– Мсье?
– Кто купил картину?
Она нахмурилась:
– Я полагаю, что она была приобретена через посредника для иностранного коллекционера.
– Да, но как его зовут? Не могли бы вы мне просто назвать его имя?
Она вздохнула, явно раздражённая:
– Я должна свериться с записью. – Затем подтвердила то, что каким-то образом он уже подозревал: – Шпанглер. Рудольф Генрих Шпанглер.
После были только намёки и слухи. В Берлине она, как говорили, жила с лейтенантом вестфальских гусаров, но не было заметно, чтобы Шпанглер приблизился к ней, или признаков какой-то тайной жизни: принимает, например, любовников в наёмном chateau, обнажённая под хлопчатобумажным халатом, пока под шелестящими тополями ждёт лимузин. Её письма в течение того сезона за границей тоже были вполне невинными: с описаниями мест, которые она прежде не видела, и мужчин, которые никогда не любили её по-настоящему.
Часть II
СЕРЕДИНА ПУТИ
Глава восьмая

Обычно она принимала любовника по вечерам, чаще всего ожидала его у окна, из граммофона раздавалась музыка Шопена. Отсюда далеко была видна Находштрассе, на которой отражались силуэты большого Берлина, ярко выступавшие на фоне неба. Если не считать этих кратких встреч, её пребывание в этом городе было окрашено скукой.
Её любовником был состоятельный юнкер по имени Кирперт. Они встретились в Мадриде, случайно оказавшись за одним обеденным столом. Он был женат на красавице венгерке, но его всегда будут вспоминать как шикарного лейтенанта Маргареты лета 1907 года: они не таясь прогуливались по Фридрихштрассе или вместе отправлялись на манёвры императорской армии в Силезии. Время от времени их даже видели в кабаре и мюзик-холлах с друзьями по театру. Но тайны ночей их любовной связи хранила комната Маргареты.
Как правило, он прибывал в половине девятого вечера по понедельникам и вторникам. Входил без стука. Потакая его фантазиям, Маргарета надевала нечто вызывающее воспоминания о Востоке: голубое кимоно, соскальзывающее с плеча, волочащийся шёлк, свободно сколотый у талии.
Первый поцелуй был обещанием и поддразниванием, её язык проскальзывал между его губ и быстро ускользал. После шампанского или коктейлей на балконе она обычно ставила на граммофон другую пластинку. Он предпочитал медленную любовную игру. Долго лежал, развалясь на диване при свете ламп. Любил, когда она сидела, откинувшись, печальная и пассивная, пока он обводил пальцами её грудь, гладкую равнину её живота. В ответ она обычно закрывала глаза, чуть подрагивая, словно спящая чайка. Иногда проходил час, прежде чем он полностью раздевал её.
Фактически он был владельцем дома, но спальня оказывалась её царством. Там стояли зеркала в рамах вдоль дальней стены, и она любила наблюдать, как он освобождается от своей формы, разглядывала жёсткие углы его бёдер, белый сабельный шрам вдоль ключицы. Она видела, как едва заметно меняется выражение его глаз, когда он укладывал её на кровати.
Он медленно подходил к ней, она лежала не двигаясь, стискивая простыни или холодную бронзу кровати. Он входил в неё нежно, шепча по-немецки, а она отвечала на английском или голландском. Время от времени он называл её своей пленницей, стискивал зубы и сильно сжимал её запястья... затем вновь бывал нежен, почти боязлив.
Потом они лежали в темноте, слушая звуки улицы: шелест каштанов под ветром, стук проходящего фургона, вскрики полуночников-студентов. Они обменивались случайными фразами и уже спокойными ласками. Обычно после всего его тянуло к простым удовольствиям. Его сигареты, сделанные по особому заказу, импортировались из Анкары. Она набрасывала халат, напоминающий змеиную кожу, зелёный, с узором из лилий.
– Я одержим тобой, – говорил он ей. – Даже когда мы врозь, я чувствую себя одержимым.
– Дорогой, но это только иллюзия. Любовь – только иллюзия.
– Иллюзия? Обманчивая, волнующая иллюзия?
– Верно.
Он прижимал руку к её груди или поворачивал её лицо к свету и говорил:
– Но это не иллюзия, Маргарета. Это – реальность.
Если у него не было других дел, он обычно оставался до рассвета, засыпая возле неё или поигрывая её волосами. Руки у него были длинные и мускулистые, и она любила наблюдать, как они скользят по её коже.
Перед тем как уйти, он всегда целовал её в дверях, обхватив за талию и заставляя раздвинуть губы. И конечно, он всегда оставлял халат распахнутым, спадающим: она выгибала спину, и соски её слегка вдавливались в его военную форму – настоящий солдатский поцелуй.
Обычно после того, как он уходил, она, медленно пропуская волосы сквозь пальцы, плавно двигалась обратно к зеркалу на туалетном столике. Вероятно, она выбрала эту квартиру из-за её зеркал, расположенных так, чтобы всегда можно было видеть в них своё тело.
Иногда она целый час проводила, рассматривая на нем следы пальцев своего любовника, прослеживая малейшие изменения после доставившей удовольствие ночи. Вскоре она начнёт беспокоиться из-за своего возраста, но сейчас ещё живо было ощущение молодости и красоты...
Для неё это были безмятежные дни – одинокие утра в Тиргартене, синие вечера на Ландвер-канале. Если не считать Кирперта, у неё было только несколько случайных друзей, поэтов и музыкантов из «Романише кафе», одна или две знакомые женщины-соседки. Композитор Жюль Массне встретился с ней, чтобы обсудить будущий балет, так же как и хореограф Кассио. Однако не было ни единого признака присутствия в её жизни Рудольфа Шпанглера в это время, в чём её обвиняли позже.
Она говорила, что прибыла в Берлин для репетиций, чтобы дебютировать в середине зимы в Вене. Зал был превращён в студию. В начале вечера наняли пианиста. На фотографии, по всей вероятности сделанной Кирпертом, она появляется в лёгкой, как паутина, вуали. Пальцы её переплетены высоко над головой. Руки и ноги темны по контрасту с серебряными браслетами.
Она четыре недели танцевала в Вене, соревнуясь за зрительское внимание с Мод Аллен и Айседорой Дункан[18]18
Дункан Айседора (1878—1927) – американская танцовщица, родоначальница танца модерн. В своём искусстве использовала древнегреческую пластику, танцевала без обуви и в хитоне. В 1921 —1924 гг. жила в России, была женой С. Есенина.
[Закрыть]. Газеты описывали её как роскошную и высокую танцовщицу с гибкой грацией животного. Она возбудила горячие споры по вопросу, до какой степени можно быть обнажённым на сцене. Время отдыха она в основном проводила с Кирпертом, но роль, отведённая ему на публике, была такой же, что и всех, кто находился в её свите: почти раболепное поклонение. Его часто видели ожидающим её за кулисами или покупающим шампанское, пока она беседовала с обожавшими её почитателями. Она знала, как угодить и как воспламенить. Если не действовало одно, в ход шло другое средство.
Происходили неизбежные скандалы, в основном из-за дюжины молодых людей, которые являлись после каждого представления. И всегда было одно и то же: скучный обмен мнениями в шумном номере отеля «Бристоль», одежда, кинутая где попало, тарелки с недоеденной закуской на столике на колёсах.
– Возможно, ты расскажешь мне о нём, – обыкновенно начинал Кирперт.
– О ком рассказать, дорогой? – не поворачиваясь от окна или не откладывая щётку для волос в сторону.
– О том маленьком Поле.
– О каком Поле?
– С которым ты проговорила весь вечер... проговорила, не обращая на меня внимания.
– Но, дорогой, это ничего не значит. На самом деле ничего.
– Однако ты заставила его почувствовать обратное, Маргарета. В этом несчастье. Ты даёшь им всем почувствовать, что это важно. – Затем, наливая спиртное или прикуривая сигарету и опускаясь в кресло: – Меня это больше не устраивает, Маргарета. Просто не устраивает.
Она никогда не пыталась оправдываться в ответ, внимая молча гортанным гласным и твёрдым согласным. Она просто выжидала, пока придёт время лечь рядом с ним, и нашёптывала ещё больше нежностей: «Я люблю тебя, ты мне нужен», и тому подобное.
Занавес её последнего венского представления упал в середине января 1907 года. После краткого пребывания в Париже она со своим лейтенантом опять поехала на юг, в Марсель, и там поднялась на борт северогерманского ллойдовского парохода «Шлезвиг», направляющегося в Александрию. Был холодный день, дождливая среда.
Два духовых оркестра, соревнуясь, играли «Марсельезу» и «Санта-Лючию». Зелле осталась в каюте, сочиняя почтовые открытки влиятельным друзьям и краткую малозначащую записку Николасу Грею.
Египет – ещё одна её фантазия, запечатлённая на мутных фотоснимках, где Зелле позировала в тени пирамид и отдыхала под москитной сеткой. Некоторые постоянные жители – европейцы, позднее вспоминали жизнерадостную женщину верхом на верблюде, едущую через барханы. Время от времени её также видели в жилищах аборигенов, пытавшуюся заговорить с женщинами. Никто в точности не понимал, чего она хочет.
Из Египта они двинулись обратно через Афины в Рим, Цюрих и наконец – в Берлин. Там она вернулась в свою студию, работала с энтузиазмом над танцем, который потом назовёт «Роза». Кирперт продолжал встречаться с ней, в основном по понедельникам и вторникам. Его дары становились всё более экстравагантными – драгоценности, меха, яйцо Фаберже[19]19
...яйцо Фаберже... — Имеются в виду пасхальные яйца – изделия известной русской ювелирной фирмы Карла Фаберже.
[Закрыть], но тем не менее дни эти больше не были днями романтического подъёма. Он по-прежнему прибывал в экипаже по вечерам и уходил пешком на рассвете. И хотя все считали её знаменитой и свободной, на самом деле она чувствовала себя пленницей и всё ещё отчаянно ждала мужчину, который уведёт её очень, очень далеко.
Она встретила его в пятницу белым утром в Тиргартене. Он появился из тумана в сизо-сером фланелевом костюме и в пальто нараспашку. Она услышала его прежде, чем увидела: неровные шаги по гравию, синкопическое постукивание трости. И внезапно – на дорожке впереди – молодой британский джентльмен.
Он был не особо примечательной внешности: человек, похожий на чучело медведя с пуговками-глазами. Его одежда была, однако, явно дорогой, и ей понравилась его представительная походка. Запах его духов она знала как будто прежде, но не могла припомнить откуда.
Он небрежно приблизился, в то время как она, оперевшись локтями на ограду, разглядывала нарциссы и гиацинты. Она подождала, пока он поравняется с ней, и заговорила тихо и попросту, не думая:
– Я видела вас прежде, да?
Он кивнул, тоже ставя локти на ограждение:
– Да, я уверен, что видели.
– Здесь?
– Да.
– Тогда вы преследуете меня. – И она улыбнулась, но только слегка.
– Полагаю, да. Хотя это не то, что вам кажется.
Она вновь улыбнулась загадочной постановке вопроса:
– Говорят, ничто никогда не является таким, каким кажется.
Они стали прогуливаться, медленно приближаясь к кружку каштанов и железной скамейке под ними на лужайке.
– На самом деле я видел, как вы танцуете. В Вене.
– О, да? – удивилась она, словно никто никогда прежде не подходил к ней с этими словами.
– Вы были великолепны, воистину ослепительны.
– Благодарю, – сказала она своим самым холодным, самым церемонным тоном.
– Итак, значит, на самом деле это совпадение. То есть я впервые увидел вас танцующей в Вене и теперь встретил здесь. – Он засмеялся, чтобы прервать молчание. – Кроме того, естественно, я просто хотел понять – вы это или нет.
Она замерла, удерживая его взгляд и придавая паузе многозначительность.
– Да, это я.
– Да, – ухмыльнулся он. – Это вы.
Они уселись на холодную скамью, его руки покоились на рукояти трости, её были скромно сложены на коленях. Туман, казалось, рассеивался, оставляя всё чуть ярче, чем прежде.
– Меня зовут Данбар, Чарльз Данбар. – И он вытащил из кармана пиджака визитную карточку, чтобы подтвердить это, изящную, выполненную с хорошим вкусом визитную карточку с лондонским адресом.
– А что привело вас в Берлин, мистер Данбар? – мягко спросила она, как бы проверяя на слух его имя.
– Дело. Семейное дело.
– Ничего чрезмерно скучного, я надеюсь.
Он ответил ей тоскливой улыбкой:
– Инвестиции.
Повсюду вокруг них, казалось, сады пробуждались от голосов пенсионеров и детей. Ранний магический час прошёл, и город снова стал респектабельным.
– Я в сомнении, смогу ли увидеть вас ещё раз...
Она мгновенно окинула взглядом его глаза-пуговки и его пухлые безволосые руки:
– Что ж, это зависит от того, какие у вас намерения.
– Пообедать!
Она улыбнулась ещё раз, поигрывая краем платья:
– Обед – это ужасно серьёзно, вы так не думаете?
– Тогда как насчёт завтрака?
Она прикусила нижнюю губу:
– Да, на самом деле я более или менее занята в настоящее время.
– Заняты?
– С мужчиной.
– О, я понимаю.
– Но, возможно, вы мне назовёте ваш отель, и возможно...
– «Эспланада».
Как это было и с другими занимавшими её воображение мужчинами, её первой реакцией на эту короткую встречу была невинная фантазия: она и Чарльз Данбар гребут в лодке по какой-то провинциальной реке, он в белом фланелевом костюме и шляпе-канотье, она в розовато-лиловом кринолине. После вина и заливного цыплёнка они возвращаются в его коттедж, построенный в подражание тюдоровским, – она и её прекрасный англичанин с его привлекательными иностранными инвестициями.
Не считая этих грёз, её голова была занята в основном праздничными раздумьями. Она размышляла, каково быть любимой славным неприметным юношей. Или представляла, каково будет провести ночь в «Эспланаде». Однажды она даже обнаружила, что медлит в Тиргартене, надеясь увидеть его вновь, – не то чтобы она знала, что сказать ему, особенно теперь, когда господин Кирперт всё ещё оплачивал её счета.
Кирперт появился во вторник, обыкновенный скучный берлинский вторник. Он прибыл в начале вечера, распространяя запах пива и духов своей жены. Небо к тому моменту очистилось и было будто воронёное. Вновь их голоса стали плоскими и невыразительными.
– Ты хорошо себя чувствуешь? – спросила она. – Ты выглядишь усталым.
Он и в самом деле выглядел почти мертвецом, серо-бледным, с тёмными кругами под глазами.
– Это – нервы. У меня нервы в плохом состоянии.
– Да, но ты знаешь, что при этом рекомендуется какао. Я сварю тебе немного замечательного какао.
Он хмыкнул, отмахиваясь от неё:
– Лучше дай мне бренди, Маргарета. И побольше.
Она, не глядя, дала ему бренди в грязном стакане и уселась у его ног на полу. В лучшие дни они были способны просиживать так часами, пока Кирперт не напивался до беспамятства.
– Я сегодня получила письмо, – небрежно сказала она. – От моего агента.
Он бросил на неё взгляд, который она знала и прежде: «Твои личные дела меня мало интересуют».
– Идут переговоры об ангажементе.
Он промямлил что-то в ответ, но явно нельзя было быть менее заинтересованным.
– На самом деле, я думаю, они хотят, чтобы я снова танцевала в Мадриде. – Это было не вполне правдой, скорее ей нравилось, как это звучит: «Они хотят, чтобы я снова танцевала в Мадриде».
– Мадрид – помойная яма.
– Да, но речь идёт ещё и о деньгах.
– Каких деньгах? Тебе не нужны деньги. Деньги тебе даю я.
В другой день, в другом настроении она даже не потрудилась бы ответить. Его понятиям о женщинах и о жизни никогда невозможно было противостоять. Но сегодня она не смогла разыгрывать перед ним покорную и застенчивую танцовщицу. И даже не пыталась делать вид.
– Всё же, дорогой, думаю, я попробую. Да, я определённо попробую.
– Налей мне ещё выпить, Маргарета.
– Я не уверена, что ты понимаешь, дорогой.
– Разумеется, понимаю. Налей мне ещё.
– Я уезжаю пятнадцатого.
– Выпить, Маргарета. Я хочу ещё выпить.
– Трудно сказать, сколько времени меня не будет.
Он потянулся к её плечу, рассеянно проводя пальцем вдоль ключицы. Затем, внезапно схватив её за волосы, оттянул её голову назад.
– Выпить, Маргарета! Налей мне выпить.
– Мне больно.
– Выпить.
Она, не говоря ни слова, пересекла комнату. Кувшин стоял на каминной полке слева, но руки её тряслись так сильно, что ей пришлось перенести его на стол, чтобы не расплескать. Возвращаясь со стаканом бренди в левой руке к его креслу, она, казалось, не могла поднять глаз... до тех пор, пока не увидела его вплотную, недвижного.
– А теперь дай его мне, Маргарета. Дай мне.
Она, должно быть, подождала две или три секунды перед тем, как выплеснуть стакан ему в лицо. Следующие секунду или две никто из них не двигался. Наконец Кирперт поднялся и отвесил ей пощёчину. Она качнулась назад от его удара, закричала, когда он ещё раз ударил, изо всех сил, тыльной стороной ладони. Третий удар поверг её на колени, всхлипывающую, в распахнутом до бёдер халате, в уголках рта виднелась кровь.
– Выпить, Маргарета. – Голос его был твёрд, но тих – солдат, обращающийся к неразумному ребёнку. – Налей мне выпить.
Когда она не ответила, он вновь ухватил её за волосы, притягивая её лицо к своему.
– Выпить.
Его глаза были голубыми, с золотыми крапинками, и они удерживали её какое-то мгновение, прежде чем она выплюнула:
– Иди к чёрту. Прямиком к чёрту.
Она увидела, как его глаза слегка сузились, следом ещё один жалящий удар лишил её дыхания, и она упёрлась взглядом в бордюр из стилизованных птиц, вытканных по краю ковра.
Он медленно надвигался на неё, потом, просунув руки под халат, разорвал его на длинные полосы. Когда её руки инстинктивно дёрнулись к груди, он свёл оба запястья вместе, придавливая её голову к полу. Мгновение они оба оставались недвижными, тяжело, ритмично дыша.
В зеркале на противоположной стене она видела нелепую свою позу – вроде подготовленного для жарки цыплёнка со связанными лапками и крылышками. Кирперт снял брюки и опустился на колени рядом с нею. Его глаза помутились, и она не смогла удержаться, чтобы не поморщиться, когда он скользнул между её ног. Затем он навалился на неё разъярённым призраком, продвигаясь глубоко внутрь.
Когда он закончил, он оставил её на полу, слегка дрожащую, но не издавшую ни звука.
Он одевался в полумраке, наблюдая за нею, всё ещё молчащей. Мимолётное отражение его профиля в зеркале вызвало у неё только мгновенную мысль: по-немецки... Он заговорил плоскими фразами, без эмоций, как будто ничего не произошло:







