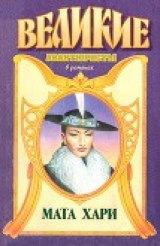
Текст книги "Любивший Мату Хари"
Автор книги: Дэн Шерман
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Лёгкое ранение, сказал он себе. Продолжай двигаться, просто лёгкое ранение. Он поднялся и пошатываясь направился в глубокую черноту между домами. Он понимал, что ни в коем случае не сможет оторваться от них с пулей в плече. Его единственной надеждой было снайперское решение – лечь тихо и неподвижно в тени.
В общей сложности он прождал час, прежде чем они прекратили искать его, целый час, истекая кровью под лестницей дома. Там шныряли крысы, но они не были так агрессивны, как те чудовища в окопах. Он также находил небольшое утешение в том факте, что узнал топографию местности.
Глава тридцать вторая
Комната была большой, с голыми, покрытыми пожелтевшей штукатуркой стенами и световым люком. Кровать размещалась у печи, повреждённая кроватная ножка закреплена кирпичами. В окно виднелся небольшой отрезок выложенной булыжником улицы. На стене – несколько рисунков, но ничего знакомого.
С первых мгновений, проведённых здесь, у Грея появилась мысль, что всё началось именно в такой комнате: узкий матрас возле сварной железной печи, голый дощатый пол и дождевые облака в световом люке. Даже погода казалась такой же – припозднившийся зимний холод в мае.
Его доброй самаритянкой стала пожилая натурщица, которую он рисовал однажды и с которой подружился, Мари Леклерк. Её никогда особенно не волновала судьба Зелле, но она никогда не забывала и доброты Грея. Пришёл врач. Пулю нашли, та застряла в кости. Затем последовали восемь дней борьбы с инфекцией и лихорадкой. Врач оставил небольшое количество морфина, чтобы облегчить физические страдания. Однако опасность оставалась.
И вот – пустая комната, кровать возле печи, кипы окровавленных бинтов на столе. Наконец через десять дней он смог сидеть, но не ходить. Ещё через неделю он смог ходить – пока только до окна. Не однажды неожиданный стук в дверь загонял его в шкаф, где он корчился за старой одеждой, забытыми холстами и ящиками пожелтевших писем. Дважды рана открывалась, когда он тянулся за вещами, лежавшими на ночном столике.
Он был прикован к постели уже около трёх недель, когда – очевидно, в ответ на письмо Мари Леклерк – появился Вадим де Маслофф, как всегда похожий на лохматого пса. Он пришёл в дождь, с чёрной повязкой на левом глазу – ещё один сувенир из Вердена. Грей дремал, слабый от лихорадки. Дождь, эта обстановка – всё напоминало об их первых днях вместе.
– Как поживаешь, Ники?
Грей выдавил улыбку, оставаясь неподвижным: онемевшая левая рука, уставшая правая, воспалённое плечо.
– Я слышал о ней, – сказал де Маслофф.
Грей кивнул:
– Да, думаю, что теперь уже слышали все.
– И мне очень жаль, Ники. Искренне жаль, но думаю, едва ли...
– Она невиновна, Вадим. Она невиновна, и я могу это доказать.
Де Маслофф поднялся со стула у кровати, ища пепельницу. На полу всё ещё оставались следы крови, стоял запах серы и дезинфекции.
– Ты не спрашиваешь, что случилось с моим глазом, – наконец сказал он.
Грей сделал глубокий вдох:
– Хорошо, Вадим, что случилось с твоим глазом?
Де Маслофф пожал плечами:
– Газ. И я даже не увидел проклятого германца. И не сделал фотографии. – Затем, поворачиваясь, неожиданно: – Ники, послушай меня. Ты не можешь продолжать в том же духе. Они уже начали обыскивать квартал, чтобы тебя найти, и, если позабыть обо всём остальном, тебе надо в госпиталь.
Грей с кровати продолжал отрешённо следить глазами за каждым его движением, за беспокойными пальцами, вертящими пробку от бутылки.
– Ты никогда особенно не любил её, да?
– Ники, ради Бога.
– Я не виню тебя... она не из тех женщин, которых можно ценить только как друга. Может быть, если бы ты спал с ней... или провёл несколько дней...
– Ники, прекрати.
На краткий миг в дверях появилась Мари Леклерк, обменялась взглядами с Вадимом де Маслоффом и исчезла. Скоро раздалось бульканье кипящей воды, по-видимому, она стерилизовала новый перевязочный материал.
– Суд должен состояться на следующей неделе, – наконец сказал де Маслофф. – Говорят, у неё очень хороший адвокат. Юноне.
Грей легонько дотронулся пальцами до своего плеча. По крайней мере кровь остановилась.
– Суд станет спектаклем, Вадим.
– Ты не можешь этого знать. У тебя не будет такой возможности. – И глядя на плечо Грея: – Кроме того, в настоящий момент, кажется, ты не сможешь сделать ничего.
Как только Грей собрался с силами, он переехал в более безопасную квартиру, которую де Маслофф подыскал ему у друзей. Квартира находилась на краю города – очередная узкая комната с окном в крошечный садик. Большую часть времени он проводил, составляя детальный отчёт о своих открытиях относительно этих телеграмм. Когда он закончил, набралось более пятидесяти страниц, написанных от руки на больших листах белой бумаги и скреплённых лентой бинта. В лучшие моменты он представлял, как передаст эти страницы одному из наиболее влиятельных друзей Зелле, может быть, Жюлю Камбону или даже герцогу Кумберлендскому. Но потом вновь он видел, как они лежат под досками пола до тех пор, пока их не обнаружит какой-нибудь будущий квартиросъёмщик спустя многие годы после его смерти. Последнюю мысль он старался выбросить из головы.
Глава тридцать третья
Суд над Матой Хари начался 24 июля 1917 года, днём. А предыдущим вечером её перевели из Сен-Лазара в Консьержери[52]52
...в Консьержери... — Консьержери – старинная тюрьма, примыкающая ко Дворцу юстиции в Париже. Во времена Французской революции 1789—1794 гг. здесь содержались перёд казнью Мария-Антуанетта, Дантон и др.
[Закрыть] рядом с Дворцом юстиции. Здесь после купания и мытья волос ей разрешили выбрать платье на завтрашний день. Она выбрала синее.
День выдался жаркий, нестерпимо душным и влажным он был и в закупоренных судебных конторах. Эдуард Клюне, семидесятичетырёхлетний адвокат Зелле, особенно сильно чувствовал это. Он страдал от сильного сердцебиения. Раздавались жалобы и присяжных. Наконец дождь, шедший около двух часов, принёс небольшое облегчение, но вначале стояла просто невыносимая жара.
У неё оставалось три полных часа до суда, и она провела их, медленно одеваясь в углу своей камеры, потом расчёсывала волосы, сидя на краю лежанки. Она попыталась даже немного отдохнуть. Туши для глаз у неё не было, но один из служителей принёс немного румян. Ей также выдали шпильки для волос и выгладили платье.
После того как она оделась, её провели в другую глухую комнату, рядом с залом суда. Здесь ей дали кофе и кусочек намазанного маслом хлеба. Ещё через полчаса появился её адвокат – знаменитый Клюне, сухопарый седой человек в полосатых брюках. Ходили слухи, что он был её тайным любовником – разумеется, это не так, – на самом деле они были просто друзьями. Войдя в комнату, он взял её за руку, отодвинул остатки завтрака и сел. Его верхняя губа уже покрылась бусинками пота, лицо горело.
– Как вы себя чувствуете? – спросил он.
Она слабо улыбнулась:
– Лучше, чем я думала.
– Вы выглядите попросту изумительно.
Она вновь улыбнулась:
– Это нам на пользу?
– Думаю, да. Видите ли, суд присяжных целиком состоит из военных.
На короткое мгновение в дверях появилась женщина.
В коридоре слышались шаги и кто-то жаловался на жару.
– Мне кажется, они начнут с очевидных вопросов, – сказал он ей. – Главное – оставаться спокойной и стараться отвечать без колебаний.
– Что, если я совсем не смогу ответить?
– Не волнуйтесь. Говорите только правду. И будьте красивой.
Женщина появилась вновь, обменявшись с Юноне ещё одним взглядом. Вскоре вошёл молодой служащий в мундире. Очевидно, время пришло.
– Да, – спокойно сказал Юноне, – думаю, они уже готовы.
Казалось, секунду она не могла сдвинуться с места, лишь протянула к нему руку через стол:
– Мы боимся, Эдуард?
Председательствовал на суде пятидесятичетырёхлетний полковник Альберт Эрнест Сомпру из Республиканской гвардии. Семь членов суда были избраны из Третьего временного военного совета. Прокурор – скелетообразный Жан Морне (который в конце концов станет прокурором у маршала Петена[53]53
...станет прокурором у маршала Петена... – Петен Анри-Филипп (1856—1951) – французский маршал, в Первой мировой войне командовал французскими армиями. В 1917 г. стал главнокомандующим. В 1940—1944 гг. был главой капитулянтского правительства во время оккупации Франции фашистскими войсками, затем коллаборационистского режима Виши. В 1945 г. был приговорён к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением.
[Закрыть] в следующую войну). Все собрались к тому времени, как заключённую ввели; одни тихо переговаривались между собой, другие молча смотрели на неё.
Она вошла медленно, на шаг позади Юноне; Руки её висели свободно, глаза опущены. Она представляла, что это будет большой зал, отделанный мрамором, а не битком набитая комната суда с рядом окон только на северной стене. Он1а также воображала, что присяжные заседатели будут помоложе, а галёрку заполнят её. друзья из лучших салонов. И было много жарче, чем она ожидала.
Началось с серии безобидных вопросов, как и предсказывал Клюне. Допрашивал её тощий Морне, чей стиль допроса напомнил ей Бушардона. Он старался говорить очень медленно, прохаживаясь туда-сюда. Его глаза, казалось, тоже находились в движении, за исключением тех моментов, когда устремлялись на неё.
Первые вопросы были обстоятельными, рассчитанными только на то, чтобы определить её характер. Он спрашивал об её политических взглядах и почему её столь часто видели в обществе военных. Спросил о её переездах в начале войны и о её явном влечении к молодым офицерам. Затем, не делая паузы, спросил о деньгах.
– Скажите мне, мадам. Хорошо известен факт: германцы обычно очень плохо платят своим шпионам. Тогда чем вы объясните сумму в двадцать тысяч франков, полученную вами от герра Крамера?
Она откинула со лба выбившийся локон – первый из нескольких небрежных жестов, отрепетированных ею накануне вечером. Потом так, будто предмет разговора был недостоин её:
– У меня всегда создавалось впечатление, что герр Крамер рассчитывал на нечто большее, чем деловая связь.
– Если говорить точнее, на что именно, мадам? Этот герр Крамер надеялся на то, что деньги станут основанием для романтических взаимоотношений?
– Я бы выразилась чуть иначе, но в основном верно.
– А вы имеете обыкновение вступать в романтические связи с мужчинами, которые дают вам деньги?
Она хотела улыбнуться, но подумала, что это будет неуместным.
– Нет, я бы не сказала, что это является единственным основанием...
– Отлично, тогда исходя из чего вы предполагаете, что герр Крамер считал, будто может завоевать вашу симпатию при помощи двадцати тысяч франков?
– Полагаю, вы должны задать этот вопрос герру Крамеру.
– Но я спрашиваю вас, мадам.
– Боюсь, я не могу вам помочь.
Наступила короткая передышка, пока Морне совещался со своим помощником, а Юноне обменивался подбадривающими взглядами со своей клиенткой. Затем, без предупреждения, посыпались вопросы, касающиеся артистической карьеры подсудимой, и внезапно Морне вытащил те телеграммы.
Теперь он смотрел на неё пристально с прокурорской скамьи, опираясь на костяшки пальцев. Говорили, что он никогда не прикасался к спиртному, даже к вину. Он также не курил и не ел мяса. Однако его глаза не светились здоровьем, и кожа слишком туго обтягивала череп.
Как и прежде, сначала вопросы казались относительно безобидными. Он хотел знать, почему она предпочла остановиться в Мадриде в отеле «Палас», а не в «Рице». Затем последовала серия вопросов о её финансовом положении и особенно её образе жизни в Испании.
Она отвечала осторожно, следя за тем, как он вертит в руках карандаш.
– Мадрид – довольно недорогой город, – сказала она. – Можно жить очень хорошо почти без денег.
– Но вы едва ли жили без денег, мадам. Одно ваше проживание обошлось в пятнадцать тысяч песет. И определённо должны были быть и другие расходы. Возможно, одежда? Драгоценности?
Она удерживала его взгляд ещё мгновение, следом взглянула на присяжных:
– Не заведено, мсье, чтобы женщина сама себе покупала драгоценности.
– Разумеется, нет. Только, чтобы закладывала их. – Улыбки. – Теперь скажите мне, мадам, как вы управлялись с деньгами в Мадриде?
– Я до этого получила некоторую сумму от друга в Голландии.
– От барона ван дер Капеллена?
– Да.
– И эти деньги поддерживали вас с того времени, как вы покинули Англию, до вашего ареста в Париже?
– Барон всегда был очень щедрым человеком.
– Тогда почему вы нашли нужным попросить дополнительно пять тысяч франков у германского шпионского центра в Берлине?
Её ответ никого не удовлетворил.
– Как я сказала раньше, все деньги, полученные мной из-за границы, приходили только от барона.
– Кроме, конечно, пяти тысяч франков, упомянутых в этой телеграмме... верно?
– Но, мсье, это не так.
– Тогда как вы объясните написанное в этих телеграммах?
– Я не стану этого объяснять. Я отрицаю их.
– Отрицаете, мадам? Как вы можете их отрицать? В настоящий момент я держу точные копии телеграмм в руке. Как вы решаетесь отрицать их? Скажите, пожалуйста, я уверен, суду чрезвычайно интересно будет узнать... как вы решаетесь отрицать их?
И так продолжалось ещё тридцать или сорок минут: серии разоблачающих вопросов о документах и ответы, которые являлись только отрицанием. В течение этого времени она обнаружила, что опять обвивает пальцы платком, закручивая его в жгут.
...Суд удалился около семи часов. Ожидаемый ливень с грозой миновал, и вечер оставался жарким и безветренным. После ужина, состоявшего из нарезанной кусочками свинины и картофеля, её снова заперли в её временной камере. Женщина-охранник стояла так, чтобы видеть решётку, и была начеку в случае задуманного самоубийства.
Камера находилась в конце длинного и узкого коридора. Здесь отсутствовали окна и настоящая вентиляция. Скудный свет. Войдя, она разделась, оставшись лишь в короткой комбинации, и легла на койку. Сначала сверху слышались протяжные голоса и звуки. Постепенно всё успокоилось. К тому времени, как появился Чарльз Данбар, фактически воцарилась тишина.
Он, должно быть, наблюдал за ней, прежде чем она проснулась. Он сидел в кресле охранницы и смотрел на её лицо через решётку. Его пальцы сжимали сигарету, а несколько окурков валялись на полу. На выступе, кажется, стояла бутылка виски или бренди. Тусклый взгляд, вокруг глаз его тёмные круги.
– Привет, Маргарета.
Она села и потянулась за чем-нибудь, чтобы прикрыть обнажённые бёдра, но простыни и одеяло исчезли.
– Что тебе нужно, Чарльз?
– Поговорить. Ведь прошло много времени.
Она обняла руками плечи, будто замёрзла:
– Да, прошло много времени.
– И кажется, ты не слишком много обо мне думала?
Она вздохнула. Её волосы всё ещё были влажными от пота, и потому вокруг лица легли тёмные завитки.
– Нет, Чарльз. Никогда слишком много о тебе не думала. И это явная ошибка.
Он поднялся, отпер дверь и шагнул внутрь. Он стал значительно толще, чем она помнила, особенно мясистыми выглядели руки.
– Я хочу, чтобы ты знала – мне жаль, что так всё обернулось. Мне искренне жаль, и если я могу сделать ещё что-нибудь...
Она закрыла глаза, опять глубоко вздохнув:
– Спасибо, Чарльз. Но я вправду думаю, что ты сделал уже достаточно.
Он прикурил новую сигарету и сел рядом с её койкой. Она подтянула колени к груди, её обнажённые бёдра и плечи казались ещё обнажённее на фоне этого плотного человека в нарукавниках.
– Между прочим, – внезапно сказал он, – ваш друг-художник причинил нам множество неприятностей, а теперь как будто исчез. Скрылся, без сомнения, у своих друзей-художников...
Она склонила голову к коленям:
– Почему ты это делаешь, Чарльз? Почему ты пытаешься причинить мне боль?
Она услышала, как он выдыхает сигаретный дым, затем почувствовала – его палец играет с её волосами.
– Я не пытаюсь причинить тебе боль, Маргарета. Я просто хочу удержать тебя, чтобы ты не делала больно другим. Думаю, ты можешь это понять.
Она хотела оттолкнуть его руку, но словно не в состоянии сама была поднять руки. Должно быть, от жары.
– Я также хочу, чтобы ты знала – лично я на тебя не сержусь, – сказал он. – Я даже не представляю, что мог бы когда-нибудь на тебя рассердиться. От тебя не жду того же... но, возможно, ты поймёшь когда-нибудь правду. Я и в самом деле очень сильно люблю тебя. – Его рука скользнула к её затылку, прилипнув на мгновение, словно отвратительный краб, однако она уже собралась с силами и сняла её.
Теперь он провёл рукой по своим глазам. Может быть, он плакал? Или это опять только пот?
Спустя какое-то время она сказала:
– Ники был прав. Ты сумасшедший. – И добавила про себя: «Жалкий, что ещё хуже».
Он, казалось, не слышал.
– Ну, я должен идти, Маргарета. Ужасно приятно говорить с тобой. Может, я приду ещё раз, прежде чем закончится суд.
Суд подходил к концу. Оставалось не более пяти часов. Знойная среда. Суд возобновился утром. Сначала несколько замечаний Сомпру, затем чтение показаний отсутствующих свидетелей. Больше половины вызванных не явилось – некоторые действительно задержались, большинство просто не хотели оказаться замешанными. Из остальных присутствовали только маникюрша, предсказательница будущего и случайный любовник из тех – лучших – дней.
Заключительные заявления начались в судебном заседании сразу после полуденного перерыва: сначала Морне с аккуратным резюме правительства, которое можно было ожидать, потом защита с элегантной, но чуть искусственной мольбой об оправдании. Отложите в сторону предубеждения, рождённые злобой дня, увещевал присяжных Юноне, изучайте только то, что было сказано, а не то, что подразумевается. Помните, одна жизнь не менее значима, чем сотня жизней, и если мы осудим невиновного, в конечном счёте будем осуждены мы все. Пока это продолжалось, она сидела, застыв и уставившись на пустую раму, которая некогда заключала в себе картину с изображением Христа.
Прошло приблизительно сорок пять минут между этими завершающими заявлениями и приговором, и она опять сидела в одиночестве, теперь в комнате под лестницей. Здесь из двух овальных окон открывался великолепный вид на город. Небо было белым, и только на севере плыли последние дождевые облака. Единственный близкий звук – треск одинокой пишущей машинки.
Она стояла спокойно, вцепившись обеими руками в прутья решётки.
Но оказалось, что она должна сесть, даже если это значило удалиться от окна, оторваться от прекрасного вида, она должна сесть. В своих ранних фантазиях она видела этот момент как чрезвычайно значительный, отмеченный чем-то вроде откровения последней минуты и осознания мира. Она бы удовольствовалась небольшим количеством туши для ресниц и стаканом белого вина, это помогло бы ей встретиться с судом лицом к лицу.
Было около четырёх утра, когда её повели обратно в зал суда. Температура – восемьдесят градусов по Фаренгейту, и облегчения не видно. Прошедший чуть раньше дождь едва ли смочил улицы, и все чувствовали себя измождёнными. Заключённая, позднее вынуждены будут сказать наблюдатели, выглядела безучастной. Её адвокат истекал потом. Даже судья с трудом держался, но, преодолевая всеобщее утомление, зачитал приговор: смерть.
Глава тридцать четвёртая
После суда прошло три знойных дня. И вдруг – внезапный ветер, отдалённый гром, а потом – дождь. Грей лежал на узкой кровати, изучая своё плечо. Услышав звук дождя, он надел рубашку и вышел на балкон. И тогда, хотя ему никто не говорил, он понял. Он понял.
Де Маслофф пришёл около четырёх часов, Грей сперва увидел его издалека, по крайней мере, в пятидесяти ярдах. Несмотря на дождь, тот шёл по переулку очень медленно. Здоровый глаз его был направлен на тротуар. Он даже не пытался обходить лужи.
Они встретились на небольшой террасе над садом. Там росли азалии и классические розы на длинных стеблях. И там, конечно, чётко чувствовалось присутствие Зелле.
– Говорят, остаётся хороший шанс для апелляции, – говорил де Маслофф. – И, разумеется, нельзя исключить возможности помилования.
Грей всё ещё не мог прикурить сигарету, не мог даже пошевелить рукой.
– Почему бы тебе не сказать это просто, Вадим?
– Ники, послушай. В подобных ситуациях всегда есть возможность. Заступничество Голландии. Президентский пересмотр...
– Просто скажи это, Вадим. Её собираются убить...
Молчание друга, сейчас громче крика, стало как бы подтверждением. Он поднялся со своего стула и подошёл к краю террасы. Спустя ещё мгновение он начал разминать плечо, двигая им вверх и вниз, вперёд и назад. Плечо было словно деревянное, и он не мог справиться с болью.
– Где она?
– Ники, не делай этого.
– Где?
– В Сен-Лазаре. Ники, ради Бога, послушай меня...
– А где Данбар?
– Ники, пожалуйста.
– Где?
– Четвёртый этаж «Континенталя». Ники, не делай этого.
Чтобы закрыть тему, Грей повернулся и взглянул на него, он видел, как закрывается здоровый глаз.
– Я не прошу твоей помощи. Я просто хочу, чтобы ты не пытался меня остановить.
– Ники, если бы ты только мог увидеть себя хоть на мгновение, только на одно мгновение.
– Однако мне понадобится твой револьвер. И несколько патронов.
– Ники, как ты можешь считать, что она такого заслуживает? Как ты можешь считать, что кто-нибудь заслуживает такого?
Грей опять начал разминать плечо – вверх и вниз, вперёд и назад.
– Ты никогда её особенно не любил, так, Вадим? Я имею в виду, она тебе никогда по-настоящему не нравилась?
И вновь молчание друга – громче крика – стало подтверждением.
Грей ушёл из дому сразу после того, как стемнело, он шагал пешком по окольным улицам. Дождь на время сменился тёплым ветерком, наполнившим воздух знакомыми запахами угля и отбросов, овощей и масла, влажной листвы из окружающих садов.
Пройдя первую милю, он осознал, что его плечо снова болит, поэтому он немного посидел, пока не утихла боль. Потом он заспешил, ибо, кроме всего прочего, она тоже ждала слишком долго. Повсюду стояли военные фургоны, и только бульвары были всё ещё живы. В боковых улицах встретилось несколько проституток, но ни одна не выглядела настолько совершенной, чтобы идти на убийство ради неё.
Время близилось к десяти, когда он добрался до «Континенталя». Швейцар удалился, а ночной портье, казалось, наполовину спит. Как и во всех излюбленных отелях Данбара, обстановка была, разумеется, английской. Доносились запахи варёного мяса и лавровишневой воды, в чайной комнате стояли искусственные растения в горшках. Здесь висел даже портрет короля, который, по словам некоторых, тоже однажды спал с Зелле.
Как и говорил де Маслофф, комната Данбара находилась на четвёртом этаже – его драгоценном четвёртом этаже. До этого Грей беспокоился: вдруг его там нет, но теперь, в колодце лестницы, ему казалось, что он чувствует его присутствие. Наверное, бродит при свете лампы с бутылкой джина и очередной фотографией Маты Хари. «Чарльз удивительно эмоциональный и сложный человек», – сказала она ему вскоре после того, как они встретились. Что бы она сказала сейчас?
Последний коридор был тихим и пустым. Не доносилось никаких звуков и из соседних комнат, не было даже гудения лифтов. Грей подошёл к двери, вытащил револьвер, снял пальто и положил рядом с собой на ковёр. Он уже решил, что, если Чарльз спросит, кто стучит, он ответит невнятно по-французски: telegramme – это выглядело бы уместным.
Данбар ответил на стук Грея, не сказав ни слова, отступив от двери, как любой джентльмен, которому нечего бояться. Грей ударил его дважды, устремившись внутрь, – первый раз по губам дулом револьвера, затем коленом в пах.
Данбар несколько минут не вставал с пола. Руками он зажимал мошонку, а изо рта натекло изрядное количество крови. Грей закрыл дверь на замок, отодвинув абажур, налил себе стакан джина. Ножка стола была вдребезги разбита, и по ковру рассыпались документы – письма на бежевой почтовой бумаге с гербом его величества, листы машинописи на тонкой гладкой бумаге, жёлтая бумага с написанными от руки заметками и дюжина фотографий Зелле.
Старые фотографии, времён её первого заграничного тура. Грей увидел, что Данбар что-то нацарапал на обороте одной фотографии, но не смог разобрать надпись.
– Вы никогда не видели её ранних представлений? – спросил Грей.
Глаза Данбара продолжали следить за ним, находящимся в другом конце комнаты.
– После этого я не смогу защитить вас, Ники.
– Лично я всегда считал, что она была тогда лучше. Возможно, не так совершенна технически, но удивительно непосредственна.
– Я предупреждаю вас. Будут очень серьёзные последствия...
– Вам действительно следовало посмотреть её представление в «Олимпии», Чарльз. Поверьте мне, в тот вечер она танцевала так, что захватывало дух.
– Слушайте, Ники, я не хочу видеть, как вам причинят боль...
Грей пересёк комнату и двинул Данбару каблуком в основание позвоночника.
– Я тоже не хочу видеть, как вам делают больно, Чарли.
Глаза Данбара оставались открыты. Следы рвоты перемешались на ковре с кровью.
– Я не знаю, чего вы хотели добиться, но вы наверняка не сможете...
– Заткнись.
Он налил второй стакан джина и поместил его на выступ окна рядом с головой Данбара.
– Расскажите мне о ней, Чарльз. Как её там содержат?
– Ещё не поздно остановиться, Ники. Я всё ещё могу взглянуть по-другому.
На письменном столе лежала автоматическая ручка. Грей схватил её и швырнул на грудь Данбару.
– Вот, нарисуй нам небольшую схему. Я хочу знать, где находится её камера. Точное расположение.
– Ники, это начинает становиться...
– И укажите, где располагается охрана. Ведь нам нужно это знать.
– Ники, ради Бога. Чего вы надеетесь добиться?
Грей, сдёргивая телефон со стены:
– Так вот, Чарли. Вы её туда засунули, и теперь вы вытащите её оттуда.
Это были две долгие мили – от «Континенталя» до Сен-Лазара, даже ещё длиннее для того, кто избегает бульваров. К тому же Данбар вёл машину плохо, она дважды заглохла на улице Клэр и ещё раз – не доезжая до зоопарка. Опять полил дождь.
Данбар должен остановить машину у края тюремной стены, сказал Грей. Отсюда они пройдут к основным воротам. Если они встретят охрану, он должен назвать себя и потребовать встречи с заключённой. Неверное слово или жест положат конец его жизни.
– Ники, позвольте мне сказать всего одну вещь.
– Как только она выйдет оттуда, мы вернёмся к машине. Вы понимаете?
– Послушайте, у меня нет такой власти, чтобы сделать это.
К тому времени, как они увидели тюремные стены, дождь превратился в морось. Когда они выбрались из машины, Грей перекинул плащ через руку, чтобы спрятать револьвер, и подошёл к Данбару; к главным воротам они двинулись пешком.
Подход к воротам был длинным и узким – выложенная булыжником дорожка меж высоких стен. За исключением сторожки у ворот и башен наверху, нигде не было света. Подойдя к Данбару, он опять прижал револьвер к его рёбрам, подгоняя его вперёд. Стояла тишина, единственный звук – стук их каблуков по булыжникам и, наверное, биение её сердца, синхронное с его шагами...
Он представлял, что это война – война, на которой он всегда воевал, – бетонная ничейная земля, медленный подход к окопу врага, одолженный револьвер и нелепый, но тем не менее злобный заложник. Если тактика и была несколько нетипичной, то лишь потому, что неравенство было вопиющим – армия, состоявшая из одного, против мира. Их мира.
Он шёл чуть одеревенело, потому что плечо опять стало саднить, шёл, устремив глаза на ворота перед собой, ворота, которые являлись единственной целью. Он держал револьвер на уровне бёдер Данбара – таков этикет. Он пытался удержать себя от мыслей о Маргарете. В шестидесяти футах он смог различить первых охранников: две покачивающиеся фигуры на фоне башни. Ещё ближе – и у ворот появились ещё двое. Они едва ли могли предположить, что затевается... Все влюблённые находятся в состоянии войны с миром, сказала она ему однажды с улыбкой. Истинности сказанного никто из них не мог понять до настоящего момента, когда она цеплялась за решётку своей камеры, постукивая пальцем в такт его шагам. Да, подумал он, Маргарета, несомненно, чувствует, что я близко...
Последние пятьдесят футов были особенно темны, сетчатые тени от стен до башен, и намёк на свет с улицы. Всё же ему казалось, он в состоянии слышать теперь, как она шепчет его имя. Ни-ки. И опять, как звук захлопывающейся двери или даже затвора винтовки... Ни-ки, Ни-ки...
Он повернулся, оглядываясь на стекающиеся сюда улочки, затем на стены впереди. Хотя не было ничего подозрительного, но она явно пыталась сказать ему что-то... Ни-ки... Даже Данбар должен сейчас это слышать, тоже колеблющийся, пока она продолжала... Ни-ки – в точности, как тихий щелчок патрона, скользнувшего в патронник.
Впечатления нахлынули на него прежде, чем он и впрямь увидел солдат: французские винтовки, судя по звуку скользнувших затворов. Офицеры ждали только, пока Данбар окажется на виду, прежде чем отдать приказ стрелять. Де Маслофф никогда бы не предал его, если бы у него было время узнать её...
Он услышал голос Вадима, кричащего близко по-английски и по-французски: «Не стреляйте. Бога ради, не стреляйте в него».
Затем включили свет, длинные дуговые лампы, направленные на него с башен и чётко очерчивающие каждый булыжник.
Он услышал, как Данбар кричит что-то ему в ухо, и попытался ударить его по губам, но тот уже упал на булыжники.
Выстрелы – два, может, три у его ног и четвёртый в его левое бедро. Он не повалился, когда Зелле была столь близка. Он просто споткнулся, оглядываясь вокруг себя, как раненый бык, и затем продолжал медленно идти.
Казалось, они колебались, прежде чем снова открыть огонь. Кто-то даже кричал, приказывая, но тем не менее ничего... затем последний слабый шаг вперёд и последний выстрел, останавливающий его.
Теперь он лежал очень тихо, чувствуя, как влага сочится сквозь его одежду, тупая боль поднимается от ног. Хотя казалось, крови очень много, он понимал, что всё не так уж плохо, скорее рана из тех, о которых молятся на фронте. А пока он слышал приближающиеся шаги по крайней мере дюжины её ревнивых любовников... Данбар, Михард, Шпанглер... объединившихся наконец, чтобы помешать ему забрать её.
И их глашатай, его старый друг де Маслофф...
– Боже, Ники. Боже, клянусь, я не хотел этого...
– Почему ты сказал им, Вадим? – Как будто ответ не отражался в его глазу.
– Ники, ты должен понять, я беспокоился. У меня не было выбора...
– Почему? – Как будто это не было написано в глазах у всех.
– Потому, чёрт побери, что она просто этого не заслуживает.
Он отказался слушать, как и всегда.
После этого он видел её только издалека. Он провёл четыре дня в изолированной палате, потом его перевели в клинику на краю Таверньи – ещё одна белая комната с зарешеченными окнами. Там среди регулярных доз морфина и нескольких осложнений она являлась в основном в грёзах. Некоторые из них были яркими, другие обычными... из тех мелькающих перед глазами видений, ко торые одолевали его годами. Самым лучшим, однако, было то, где она являлась на фоне ночного неба, притягивающая его к себе... на высоте в тысячу футов, над городом, который она любила.







