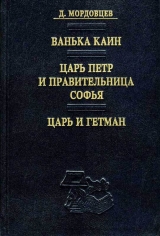
Текст книги "Царь Петр и правительница Софья"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
– Глядь-ка-сь, глядь-ка-сь, православные! Царь – от с девками поехал! Ай, срам какой!
– Ай-ай-ай! И стыдобушки-то у них нет, у окаянных иноземок: хоть бы фатами позакрыли свои бесстыжие зенки.
– Да и царь – от, Господи! Неужто это царь!
– Это выродок, не царь: ведь сороки-то неспроста на Москву налетели…
– Знамо дело! Последние времена пришли: света переставление, чу, близко… Да и Микитушка, царство ему небесное, и все отцы сказывали.
– Иверска, чу, даве плакала: слезыньки так из сухого древа и льют, так и льют!
– А мне онамедни поп Андрей, что у Спаса в Чигасах, сказывал: бысть ему видение, в тонце сне явися ему Афедрон, борода седенька…
– Кто ж он, почтенный, будет, Афедрон этот?
– Муж некий…
– Не Афедрон, такого имени и в святцах нетути, може Афинодор?
– Много ты знаешь!.. Сказано, Афедрон. И в Евангелии, чу, чтут: с Афедроном исходит…
– Об царе что ль?
– Знамо, о царе. Вон и сороки… видение было отцу Андрею, а царь вон с девками.
Но царь не слышал этих рассуждений москвичей о его особе, о видениях, о девках. Впрочем, он уже успел узнать эту рассуждающую Москву еще во дворце от матери – царицы, от бесчисленного множества царевен, теток и сестер, от всего этого «бабья», которое жило стариной и всевозможной чепухой: ему огадили эти вечные толки о «перстном сложении», о «трегубой аллилуе», об «аллилуевой жене»; все эти «бысть видение», в «сониях старцев», «в тонце сне», «некий муж», «жена некая»; эти «знамения», «сороки», «борода седенька», «бысть глас» – всей этой чепухе Москва верила, о ней только и говорила, и это злило «огненного мальчика», бросало его в крайности, в разрыв со всей этой темнотой, затхлостью, постоянными придирками матери: «это негоже», «это не пристало», «это не по старине»…
И вот он мчится в немецкую слободку, только бы быть подальше от двора, от этих постельниц, приживалок, дурок, ханжей и святошей. И он не мог не чувствовать, что в этой новой немецкой сфере ему легче дышится – его тут понимают и не пилят, не ноют.
– А какая была фестунг хорошая, крепость, – заговаривает хорошенькая Модеста.
– Зело хороша, – весело отвечает царь, – спасибо Гордону да Лефорту, они надоумили.
– Да у вас, государь, и глаз подбит?
– Точно, подбит, ловко угодили… ранили…
– О, да! Это почетная рана, эйне эрлихе вунде!.. И вам больно, государь?
– А зачем ты говоришь мне вы, разве нас много?
– А как же, государь? Ты – грубо, невежливо…
– Какое тут невежество! Мы и Богу говорим ты.
– А как же, государь, вы в грамотах пишете: мы, великий государь… И батюшка ваш так писал, хоть он был один.
Петр задумался, это ему еще никогда не приходило в голову.
– Это дьяки выдумали, – наконец решил он и обратился к другой своей спутнице, к Ягане, которая все время молчала, надув губки.
– А ты что, Яганушка, молчишь? – спросил он ее.
– Не хочу сердить вас, государь.
– Чем сердить? – удивился он.
– Собой.
– Как собой? Я твоих слов в толк не возьму.
Девушка молчала и следила глазами за копытами пристяжной, которые далеко отбрасывали комья снегу. Петр заглянул ей в глаза.
– Ты гневаешься на меня, Яганушка? За что? – спросил он.
– Я не смею гневаться на своего государя, – был ответ.
– Так что же с тобой? Сказывай… Какая муха укусила ее? – обратился он к Модесте.
– Не знаю, государь: теперь мух нет.
– Ну, так что же, Яганушка? – нагнулся он к упрямице.
– Как же, государь! – сказала та и вся вспыхнула. – Вы сами говорили, что терпеть не можете девчонок, гэслихе мэдхен…
И Петр, и Модеста рассмеялись.
– Да ты уж ноне не девчонка… ты, девка, красная девица.
Брови лебедины…
Глаза соколины…
Лошади остановились как вкопанные: они были у ворот дома Монса.
XVII. Под Перекопом
– А что ни говори, прав, многократы был прав наш потешный царек – от, когда брал на Москве-реке снежный Перекоп – город: не взять-де его Ваське Голицыну… Вот я и у Перекопи этой, а поди, укуси ее…
Так говорил сам с собою князь Василий Васильевич Голицын, мучимый в своем шатре бессонницей под стенами Перекопа. Это было через два с лишком года после того, как «потешные ребятки» Петра брали снежный город на Москве-реке.
Более чем стотысячная московская армия с Голицыным во главе и шестидесятитысячное казацкое войско с новым гетманом Мазепой действительно обложили Перекоп весной 1689 года.
– Да, укуси Перекопь-то эту, – ворчит про себя Голицын, – а она, царевна Софья, как похваляет меня!.. Дура, старая девка!
Он подходит к той части палатки, где поставлен походный киот, а перед ним раздвижной стол, покрытый дорогим персидским ковром и заваленный бумагами и книгами.
– Вот похвала другу Васеньке… Дура!
Он берет со стола письмо и, присев к канделябру с горящими восковыми свечами, читает про себя:
– Свет мой братец ватенка[4]4
Письмо приводится с буквальной точностью и с соблюдением правописания царевны. Оно писано тайнописью – цифирью – и реставрировано покойным Устряловым. Подлинник его – в государственном архиве. – Прим. авт.
[Закрыть], здравствуй батюшка мой на многая лета и паки здравствуй, Божиею и пресветые Богородицы и твоим разумом и счастием победив агаряны, подай тебе Господи и впредь врага побеждати, а мне, свет мой, веры не имеетца што к нам возвратитца, тогда веры пойму, как увижю во объятиях своих тебя, света моего. А што, свет мой, пишешь, штобы я помолилась, будто я верна грешная перед Богом и недостойна, однако же, дерзаю, надеяся на его благоутробие, аще и грешная. Ей, всегда того прошю, штобы света мего в радости видеть. Посем здравствуй, свет мой, о Христе на веки неищетные. Аминь.
– Дура! И писать-то не научил ее Симеон Полоцкий.
Зол князь Василий, крепко зол. Скорее он смутен, чем зол. Это письмо вместе с другими бумагами и грамотами привез из Москвы гонец, боярин Сумбулов.
– Меласю, слышь, за него обещали… Да и девка, кажись, непрочь от него. – Он задумался. Несмотря на то, что ночь давно наступила, а над обширным станом все еще стоит гул. В цепи перекликаются часовые. С неприятельской стороны, из-за «перекопи», доносятся иногда рев верблюдов, крики ослов. Иногда прокричит петух.
Смутно на душе у Голицына. Связал он свою жизнь с этою царевною, давно связал в мертвый узел, не зная, что из этого выйдет. А, кажется, что добром не кончится. Вон потешный царек все круче и круче завертывает, шибко забирает… Не чаяли они этого…
И перед ним картина за картиной проносится все, что было в последние два года, когда в недобрый час задуман первый поход на Крым.
– Силу не махоньку вывел я в поле, стотысячную рать! Зато и титло мне дали не махонькое… Шутка сказать! Большого полка дворовый воевода, царственные большие печати и государственных великих посольских дел сберегатель и наместник новогородский!
Долго двигались рати, пока дошли до Самары.
– Тут подоспел гетман Самойлович, а с ним пятьдесят тысяч казацкой силы. Казалось бы, чего лучше! Так нет, окроме стыда ничего не вышло… Идем, идем, а татар все нет. Где татары, Богу одному ведомо. Радость бы, кажись, нам, так нет, одно горе… Степи ногайские, что море, ни конца ни краю им не видать. Хоть бы облачко на небе, точно и сам Бог отвратил от нас лицо, истинно отвратил: упека такая, что хоть ложись да помирай!
И вспоминает он, как вдруг запылали эти степи: ад кромешный кругом, и в этом аду должно двигаться войско… Ни травы, ни кормов, ни водопоев…
– Ну и поворотили назад со срамом, эх, незадача моя!
Говорили, что это татары зажгли степь. А другие подозревали, что это велел поджечь ее Самойлович. И Самойлович пропал. Вместо него выбрали гетманом хитрого Мазепу.
И вот, через два года, Голицын и Мазепа опять двинулись в беспредельное море ногайской пустыни почти с двухсоттысячным войском. Татары не успели выжечь степей. Зато, подобно саранче, обсыпали со всех сторон и московское и казацкое войско, налетают то в тыл, то по бокам, врываются даже в обоз, но все напрасно: войска двигались все дальше, дальше… У Черной Могилы они очутились лицом к лицу с войском самого хана. Схватка была жаркая; немало пало татар: убит сын хана, убит сын перекопского бея… Татары с гиком отступили, побросав своих убитых и раненых. Но, отскочив в сторону, они налетели на казацкие полки и отомстили за Черную Могилу. На другой день опять показались орды самого хана, но, встреченные огнем картечи, дрогнули и, обогнув по крылам в тыл, забрали там своих убитых и все время лезли в глаза, как осы, а их все угощали картечью…
Об этом-то и писал Голицын царевне Софье, и на это-то она отвечала ему страстным письмом, которое рассердило его… «Победил агаряны!..»
– Да, связала меня нелегкая с этой девкой… Скоро ей быть черничкой, а мне под топором…
Он невольно вздрогнул… Перед ним стоял Мазепа. По обыкновению он вошел неслышными шагами, как кошка, и теперь стоял перед воеводою со своим ласковым, но постоянно загадочным взглядом. Голицын, по-видимому, не рад был этому приходу.
– Я не помешал тебе, боярин? – спросил он, всматриваясь в озабоченное лицо князя.
– Нет, гетман, я ждал тебя.
– А я малость замешкался: уряды распределял по полкам, как нам наутрее потребу чинить над городом. Ведомости, я слышал, с Москвы присланы?
– Да, точно, гонец пригнал.
– А какие указы будут в силу ведомостей?
– Указали великие государи объявить нам милость свою за стенные бои с татарами..
Лицо Мазепы просияло. Он совсем не хотел этого похода, зная все его трудности. Притом по отношению к Малороссии у него в голове сидели свои планы, которых он никому бы не доверил, а тем менее москалям. В его план меньше всего входило желание, чтобы «москва»[5]5
Так украинцы нарицательно называли всех московских людей: Москва-город, москва – москали. – Прим. авт.
[Закрыть] укрепилась на юге, особенно же в Крыму: весь юг и берега южных морей должны принадлежать Украине. А то если «москва» запустит лапу в Крым, так Украина должна превратиться в простую проезжую дорогу, в чумацкий шлях для москалей: кому же приятно, чтобы через его хату шла проезжая дорога!.. Эту тайную боязнь носил в душе своей и предшественник Мазепы, гетман Самойлович, да боязнь эта и довела его до Сибири… Самойлович боялся успехов «москвы» в первый крымский поход Голицына, и оттого запылали ногайские степи… Самойлович поторопился, обнаружил свои карты и вот теперь свистит в кулак в Сибири… А к Ивану Степановичу Мазепе сам черт не заглянет в карты… В душе он проклинал Москву, зубами скрипел, готовясь в поход с Голицыным, чуть булавою не раздробил стола, на котором лежала московская грамота; а между тем вывел свое войско в поле, встретил Голицына с торжеством, называл его «благодетелем», а в уме посылал в его душу «стонадцять коп чертей…»
Оттого, когда во время движения войск степью налетали на них татары, Мазепа, хотя с болью в душе и с чертями на языке, громил их из своих «гармат», только бы довести «дурного москаля» до Перекопа… а там «куц выграв, куц програв»…
До Перекопа они дошли. С ним не случилось того, что с Самойловичем, мало того, «великие государи», которых еще надо с ложки кашей кормить, объявляют свою милость…
– А как ты мыслишь, пан гетман, добудем мы Перекопь эту? – спросил его Голицын в раздумье.
– Добыть-то добудем… Мудрое слово когда-то сказал старый Хмельницкий, – отвечал Мазепа как-то двусмысленно.
– А какое слово он сказал? – любопытствовал князь.
– А такое, боярин: manu facta – manu dilabuntur…
– Да, да, мудро: «Рукою содеянное, рукою разрушается…» Истинно мудрая речь.
– Это сказал Хмельницкий, когда еще был только Чигиринским сотником, коронному гетману Конецпольскому, когда пан похвалялся перед казаками новою крепостью, Кодаком.
– Да, помню, – сказал Голицын, – только, кажись, он не так сказал.
– Именно так, боярин, – подтверждал Мазепа.
– Что-то, кажись, маленько не так.
Голицын встал и, пройдя в другой конец своей обширной палатки, принес какую-то книгу и положил на стол.
– Посмотрим, посмотрим… Кажись, мне память еще не изменяет.
Он начал перелистывать книгу. Книга была латинская, Мазепа видел это и с немалым удивлением следил за движениями рук Голицына и за всей его массивной фигурой, которую, казалось, непривычно было видеть над книгой, да еще латинской.
– Вот, сыскал, – сказал Голицын, – ну, пан гетман, моя правда.
Мазепа тоже нагнулся над книгой. Видимо, он был озадачен.
– Вот смотри, пан гетман… Хмельницкий отвечал Конецпольскому: manu facta – manu destruo. (Рукою созданное – рукою разрушаю.)
– Правда, правда…
Мазепа не мог прийти в себя от изумления… «Ай да москаль!» – чесалось у него на языке.
– А какая это книга, боярин? – спросил он.
– Вот, читай…
И боярин показал своему собеседнику обложку книги. Мазепа прочел:
– Вон оно что: Annalium Poloniae ab obitu Vladislavi quarti Climacteres scriptore Vespasiano a Kochovo Kochowski…[6]6
Летопись Польши со времен кончины Владислава IV, писанная летописцем Веспасианом родом из Кохова Коховским.
[Закрыть] точно, точно… Я этой книги еще не видел… А как, боярин, ты добыл эту летопись?
– Мне из Кракова ее прислали, – отвечал Голицын, – она там печатана… Мне сказывали, что и вторая часть уже окончена тиснением, а эта напечатана еще в 1683 году.
«Ах, чертов москаль!.. Вон какие медведи у них водятся!..» – Хотя Мазепа знал, что Голицын считается одним из умных и образованных москалей, однако он считал это образование просто знакомство со священным писанием… А тут на! И его, Мазепу, за пояс заткнул своею ученостью.
– Так как же ты, пан гетман, полагаешь: добудем мы Перекопь эту али нет? – спросил Голицын, помолчав.
– Manu facta – manu destruo, – с улыбкой отвечал Мазепа, – только что ж мы, боярин, с этим каменным мешком делать будем?
– С Перекопью-то?
– Да, боярин.
– А что? Затем и шли, чтобы добыть ее.
– Оно так… А что ж напоследок? Тебе, ведомо, боярин, что Finis coronat opus… (Конец венчает дело.) Чем же венчается конец нашего дела? Мешок каменный мешком и останется: в Москву его мы не повезем, да и нам в мешке сидеть будет безо всякого профиту… Ведь Перекоп не Крым: до Крыма еще ай как далеко! Я, боярин, бывал в Крыму, знаю его. За Перекопом такая же степь, какую мы осилили, только ту нам не осилить.
– А Бог на что, да наши рати?
– То-то, боярин, в безводной степи и Бог не спасет наших ратей!.. Вон уж и теперь большая нужда в воде. А за Перекопом степь хуже каменной Аравии, ни кормов, ни водопоев нет.
– А как же сами татары переходят степь эту? – спросил Голицын.
– А им способнее, боярин: они переходят степь либо о дву-конь, либо верблюдами, и корма с собой везут.
– А водопои как же у них: ноли и колодцев нету?
– Колодцы есть, токмо самая малость… А в тот час, как войдем в Крым, бусурманы засыплют все колодцы, либо еще хуже, отравы в них положат.
Голицын молчал. В его смущенную душу заползал суеверный страх. Недаром в день его выступления в этот второй крымский поход, утром, у ворот его дома был найден гроб, а в гробу записка: «Не добудешь Крыма, добудешь гроб». Сегодня у него особенно было тяжело на душе. Ему хотелось забыться, позабыть все… Он все к чему-то прислушивался, чего-то ждал…
– Не выйти ли нам на аэр подышать? – сказал он Мазепе. – Голова у меня отягчена что-то ноне.
– Что ж, боярин, выйдем: оно ж и вправду душно.
Они вышли из палатки, пошли к морю. Ночь была темная, тихая, и тем ярче сверкали в неведомой вышине звезды весеннего южного неба. Московский и казацкий стан раскинулся на огромное расстояние, от берега Черного моря до низменного, поросшего камышами берега Гнилого моря, или Сиваша. Во многих местах мигали догоравшие костры. В камышах и в степи раздавались концерты весенних птиц: то бил свою весеннюю песню коростель, то перепел глухо стучал где-то в степи; протяжные, однообразные стоны «бугая», водяной выпи, заглушались немолчным говором лягушек. Издали темнели изломы какого-то огромного безобразного здания, это был Перекоп, его укрепленные башни «кули». Оттуда доносился иногда протяжный лай собак, да по временам слышен был крик петуха, рев верблюда… Какой чужой казалась для Голицына эта южная ночь!.. Как она не похожа на прозрачные, белесоватые весенние ночи его родной Москвы, которая, казалось, была так далеко, что не чаялось и возврата в нее… Сонное море тихо плескалось у берегов, а вдали, точно на небосклоне, мигали огоньки, словно звезды: это стояли в море турецкие кочермы да галеры с невольниками, в Козлов да в Кафу, вероятно, направляются, к невольничьим рынкам.
Голицын и Мазепа продолжали идти вдоль морского берега. По временам Голицын останавливался и, тревожно к чему-то прислушиваясь, всматривался в темную даль. Вдруг в том месте, где у моря кончалась московская сторожевая цепь, послышались оклики часовых.
– Эй, кто идет?
– Стрельцы полку Карандеева.
– А куда вас черт ночью носил?
– Боярин, воевода большого полка, посылал.
– За каким чертом?
– За водой… Тутотка вода гнилая, так мы сыскали там, за губой, воду добрую.
– Для че ж не днем ездили?
– Эка, лешие! Чего пристали! Сунься-ка днем туда, своих не узнаешь: родник, чу, на татарской стороне.
Из лодки, которая между тем пристала к берегу, стали выгружать какие-то мешки. Часовые, слышно, смеялись.
– Да что вы, лешие, воду в мешках что ли носите?
– Али не видишь, окаянный? Знамо, в мешках: бурдюками называются.
– Ай да карандеевцы! Скоро в решете воду носить станут.
Голицын знал, что это была за вода в мешках. Мазепа же догадывался, но молчал… Он понял, что осада с Перекопа будет завтра же снята, потому что сам же Иван Степанович и механику всю эту подвел.
Действительно, воротившись к себе и застав в своем шатре Кочубея за изготовлением универсала к запорожцам и в полки, Мазепа весело сказал:
– Ну, Василю, друже, кидай универсалы в огонь.
– А что, пане гетмане? – испуганно спросил Кочубей.
– Завтра повертаемся назад.
– Как так, не добывши Перекопа?
– Нехай его нечистый добывает! А ты возьми нотатки летописные и пиши.
Кочубей взял тетрадку, куда вносились главные события каждого года.
– Что ж писать, пане гетмане?
– Пиши… У тебя записано уже, как мы подступили под Перекоп?
– Записано.
– Так пиши далей: последи же, вдавшися до хитростей, когда войска начали под Перекоп шанцами приступати, татары, мира иская, поступили князю Голицыну искуп и ложными червонцами, в бурдюги насыпанными, его обманули, сверху только добрыми червонцами прикрывши. И тако все войско, хотя с трудом, однако охотно, ради корысти и славы Крыму достигшее, принуждено от стен градских с жалем и руганием на гетмана отступить.[7]7
Этими именно словами и записано в украинской летописи, изданной в 1878 г. Орестом Левицким («Летопись самовидца» и пр., стр.288). – Прим. авт.
[Закрыть]
Окончив писать, Кочубей недоверчиво взглянул на Мазепу.
– Как же ты узнал все это, пане гетмане? – спросил он.
– Сам сейчас видел: при мне бурдюки из лодки выносили якобы с доброю водою для воеводы.
– А как ты узнал, что там червонцы ложные?
– Да я ж сам тайно салтану Нурадину и натякнул на это через шпега.
– Ну это почище деревянного коня Одисеева, – засмеялся Кочубей.
– И правда, Василю, – улыбнулся Мазепа, – жаль, что троянцы не догадались сделать то же с греками.
– А може, греки не такие были продажные корыстолюбцы, как москали.
– А може… Кто его знает!
XVIII. Самосожигатели
В эту же ночь и в те же часы, когда далеко на юге, под стенами осажденного Перекопа, пользуясь мраком южной ночи, стрельцы Карандеева полка таскали из лодки в палатку князя Голицына бурдюки «с доброю водою», на дальнем севере, в самом крайнем углу Онежского озера, в тишине таинственно бледной северной весенней ночи творилось нечто такое же таинственное, как и эта северная ночь…
В северном углу Онежского озера торчит из воды небольшой островок, каких-нибудь пять-шесть верст в окружности. Бурные воды огромного, как море, озера, оторвав этот скалистый клок земли от материка еще во время образования земной коры над клокочущими в недрах земли вулканами, теперь спокойно облегают его со всех сторон. Спят теперь эти волны, как спит вся поверхность бездонного озера, как спят ближайшие и далекие темные горы, и серые скалы, и дремучие леса вокруг, как спит вся эта тихая прозрачная ночь. На островок и на все озеро, как и на все окружающее, не ложатся ночные тени, но тем более чем-то таинственным и неясным дышит эта северная весенняя ночь: все предметы являются какими-то неопределенными, загадочными… Еще более загадочно это движение на всем острове и на озере. По острову и по берегу озера двигаются какие-то люди, и много их, очень много, а от материка тихо скользят по озеру по направлению к острову какие-то лодки, полные людей, и одна за другой пристают к берегу. Из лодок вытаскивают охапки чего-то темного и несут к деревянным строениям, силуэты которых, заборы и крыши неясно вырезываются из-за прогалин темного бора, охватывающего строения с трех сторон. Иногда слышится говор, детский плач и сонный лай собак. Не слышится только ни пения соловья, ни постукивания перепела, ни тех, полных очарования, нестройных голосов природы, какие сходят на землю южными весенними ночами.
У ворот строений, обращенных к озеру, скучилась огромная толпа народу, безмолвная и неподвижная, а посреди толпы стоит высокий старик с длинными, как у женщины, волосами и седою до пояса бородою. Слышится его возбужденный голос, который как-то дико звучит в этой таинственной ночной тишине.
– Потягнем, православные, за золотыми венцами потягнем! – раздается голос старика. – Вы меня знаете, да не все, и не вся моя жизнь вам ведома… Была то не жизнь, а житие… Породою я русских людей, зовут меня Емельянком, Иванов сын, повенчанин, из Повенца – града, жил в Повенце в бобылках своим двором, писал божественные книги старого письма и тем кормился. И после пожару много лет назад двора у меня своего не стало, отняли попы дворовое мое место якобы под церковь, а построили торговые бани для корысти, каковы попишки!
– А-ах! – молча, но тяжело вздохнула толпа.
– И с того числа проживал я, православные, где день, где ночь, аки птицы небесные, – продолжал старик, – и так до холодов, до заморозков, когда птицы небесные на теплые воды улетают, а другие птицы в стрехах да в дуплах хоронятся в непогодь. Припало и мне хорониться в дупле, и пристал я на посаде у сестры своей, у вдовы Агафьицы, бедность непокрытая! А проживаючи у Агафьицы, на праздники в церкви не бывал, для того что ноне пение в церквах и служба новая, и обедню служат не над просвирами, а над колобками, а в тех колобках бесы…
Толпа даже колыхнулась, но никто не произнес ни слова. Слышно было только, как где-то за оградой болезненно плакал ребенок, а слабый женский голос однообразно напевал:
Будешь в золоте ходить,
Цветно платьице носить…
– Жди! В золоте! – крикнул старик по адресу этого голоса. – Бесы, в просвирах латынских бесы, потому как был я на исповеди тому назад лет десять и как стал причащаться на нонешних просвирах, и из меня пошли змии, и самого стало бить и трясти, и с того числа я на исповеди не был и не причащался. И зато меня привели пред игемона, и я, входя к игемону, образам его не поклонился. И рече ми игемон: чево ради не кланяешься образам. И, отвещав, реку: образа ваши не святые, и вера ноне христианская иссякла, что родник в пустыне, и святыни в ваших церквах нет, отлетела, аки дым кадильный, и обедню ноне служат по-римски, над колобками, и вместо креста на просвирах поставлены латынские крыжи. И священники ваши, говорю, все антихристовы предтечи, и антихрист в мир вселился уже седьмой год, я его видел сам: в Грановитой палате, в Москве, пред ликом лжецарей, обличал его Никита: тот антихрист, говорю, Маркелка – митрополитишка псковской.
Толпа боязно крестилась. Фанатик возвышал голос.
– А вы знайте, православные, что как царь Алексей за веру Соловецкий монастырь велел казнить, то на третий день и умер. А ныне я послан от Бога учить и веру христианскую проповедывать по всей земле… Верховные апостолы Петр и Павел мне сородичи, а у Петра ключи от рая, кого похочет, того и пустит. Слышите! Они мне сродичи! А вы креститесь двумя перстами, а не тремя: в том, в ихнем кресте сидит Кика – бес с преисподнею… И все это я сказал игемону тому. И повеле игемон предати мя огню, клещам и многим встряскам на дыбе. И приговорили меня игемоны сжечь и пепел мой разметать и затоптать…
Он остановился. Глаза его дико сверкали. А ночь кругом все такая же тихая, таинственная. Слышно было, как в толпе тихо плакали женщины.
– И меня сожгли и пепел мой затоптати! – бешено выкрикнул безумец. – А я ожил! Видите, я жив! Сказано бо: не оживет, аще не умрет…
– А как же отец Аввакум и отец Никита не ожили? – робко спросил кто-то из толпы.
– Не приспе бо час, – отвечал фанатик.
– А ты коим же способом ожил? – спросил тот же голос.
– А таковым способом, как оживает житное либо ячменно зерно, в землю втоптанное: оживает то зерно на лето, и дает сам – пять, либо сам – десять… А я ожил сам – сот, може сам – тьма – темь…
Никто, по-видимому, не посмел дальше расспрашивать о чудесном воскресении фанатика, и он продолжал:
– Не бойтесь, православные, гонителей, ни-ни! У нас есть супротив них пушки, вот оне! – И он высоко поднял два пальца. – Так слагайте персты, и вас пуля не тронет… Бысть мне в некое время таково видение. Некоея нощи сижу я в своей келейке и пишу старые божественные книги. Человеконенавидец же убо диавол, обтекая вселенную и простирая лукавые сети человеческому роду, паче же писателей уловляя различными беды, восхоте и меня уловить в свои сети. Пишу это я и слышу, аки в тонце сне, что в чернильнице у меня что-то плещется, аки рыбина малая. И разумев, яко то бес лукавый, да возьми и перекрести отверстие чернильницы. А оттуда как выскочит нечто, точно мшица махонька, и се бысть глас: Емельян! Емельян! Аз, бес, посмеяхся над тобою: коим убо крестом ты перекрестил меня? И уразумел я в ту пору, что перекрестил я его, беса окаянного, никоновскою щепотью, ибо я писал в ту пору, как бес плескался у меня в чернильнице, и не выпуская перо, сиречь писало, из руки, так его, беса, и перекрестил с писалом тремя персты, был зато посрамлен от беса… Дай же, думаю, я тебя вдругорядь накрою, голубчика. И по малом времени пишу я нощию книгу «Маргарит», и се абие слышу некий плеск в чернильнице. Ну, думаю, теперь не проведешь. Да возьми и перекрести его двумя персты, истово. Слышу, плещется, так чернильницу и возит по столу… Вози, думаю себе, вози! И се абие глас: Емельян! Емельян! Почто мя истязавши крестом истовым! Помилуй мя, Емельянушка! Нет, думаю, шалишь! И вспомянул я преподобного отца нашего Иоанна Новгородского, иже поймал беса в рукомойнике, и ездил на том бесе в Ерусалим – град к заутрене. Дай, думаю, и я на моем бесе совершу путешествие ко святым местам. Изыде, говорю, дух окаянный! Именем Распятого же за ны заклинаю, изыде! И вышел из чернильницы бесик махонький, аки стрекоза, во образе немца. Аз же глаголю: стани конем, бесе. И се абие ста предо мною конь ворон, и рече гласом человеческим: чего хощеши от меня, Емельяне мучителю? И глаголю аз: хощу в сию ночь быти во граде Ерусалиме. И се бысть по глаголу моему: всев на беса, и абие аки молния пронесся от края земли и до края, и увидел я гроб Господен, а от гроба Господня пять сажен, ту есть пуп земли, а величество пуповины той три обоймища вокруг, а в левую страну есть пропасть велика, и слышен чвекот адский в пропасти той, и то суть врата адовы… И оттоле, всев паки на беса, пролетал аз, аки птица, верху Москвы – града, и бысть утро, и видети столп на Красной площади, и вокруг того столпа пляшут жены – плясавицы, а некий вьюнош плещет руками своими, а аз вопросих беса: что сия суть? И отвеща: жены – плясавицы, то суть девки – иноземки, а вьюнош руками плещущи, то есть лжецарь Петр, иже крестится никоновскою щепотью. А вы, православные, креститеся во как!
Между тем, к острову подплыло еще несколько лодок. Они были наполнены людьми. На лицах виден был испуг, отчаяние…
– Спасайся, православные, команда идет!.. Уж и насады готовы: утром к острову пристанут с ружьем и огненным боем!
В толпе послышались крики испуга.
– Не пужайся, православные! – возвышал голос тот, который на бесе ездил. – И у нас есть огненный бой: смолья, и бересты, и пакли припасено вдоволь, все сгорим!
Но вместо успокоения возглас этот вызвал крики ужаса. Толпа заметалась. Послышались отчаянные вопли женщин и детей.
– Потягаем, православные, за золотыми венцами, потягнем! – силился перекричать эти вопли дикий фанатик.
Между тем, тихая бледная ночь сменилась дивным весенним утром. Северо-восточная половина горизонта алела все более и более. Неопределенные очертания леса, берегов и скал уступали место более ясным линиям и изломам. Синие воды озера отражали в себе глубоко опрокинутые в них причудливые горы с острыми вершинами темных сосен и елей. Над водою кружили белые чайки, широко распластав кривые крылья, а ласточки и стрижи с писком прорезывали воздух во всех направлениях… Жить бы людям да радоваться, так нет… не живется…
В воздухе послышались глухие, но далеко слышные удары об чугунную доску. Это ударяли в монастырское било, которым созывали всех к утренней молитве. В то же время на озере со стороны Повенца показалось несколько судов, которые заметно двигались к острову. На переднем судне трепалось в воздухе какое-то знамя. Все ближе и ближе подвигаются суда, в движениях их замечается какая-то поспешность, что-то зловещее. На солнце, которое уже поднялось над вершинами темного бора и обливает багровым светом суда, их мачты и черные снасти, что-то блестит и искрится: это блестят на судах бердыши и пищали, отражая лучи утреннего солнца.
Наконец суда у самого острова. Раздается барабанный бой, и из судов выходят на берег вооруженные солдаты и строятся в ряды. По команде седого бородача, под мерный бой барабана солдаты мерным шагом идут к деревянным воротам, окованным железом, за которыми высятся разные деревянные постройки и церковь с семью главами и семью же над ними осьмиконечными крестами. Как бы в ответ на барабанный бой за оградой в разных местах показался дым и послышались испуганные женские крики.
– Окаянные! – пробормотал сквозь зубы бородач. – Гореть хотят… Выламывай, ребята, ворота!
Дым, показываясь в разных местах, охватывал все большее и большее пространство. Из-за ограды показывались уже огненные языки. Крики переходили в отчаянные вопли.
– Высаживай ворота! Живо! Руби бердышами!
Но массивные ворота не поддавались. Пламя разгоралось, шипение и треск все усиливались, неистовые вопли заглушали треск и гул пожара. Стаи голубей, ласточек, стрижей и других птиц испуганно метались в воздухе, кружились в дыму и стремглав падали в пламя, где погибали их гнезда с птенцами. Крылья белых голубей трепетали высоко в воздухе, словно бабочки или лепестки белой бумаги, а среди отчаянных воплей отчетливо раздавался голос фанатика:
– Радуйтесь, православные! Вон венцы с неба сходят!.. Дух святой в виде голубине, радуйтесь!
Солдаты дружно рубили ворота, ограду, но еще дружнее бушевало пламя: крыши домов, келий трещали и корчились, словно в судорогах. Ужасному шуму и треску вторили страшные человеческие стоны и проклятия.
На ограде показалась женщина с ребенком на руках. Она, видимо, с глухим отчаянием боролась с кем-то, кто удерживал ее сзади, стаскивал с ограды. Лицо ее искажено, волосы в беспорядке. Нечеловеческий крик вырывается из ее груди, и она бросает ребенка вперед, за ограду, а сама навзничь опрокидывается внутрь ограды. В одно мгновение на ее месте показывается огненная фигура, человек, обмотанный паклею и политый смолою, он горит, как свеча…








