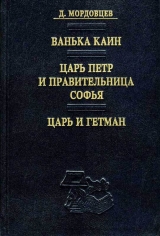
Текст книги "Царь Петр и правительница Софья"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
IX. Облава на бояр
Утром следующего дня дворец московских царей представлял печальное зрелище. На половине юного царя и его матери слышались стенание и плачь. Наталья Кирилловна в тоске и ужасе ломала руки и без слов падала перед киотом, в котором всю ночь теплились лампады, освещая темные молчаливые лики женщин, в глубокой скорби стоящих у креста, на кресте тихо угасающий лик божественного страдальца. Она, царица Наталья, мучительно, хотя греховно, но невольно приравнивала свою скорбь к скорби этой женщины, стоящей у креста… А тот, за кого она трепетала, ходил хмурый и бледный из одного покоя в другой, останавливаясь перед окнами, открывавшими вид на постылый Кремль, и снова торопливо шагал из угла в угол, словно бы его душили эти стены, эта клетка. Казалось, он возмужал за один день, вырос, очерствел. Когда из дальних покоев царевен, сестер и теток, доносился плач, он только нервно хмурил брови.
А там, на других половинах дворца, тоже невесело: только недавно замыли кровь, то там, то здесь на каменных плитах полов, но кровяные пятна все еще видны… Перед Красным крыльцом мостовая тоже забрызгана кровью.
В комнатах маленькой царевны Натальи Алексеевны и вдовы царицы Марфы Матвеевны еще более уныло и печально. Там прячутся все обреченные на смерть Нарышкины: отец царицы Натальи Кирилловны, ее братья, родственники, молодой Матвеев, сын вчера убитого старца. Они ждут прихода своих убийц… Зато на половине царевича Ивана Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны заметно какое-то таинственное оживление. Правда, сам царевич, встревоженный вчерашнею смутою во дворце и не спавший всю ночь, теперь дремлет в глубоком кресле. Но его сестрица, хитроумная Софьюшка, видимо оживлена. Сегодня ее пухлые щеки особенно густо нарумянены. Она ждет мила друга, свет – Васеньку Голицына, которого она сегодня ночью во сне видела, и таков этот сон якобы пророческий. Видит она в том сне, что сидит она с Васенькой рядом на чертожном месте, а на головах у них венцы златые, не то венчальные, не то… Да этот Тараруй помешал довидеть сон до конца. Вон и теперь около нее этот старый Тараруй, князь Хованский, всему делу заводчик и правая рука Софьюшки. С ним она шепчется, чтоб не разбудить дремлющего братца Иванушку – царевича. И подлинно Иванушка – царевич! Из дурачков, как и тот, что в сказке, а в цари попадет: ловкий Тараруй все это оборудует. Вон он шепчет ей:
– Его-то, дурачка, посадим на чертожное место рядом с младенцем, а править-то этими куколками будешь ты, царевна София – Премудрость Божия… Так-то… А «медведицу» – то мы и из берлоги вон…
– Как так, князюшка?
– Да просто, рогатиной… Еще ноне ночью я пытал моих молодцов: не выгнать ли-де из берлоги старую «медведицу»? Так говорят: любо! любо!
– А «медвежонка»? – В глазах вопрошающей, казалось, светилась самая теплая ласка.
– Ну, царевнушка, это другой сказ… Надо разумом пораскинуть, а то неровен час, сам на рогатину попадешь: его дело царское, он в законе…
В это время вдали послышался набатный звон. Софья встрепенулась.
– Аукаются, молодцы, – знаменательно шепнул Тараруй.
– А откликнутся ли?
– Как аукнется, царевнушка милая.
– А не знаешь, князь, где они спрятаны?
– Не ведаю, царевна. Хомяка допрошал, порядком-таки щунял, а и он не знает: Афоню, говорит, Кириллыча вчера я указал…
– Ноли он, Хомяк?
– Он, царевнушка, со страхов больше.
– А ежели бы теперь его припугнуть до страхов?
– Пужал, царем и застенком грозил, не сказывает: ночью, говорит, они хоронились в терему у царевны Натальюшки, а ноне, говорит, не вем, где… Постельница Клушина чтой-то не по себе: думал, не она ли, лиса, нашла им нору, щунял и ее, молчит! Лопни глаза – утроба, говорит, не знаю. И образ со стены сымала, и землю ела.
Набат усиливался. Слышался барабанный бой. Все ближе и ближе.
– У Красного крыльца уж… Подымаются…
Это были стрельцы. Снова гурьбой вошли они во дворец и рассыпались в нем, как гончие. Теперь уже верховодил Кирша, маленько во хмелю.
– Муха! И муху, братцы, дави: сказано, оборотни.
Кричат, ищут, стучат копьями в стены, тычут в перины.
Никого нет!
– Хоть бы те муха, братцы!
– Поймали! Поймали! – слышится из соседнего покоя.
– Кого? Ивашку Нарышкина?
– Не, Аверьяшку Кириллова, думного…
– Выводи дотла крапивное семя! Волоки сюда чернильную душу!
Притащили думного дьяка Аверьяна Кириллова. Дьяков особенно не терпели стрельцы.
– А! Гусиное перо! Чертово писало! Приказна строка! Много кляуз настрочил? Дави дьявола!
И несчастного тут же закалывают. Из церкви на Сенях вытаскивают бывшего своего полковника Дохтурова и приводят к трупу Аверьяна Кириллова.
– А, растакой сын! Вместе с Аверьяшкой ел наши кормы… Вот же тебе.
Убивают и этого. Но ни Ивана Нарышкина, ни немчина Данилки-дохтура никак не могут найти.
Добрались, наконец, до лекарской палаты, в которой помещалась придворная аптека, и где проживало семейство фон Гадена, имевшего, кроме того, свой дом в немецкой слободке. Здесь стрельцы увидели, что поиски их были не тщетны: в лекарской палате они нашли аптекаря и помощника Данилки-дохтура, иноземца Гутменша, а также жену Данилкину и его сына Михеля. Об участи фон Гадена ни жена его, ни сын не знали ничего. Они думали, что его уже нет на свете. Но вопросы стрельцов глубоко обрадовали их: они поняли, что он жив.
– Где злодей Данилка-дохтур? – спрашивал Кирша, занося бердыш над Гутменшем.
– Я не знаю, – был ответ.
– Сказывай, каким зельем он извел батюшку – государя Федора Алексеевича?
– Он не извел его: великий государь помре волею Божиею.
– Врешь! Вы с ним, с Данилкою, отравное зелье готовили.
– У нас отравного зелья нет, а есть токмо медикаменты: все рецепты занотованы в аптекарском юрнале.
– Цыц! Что ты собачим языком блекочешь! – закричали другие стрельцы.
– Он глаза отводит, аспид! – закричал Кирша. – Он мухой, поди, обернется,
– А за мухой не гоняться с обухом, вот же тебе!
И бердыш пополам рассек голову несчастного немца… Хрипя и изливаясь кровью, он грохнулся навзничь.
Но радость семейства фон Гадена была непродолжительна. Из расспросов стрельцов они догадались только, что он жив и что стрельцы не находят его. Но эта смерть бедного Гутменша, такая ужасная смерть у них на глазах, казалось, помутила рассудок несчастным. Фрау фон Гаден, старая немка, потрясенная разыгравшейся на ее глазах кровавою сценою, без чувств грохнулась на пол. Сын бросился было поднимать ее, но Кирша схватил его сзади за шиворот и поднял на воздух.
– Сказывай, немецкая муха, где твой отец? – рычал он.
Несчастный Михель, вися на воздухе, задыхался, а Кирша встряхивал его в воздухе и приговаривал: «Сказывай, немецкая муха, сказывай!»
– Тряси, тряси! – поощряли другие стрельцы. – Авось вытрясешь.
– Скажу! Скажу! – задыхаясь, проговорил несчастный.
Кирша бросил его на пол.
– А! Донял? Сказывай же: где отец? Где Данилка-дохтур.
– О-о! – слабо простонал допрашиваемый. – Я не знаю.
– Как! Опять запираться! Коли его, аспида!
– Вот же тебе! – И Кирша ударил копьем свою жертву.
Раненый испустил страшный крик, хватаясь за бок. Алая кровь брызнула из раны прямо на лицо лежавшей на полу матери несчастного. Та открыла глаза.
– О! – вскричала она страшным голосом. – Не убивайте моего сына, я все скажу.
Но было уже поздно. Сын ее корчился в предсмертных муках. В это время в палату вошла царица – вдова, Марфа Матвеевна, в сопровождении постельниц и остановилась в ужасе.
Стрельцы оторопели.
– Матушка-царица! Не взыщи, мы ищем твоих злодеев.
– Каких злодеев? – дрожа всем телом, спросила она.
– Данилку-дохтура… Он отравой извел царя – батюшку, Федора Алексеевича… Вот мы и ищем, да они вот не говорят.
Фрау фон Гаден припала между тем к трупу сына и глухо стонала.
– Ах, что вы наделали! – с ужасом указывала царица Марфа на свежие трупы.
– Матушка, прости! Они спрятали злодея – дохтура, мы и того… маленько их…
– Боже мой! Боже мой! – закрыв руками лицо, плакала царица.
– Матушка! Да мы ничевохонько, не сумлевайся: мы ни Боже мой! Мы только Данилку в розыск хотим взять: пущай повинится, чем он извел царя – батюшку… А они, вон, не сказывают, где схоронили его… Мы только вот немку попужаем маленько…
– Эй, ведьма! Вставай! – вскричал другой стрелец, трогая копьем обезумевшую от горя женщину.
– Да ты ее за косы! Не сразу коли, а то не скажет.
– Винись, немка! Сказывай, где твой муж?
– Да что на нее смотреть! Клади рядом с сыном змею подколодную.
Царица бросилась и остановила палачей.
– Так убейте и меня заодно! – вскричала она. – Коли они извели моего мужа, так, стало, и я его изводница.
– Помилуй, матушка, не клепли на себя.
На переходах послышался ужасающий шум. Раздавались радостные крики стрельцов и чьи-то отчаянные вопли.
– Нашли! Нашли лиходеев!
– Нарышкиных поймали! Все гнездо накрыли.
Действительно, по переходам вели старика Нарышкина, отца царицы Натальи и деда юного царя, а рядом шли, обливаясь слезами, три его несовершеннолетних сына. Шествием заправлял Цыклер.
– Не запирайся, боярин, – говорил он старику Нарышкину, – говори сущую правду. Надевал на себя твой сын Иван царскую диодиму, а, надевал?
– Не знаю, – был ответ, – всемогущим Богом клянусь, не знаю.
– А скифетро и державное яблоко брал в руки?
– И этого, видит Бог, не ведаю.
– Добро… Так мы ему сами розыск учиним: сказывай, где он?
– Хоть убейте меня, не знаю, – был тот же ответ.
– Мы и убьем… Любо ли, братцы? – обратился он к стрельцам.
Ответом был всеобщий крик: «Любо! Любо!»
– Батюшка! Родитель мой! Братцы мои родненькие! – послышался женский крик.
Это была сама царица Наталья. Услыхав, что нашли ее отца и братьев, она поспешила к ним на помощь.
Стрельцы посторонились и сняли шапки. Царица бросилась на шею к отцу. Все плакали.
Цыклер почтительно приблизился и заговорил мягким голосом:
– Матушка-царица! Не гневайся и не убивайся… На то Божья воля, чтобы родитель твой и братья положили живот свой за государское дело. Велико оно, государево дело… Мы пришли сюда по крестному целованию. Мы холопы его царского пресветлого величества: мы пришли разыскивать государевых недоброхотов. А кто государевы недоброхоты, те и наши недоброхоты… Иди, матушка, к государю, его царскому пресветлому величеству. А мы без тебя розыск учиним над государевыми лиходеями. Коли они выдадут первого бунту затейщика, Ивана Нарышкина, да Данилку-дохтура, мы живота их не лишим. А буде они не выдадут нам затейщиков, мы лишим их живота гораздо, по крестному целованию, на чем мы крест целовали нашему государю, его царскому пресветлому величеству.
Наталья Кирилловна, Нарышкины и стрельцы слушали молча, пока говорил Цыклер. Наконец царица прервала его.
– Добро, я доложусь о том великому государю, – сказала она, силясь подавить волнение и страх, – что его царское пресветлое величество укажет, то и учиним. А вам бы того своею волею чинить не гораздо, и то ваша вина.
Видимое спокойствие царицы озадачило стрельцов. Им и в самом деле пришло в голову: как же это они все делают без государева указу?
– Добро, государыня, – сказал в свою очередь Цыклер, – мы будем ждать государева указу до утрея.
С его стороны это была притворная покорность. Он должен был дождаться ночи: что ему прикажут оттуда.
Стрельцы тотчас же очистили дворец, но караул вокруг него оставили по-прежнему.
X. Данилка-дохтур и Нарышкин
Ранним утром следующего дня какой-то оборвыш в одежде нищего и с пустой сумой через плечо из Марьиной рощи пробирался к Москве. Истомленное лицо его выдавало крайнюю усталость, а может быть, и голод. Видно было, что это уже старик; но изорванная, облезлая меховая шапка была так сильно надвинута на глаза, что лица нищего нельзя было разобрать, тем более, что подбородок его был обвязан рваным платком. Нищий опирался на суковатую палку и, казалось, боязливо оглядывался по сторонам. Он, можно сказать, не шел, а тихонько крался. По всему можно было думать, что нищий провел всю ночь в пути и теперь не чаял дотащиться до Москвы.
Не доходя до немецкой слободки, нищий повстречался с двумя бабами, которые шли с плетенками за плечами и оживленно о чем-то разговаривали. Поравнявшись с нищим, они поздоровались.
– Откедова, дедушка, Бог несет? – спросила старшая из них.
– Издалече, матушка, – отвечал нищий.
– Странничек, поди, родимый?
– Странничек.
Нищему, казалось, скорей хотелось отделаться от вопросов, и он пошел дальше. Бабы это заметили и посмотрели ему вслед.
– А кажись, касатка, он бритый? – заметила старшая.
– И мне будто показалось, что бритый, – отвечала младшая.
– Бритый, бритый… Дивно мне это, касатка: бритый странничек!
– А Бог его ведает, кто он такой.
Нищий между тем шел своею дорогой. Как ни велика была его усталость, но он, видимо, торопился.
Наконец он вступил в одну из улочек немецкой слободки. Не успел он сделать нескольких шагов, как из-за угла выскочили два стрельца. Старик видимо оторопел.
– А! Дед, семидесяти лет, куда бредешь? – весело спросил один стрелец.
– В Москву, родимый, – был глухой, торопливый ответ.
– Дело пытаешь, аль от дела лытаешь?
– Дело, миленький.
– А какое такое дело у голого тела?
Старик не отвечал и торопился уйти.
– Да ты стой! – остановил его стрелец. – Али бродяга какой?
Старик не отвечал. Он совсем растерялся.
– Ба-ба-ба! Да это, кажись, скоморох… На нем харя надета.
– И то харя.
– А ну-ка, сыми тряпицу с хари, старец Божий.
И стрелец сорвал с лица его повязку.
– Вот те и клюква! Да он бритый.
– И точно, скобленое рыло… Вот притычина!
– Как есть в блудоносном образе… Сказывай, кто ты?
Старик молчал. Он дрожал всем телом.
– Сказывай скобленое рыло, немец ты?
– Да что с ним разговаривать! Веди на съезжую: там разберут.
Старик упал в ноги и заплакал.
– Отпустите меня православные: я бедный человек, я два дня не ел, – умолял он, – я никому дурна не учинил.
На съезжей скоро узнали, кто скрывался в одежде нищего. Это и был Даниэль фон Гаден, которого стрельцы напрасно искали во дворце.
Поимка фон Гадена сильно обрадовала стрельцов. Хотя страсти их дошли до крайнего исступления в два предшествовавшие дня смуты, однако, более благоразумные из них не могли не сознавать, что они зашли слишком далеко, что своевольную расправу их во дворце нельзя было назвать ничем другим, как прямым бунтом. В первый раз они ворвались в жилище царей в силу того якобы законного основания, что они шли оберегать царское семя: царевича-де Ивана удушили царские недоброхоты. Но царевич сам вышел к ним, и они увидели свою ошибку. Надо было принести повинную. Но они ее не принесли. Мало того – они во дворце учинили резню. Резню они оправдывали тем, что искали якобы опять-таки недоброхотов царских: царя де Федора извели отравою, а Иван-де Нарышкин брал в руки скифетро царское и говорил похвалки на молодого царя. Надо, стало быть, наказать царского изводчика Данилку-дохтура и посягателя на царское скифетро Ивашку Нарышкина. А коли укрыватели их, бояре, не выдадут изменников, тогда перебить всех бояр.
Теперь Данилка у них в руках. Надо добыть и Ивашку.
И вот они снова, уже в третий раз, еще более безобразною толпою валят к Кремлю. День ясный, теплый, даже жаркий. И стрельцы, большинство, прут к Кремлю в одних рубахах, но вооруженные бердышами и копьями. Набатный звон и барабанный бой снова оглашают Москву. Стрельцы уже шибко разыгрались: они почти все пьяные. Они – владыки Москвы, и все, что есть в Москве, все склоняется перед ними, не исключая и винных погребов. Кирша уже идет не один, а с собакою: за ним бежит его кудлатая Турка и неистово лает на Данилку-дохтура.
– Эй, Турка, ты на «верху» не бывала, так вот побываешь, псина эдакая! – хвастался пьяненький Кирша, заломив шапку и расстегнув ворот рубахи.
– Что ж, и пес осудареву службу нести должон, – поддакивали другие стрельцы.
– И точно, мы все холопы осударевы, и псы с нами, и вся животина.
«Дохтур» шел совершенно убитый. Старые лаптишки на ногах расползлись, и пораненные о камни ступни оставляли кровавые следы на мостовой.
С трудом он поднялся на Красное крыльцо, но на верхней ступени ноги ему изменили, и он опустился, чтоб передохнуть. Он невольно глянул на расстилавшуюся под ним за Кремлевскими стенами широкую панораму Москвы. Она была величественна, такою, по крайней мере, показалась она ему, когда много лет назад он в первый раз поднимался по этой лестнице во дворец московских царей и обернулся, чтобы взглянуть на столицу неведомого для него какого-то волшебного восточного царства. Тогда все казалось ему волшебным здесь. Он вступал тогда в этот волшебный чертог лейб-медиком царей гиперборейской державы. Какая честь для молодого мечтательного лекаря!.. Но теперь эта самая Москва показалась ему ужасною, и его сердце невольно сжалось, точно молнией капризная память прорезала далекое, далекое прошлое… Он, молодой студент болонского университета, стоит на вершине падающей башни Гаризенда, и перед ним расстилаются роскошные картины Италии, и холмы Аппенинов, и дивная южная зелень, а молодое воображение развертывает перед ним, словно сатана перед очами Христа на горе искушения, все царства мира и славу их…
И вот она, слава, в этих рубищах! Вон куда завело его неугомонное воображение, жажда неиспытанных ощущений!..
Он беспомощно зарыдал.
– Вставай! Не пора ноне с тобой проклажаться! – раздался над ним грубый голос, и сильная рука подняла его за шиворот и поставила на ноги.
Но в это время в дверях показались царица Марфа Матвеевна и царевны. Стрельцы сняли шапки. Царица узнала несчастного доктора.
– Вот он, матушка-царица, изводчик государев, – сказал Цыклер, показывая на фон Гадена.
– Он не изводил блаженной памяти государя Феодора Алексеевича, – заметила царица.
– Так коея ради вины, государыня, он с Москвы бежал? – возразил Цыклер.
– Страха ради.
– Нету, государыня, коли бы у него совесть была чиста, он не таился бы.
– Перед Богом и перед покойным государем нету его вины: царь Федор Божиим изволением, а не отравою скончал дни живота своего, – настаивала царица.
– А нам, государыня, доподлинно ведомо, что он, дохтур, извел великого государя снадобьями.
– Стрельцы, не гневите Бога! – строго сказала царица. – Даниил на моих очах отведывал все лекарства… Я не отходила от одра моего мужа.
– Воля твоя, государыня, а без розыску такого великого дела оставить нельзя, – со своей стороны настаивал Цыклер, – что он с расспросу покажет, и по тем его расспросным речам суд будет.
Царица должна была покориться воле стрельцов. Она увидела себя бессильною отстоять жизнь невинной жертвы еще и потому, что в этот момент явилось новое обстоятельство, отягчавшее участь обвиняемого. К Красному крыльцу нахлынула свежая волна стрельцов, которые торжественно несли что-то на копьях и неистово кричали:
– Он чернокнижник! Он с нечистым водится!
– У него сушеные змеи! Вот он кто такой!
– Всякие змеи и аспиды сушеные в его доме! Чего же еще больше!
И стрельцы показывали вздернутые на копья чучела серых и черных змей.
– Это мы у него нашли, у дохтура!
– Сушеными змеями он царя извел, змеиными печенками…
– Да у него же, у Данилки, мы нашли Адамову голову.
– И двух мертвецов, стоят у него воместо образов…
Каких же еще было доказательств!.. Действительно, в доме дохтура, на Кукуе, нашли стрельцы несколько чучел змей, костяк человеческого черепа и два скелета.
– В застенок его! – кричала толпа. – На дыбу!
– Под кнутом да на виске он все скажет!
И несчастного повели в Константиновский застенок. Там дали ему несколько ударов.
– Все скажу, о-ох! – взмолился пытаемый.
– Ну, сказывай, а ты, Обросим, записывай пыточные речи: ты грамотный, – говорил Цыклер. – Пиши: Лета 7190 маия в 17–й день иноземец – немчина-дохтур в Константиновском застенке в расспросе с пыток винился, и те его расспросные речи таковы… Записал?
– Погоди малость… А вы еще всыпьте ему, пока я записываю…
– Нету, братцы, кнута ему вдосталь… на дыбу почище было бы…
– Знамо почище, кости расправить… не хуже бани…
– И веника, братцы, не надоть..
Несчастного кладут на дыбу. Он только стонет…
– Записывай, Обросим, – распоряжается Цыклер, – был-де Данилка дохтуром у великого государя Феодора Алексеевича и будучи дохтуром великого государя лечил всякими неподобными способы…
– О-о! – послышался стон с дыбы. – Пустите… дайте сроку… три дня… я укажу злодеев…
– Нелюбо! Долго ждать! – послышались голоса.
– Пиши дале: и отравного-де зелья великому государю давал…
– Жилы – те! Жилы ему вытяни поболе…
– Суставы ломай!
Пытаемый потерял сознание. Он уже больше не стонал даже.
– Что с ним возжаться! Сымай с дыбы! – решили стрельцы.
– Клади на рогожу, понесем на Красную площадь.
– Чего же еще! Злодей повинился.
Бесчувственный труп взвалили на рогожу и поволокли на Красную площадь. Там ждали его толпы любознательных москвичей, преимущественно из Охотного ряда.
– Али околел немчин? – любопытствовали охотнорядцы.
– Околел… собаке собачья и смерть… Смерть грешников люта…
– И точно… Змей, слышь, сушил поганец, змеиной печенкой царя извел…
– А жаль, не домучили… Ой-ой-ой! С нами крестная сила!..
Мертвый открыл глаза. Все отшатнулись от него. Послышался слабый стон.
– О, mein Gott, mein Gott!.. О, mein Liebes Geburts Land!
– Слышь, братцы, по-собачьи залопотал…
– Кончай его, а то оживет еретик…
– Не оживет… Вот ему осиновый кол… н-на! Н-на!
– Шибче! Шибче! Ногами дрыгнул аспид… буркалы выпялил…
– Н-на – же! Н-на! Н-на!
И осиновый кол пробил насквозь несчастного. Он так и остался с открытыми глазами.
Дико торжественно было возвращение стрельцов во дворец. Теперь остается им совершить еще один подвиг, найти и казнить Ивашку Нарышкина, и тогда они со спокойной совестью скажут, что сослужили службу московскому государству, не жалеючи животов своих.
Во дворце, между тем, продолжал царствовать ужас. Уносили трупы Гутменша и сына фон Гадена, Михаэля, за которым шла потерявшая рассудок мать и просила, чтоб его несли легче, чтоб не разбудили его…
Когда толпы стрельцов вновь показались у Красного крыльца, царевна Софья поспешила на половину царицы Натальи.
– Опять пришли за Иваном, – сказала она резко.
Царица молчала. Она, казалось, хотела что-то сказать, но голос не слушался ее.
– Брату твоему не отбыть от стрельцов, – повторила Софья, – или нам всем погибнуть за него?
Бывший тут старик князь Одоевский упал перед царицей на колени.
– Матушка! Спаси себя и нас! Вели Ивану выйти, – умолял он.
Находившийся тут же юный царь сильно побледнел, но не сказал ни слова и, презрительно поглядев на жалкого старика, молча вышел.
– Поди, приведи Ивана, – сказала царица Одоевскому.
– Матушка! Я не ведаю, где он.
– Приведи, – сказала Наталья Кирилловна постельнице Клушиной.
Та вышла. Через несколько минут явился Иван Нарышкин. Куда девался его юношеский румянец, блеск глаз, гордая осанка!
Царица бросилась ему на шею и заплакала.
– Иванушка! Родной мой! Братец мой любимый! Надо идти… идти…
Он молча обнимал сестру. Софья стояла бледная.
– Идем, Иванушка.
Она пошла в церковь Спаса за золотою решеткою. За нею шел брат, царевна Софья и старик Одоевский. В церкви духовник царицы стоял на коленях и молился.
– Батюшка, напутствуй брата, – сказала царица духовнику.
Старый духовник подвел молодого боярина к аналою, накрыл ему голову епитрахилью и стал тихонько исповедывать. Недолга была исповедь. Царица, царевна Софья и Одоевский стояли на коленях и молились. Со двора доносился шум, говор и выкрики стрельцов…
– И се народ мног со оружием и дрекольми, яко на разбойника, – тихо, как бы про себя проговорил священник, вынося дары из алтаря.
Нарышкин стал на колени. Началось причащение.
– Еще верую, яко ты еси Сын Бога живого…
– Не яко Иуда, но яко разбойник, – смутно звучали в пустой церкви причастные слова.
Царица рыдала, припав головой к холодным плитам церковного помоста.
Причащение кончилось. Священник приступил к соборованию.
Между тем царевна Софья Алексеевна сняла с иконостаса образ Богоматери и передала его царице.
– Возьми, матушка, передай Заступницу брату Ивану: может, злодеи устрашатся сея святыни и не тронут Иванушку.
Началось страшное прощание сестры с любимым братом. Картина была потрясающая по своему глухому сдержанному драматизму. Извне доносились все более и более усиливающиеся крики. Под самыми церковными окнами слышалось за душу рвущее пение юродивого:
Плачу и рыда-а-аю, егда помышля-а-аю смерть…
Глухие рыдания действительно стояли в церкви… А юродивый снова заводил:
Житейское мо-о-оре воздвизаемое зря напастей бу-у-урею…
Старик Одоевский не выносит этого ужаса…
– Матушка-государыня! Сколько тебе ни жалеть брата, а все уж отдать приведется…
Его не слушают… Не вытолкать же брата на мученическую смерть!
– Иванушка! Светик мой! О-о-ох!
На дворе буря голосов все растет… Юродивый с ужасающею реальностью передает своим старческим голосом картину отпевания покойника:
Со-о свя-я-тыми упокой…
– Иван! Иванушко! – умоляющим голосом шепчет Одоевский. – Иди, иди же скорее… не погибать же нам всем из-за тебя!
Прощание кончилось. Сестра сама вывела брата из церкви и подвела к золотой решетке. Осужденный держал впереди образ. За решеткой уже ждали стрельцы.
Воздух огласился неистовыми криками и ужасающими ругательствами. Отвратительные, самые гнусные слова сыпались из пьяных глоток. Казалось, весь воздух заражен был хульной, омерзительной бранью и заразным дыханием пьяного стада…
– А! За волосы его!.. Толки мордой о земь!
– Волоки его за гриву, в застенок, на дыбу! На виску!..
Трехэтажные, четырехэтажные глаголы потрясают воздух… Несчастного буквально волокут за волосы через весь Кремль, «толкут мордой о камень», «пинают ногами», дают пощечины…
А он хоть бы слово, хоть бы стон…
Его поднимают на дыбу, вытягивают жилы…
– Винись! Сказывай! С кем зло мыслил на осударя?
Хоть бы звук… Ему ломают пальцы в суставах, ни слова, ни звука, ни стона!
Палачи приходят в неописанное бешенство и, нанизав, буквально нанизав, тело своей жертвы на копья, на копьях выносят его на Красную площадь и бросают наземь… бердыши рассекают изуродованное тело на части…
– Стой! Стой! – неистово кричит Кирша и нагибается к рассеченному на части телу.
Вынув из-за голенища большой сапожный нож, он вырезывает у мертвеца сердце и бросает своей собаке.
– На, псина, отведай боярского мясца, скусно!
Прочие стрельцы, изрубив тело Нарышкина на мелкие кусочки, тут же втоптали их в грязь сапожищами…








