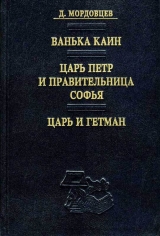
Текст книги "Царь Петр и правительница Софья"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
XII. Напрасные надежды
Весь остальной вечер Мелася была задумчива и неразговорчива, о венке и о Купале не упоминала, а только спрашивала у матери, далеко ли до Прилук и до Кустовец.
Утром на следующий день Родимице стало даже казаться, что несчастная дочь ее совсем приходит в разум, что рассудок, потерянный ею в роковом застенке Преображенского приказа, снова возвращается. Мелася опять заговорила о своей родине, припоминая мельчайшие подробности своего детства, игры, шалости, как будто бы это вчера было. Ей страстно захотелось видеть родину, воротиться домой. Родимице стало казаться, что родные места, родное небо возвратят ей потерянную дочь, что вдали от Москвы она забудет те ужасы, которые отняли у нее рассудок.
Мелася неотступно просилась домой, мать решилась исполнить ее просьбу, тем более что ее самое потянуло на родину: ей хотелось, чтоб кости ее легли в родную землю. Когда это решение созрело в ней окончательно, она отправилась в кельи царевны Софьи Алексеевны, чтоб сказать ей о своем решении и просить милости отпустить ее с дочерью на родину.
Она нашла царевну в радостно возбужденном настроении. Когда старая постельница осторожно доложила ей о своей верной службе, о том, что теперь ее старым костям пора бы и на покой, в родную землю лечь, пуще же всего, что бедная дочка ее, Маланьюшка, только там может воротить свой потерянный разум и что теперь она только о том и молит, чтоб отвезти бедную дочь домой, царевна выслушала ее милостиво и только таинственно заметила:
– Все, все, Федорушка, сделаю для тебя ради твоей верной службы, только погоди малость: коли великое дело милостию Божиею совершится, и я тебя отправлю в твою черкасскую землю с почестию, о какой у тебя и на уме нет.
– Какое же такое великое дело, матушка-царевна? – спросила Родимица.
– А помнишь Волошку? – загадочно спросила в свою очередь царевна.
– Гадалку-то?
– Гадалку.
– Как не помнить, матушка!
– А помнишь, что она пророчила мне? Что в воде-то видела?
– Ох, помню… Да слово-то ее мимо прошло.
– Нет, не мимо, Федорушка: скоро – скоро мне на державстве опять быть, да одной уж.
– А царь-то что ж, матушка-царевна?
– Сокол наш ясный далеко улетел за море, и не вернуться уж ему в родовое гнездо.
Царевна сказала это, понизив голос, но с особенною силою. Постельницу это известие поразило.
– Как же так, царевнушка? Где ж он?
– А и невесть где, словно в воду канул.
Родимица не знала, что и сказать. Она ждала разъяснения непонятных слов Софьи. Та не замедлила поведать ей все, так как находилась в возбужденном состоянии и очень хотела перед кем-нибудь высказаться, а тем более перед своей старой наперсницей, от которой она не таила ничего. Она начала так:
– Спервоначалу, ведомо тебе, улетел наш сокол за море, жар-птицу искать, что твой царевич Иванушка-дурачок, как в сказке сказывается. Надел на себя шапку-невидимку, сапоги-скороходы, сел на ковер-самолет и был таков. И прилетел он в голанскую землю, во град Астрадам, а оттудова в некую деревеньку, Сардамом прозывается, где корабли строют. Ведь он помешался на кораблях. Ну и проявился в этой деревеньке русской земли плотник, Петр Михайлов прозывается.
– Кто ж этот Петр Михайлов будет, матушка? – спросила Родимица.
– А сам, сокол ясный, в плотники записался… Ну и живет у кузнеца в каморке, ходит по плотникам да слесарям, пьянствует с ними, и никому невдомек, что это царь всея Руси. До чего довел себя с пьянства!
– Точно, матушка-царевна, пьянство до добра не доводит, – соболезновала старая постельница.
– А ты слушай, Федорушка, – продолжала Софья, – пьет это он там в мертву голову, шляется по кабакам, а никому и невдомек, что это царь. Да прилучись такой прилучай: живет в той деревнюшке, в Сардаме, один старый плотник, немецкой же породы, голанец, а сын его, голанец же, у нас корабельным плотником служит и нашего сокола-то видывал и знает самолично. Так сей голанец возьми да и отпиши своему родителю в Сардам, что к вам-де в голанскую землю едет сам царь с посольством, да и приметы сокола приложил: длинен-де, что коломенская верста, черен, аки ефиоп, либо мурин царицы кандакийской, и головой с перепою трясет, сама ведаешь, и рожа у сокола кривляется, и рукой-то размахивает, чтоб кого дубиною хватить, да и бородавка на щеке. А старик-то голанец неграмотен живет: возьми да и понеси в кабак к знакомому целовальнику, чтобы по грамотству своему вычел он сыновнюю грамотку. Ну, мать моя, и читают они. На ту пору шасть в кабак наши плотнички, что царь взял с собой учиться у голанцев плотничному рукомеслу, диви у нас на Москве нет своих плотников! А с плотниками-то сам сокол тоже в кабак… Это царь-то, государь всея Руси!
Родимица только головой покачала.
– Ну, Федорушка, а ты слушай: мне все это один человек рассказал, который тогда тоже был за морем. Ну влетел в кабак наш сокол ясный… Голанцы глядь, у них и поджилки затряслись! Одежонка на нем грязная, рваная, как простого плотника, а приметы царские: и длинен-то он не по-людски, и персоною черен, и головою трясет, и бородавка на щеке! Он! Все спознали его! Сором-то какой на всю Русь-матушку: царь, а и одежонку всю пропил, в плотники записался, стыдно было и имя-то свое царское объявить, так его Петрушкой-плотником и величают, да не Алексеевичем (слава Богу, что хоть батюшково имя не срамит, по крайности, нам не стыдно), а Михайловым назвался… Вот, мать моя, как узнали в Сардаме, что это не простой плотник, а царь, так уличные робятки и ну метать в него камнями да грязью, насилу отбили… Что ж и не сором это?
– Знамо, матушка, сором, – отвечала машинально Родимица, которую больше занимала болезнь дочери, чем волнения Софьи.
– Ну бежал из голанской земли не солоно хлебавши, – закончила свой рассказ царевна.
– Куда же бежал, матушка?
– А в аглицкую землю, за другое море: и там набедил.
– Что так?
– Указал своим молодцам мертвечину жрать, мертвых людей есть.
– Что ты, матушка-царевна! Страх какой.
– Что ж мудреного! От пьянства человек взбесился.[12]12
Так россияне того милого времени понимали занятия царя анатомией. В истории Петра записано, что «в Лейдене, в анатомическом театре знаменитого Боергава, заметив отвращение своих русских спутников к трупам, царь заставил их зубами разрывать мускулы трупа». Хорош прием. – Прим. авт.
[Закрыть]
– Ну, и как же матушка?
– Знамо, прогнали чадушку и из аглицкой земли.
– Куда ж потом?
– Убег в цесарскую землю, да там и след его простыл.
– Как так?
– А нечистый его ведает: либо в немецкую веру перешел, либо от винища подох, а уж на Москве ему не бывать царем. Да и стрельцы не хотят его.
– Что стрельцы, матушка! – возразила Родимица. – Их песенка спета.
– Как спета! – горячилась Софья.
– Да где они, матушка? На Москве их только след остался, стрельчихи да махоньки стрельчата, а сами стрельцы, слышь, в Азове да в Таган-роге на земляных работах, а достальные у нас, в гетманщине.
– Ты, я вижу, Федорушка, стара стала, плохо видишь, – самодовольно заметила Софья.
– И точно, матушка, стара я стала, – вздохнула Родимица, – оттого и на покой прошусь.
– Сгоди малость, дам покой, – задумчиво сказала царевна, – постели мне постель в последний раз, когда царицей буду да и из-под венца пойду, тогда иди на все четыре стороны.
Родимица недоверчиво покачала головою.
– Ты не веришь? – задорно спросила Софья.
– Изверилась, – был ответ, – а было время и я верила.
– Так знай же, стрельцы идут к Москве.
– Что ж толку?
– Как что толку?
– Их потешные не пустят.
– Не говори, Федора: без своего сокола и потешные, что куры мокрые, стрельцы их голыми руками заберут.
Родимица продолжала качать головою.
– Что качаешь? – не вытерпела Софья.
– Не верю.
– Ах ты Фома неверный!
– Не поверю, матушка, пока не увижу.
– Ин слушай же! – разгорячилась Софья. – Ты говоришь, что стрельцы под Азовом стоят?
– Под Азовом.
– Ан нет! Слушай-ка: сейчас сестра Марфа присылала певчего к моей постельнице, к Вере Васютинской…
– Это Демушку-певчего? – перебила ее Родимица.
– Демушку, а что?
– Ох, матушка, наживем мы беды с этим Демушкой.
– Что так?
– Верка-то…
– Васютинская?
– Она самая… О-ох!
– А что, Федорушка?
– Али не заметила?
– Не заметила ничего… Что такое?
– Да пузо-то у ней на нос лезет.
– Как пузо?
– Да чижала.
– Что ты!
– Верно слово, беременная, почти на сносех.[13]13
Исторический факт: после этого царь не велел пускать в Новодевичий монастырь певчих. – Прим. авт.
[Закрыть]*
– Ах, матушки! – удивилась Софья. – От кого же?
– Да все от Демушки… Я давно замечала… А нехорошо, ежеле девка в монастыре обродится: на тебя, матушка, покор будет, твоя постельница.
Софья задумалась.
– Хорошо, я разберу это дело, – сказала она, помолчав, – ишь ты, хохлуша! А какая, кажись, скромница.
– Что делать, матушка! Дело молодое…
– Правда, Федорушка… Так сестра Марфа и велела ноне сказать Верке через Демку: у нас-де наверху позамялось: хотели было бояре, из наших, маленького царевича удушить, чтоб совсем извести нарышкинское семя, только его подменили, а его платье на другого робенка надели, да царица узнала, что это не царевич, и сыскала царевича в другой горнице, так бояре-де царицу по щекам били. А об царе сказывали, неведомо жив, неведомо мертв, а вернее того, что его не стало, так надо-де о царстве промышлять, и для того-де по стрельцов указ послан, чтоб шли меня на державство ставить.
Родимица сосредоточенно молчала, как бы к чему-то прислушиваясь.
– Так вот каки вести, Федорушка, – закончила Софья.
– Дай-то Бог, – вздохнула старая постельница, – только, может, это одни разговоры.
– Где разговоры! Стрельцы уж у Воскресенского: не нонче завтра к Москве будут. Так-то, Федорушка! Тогда вот я и отпущу тебя, когда ты нам свадебную постельку постелешь…
– Ох, матушка! Уж свадебную!
– А то как же? Ты скажешь, я стара? Правда, не молоденькая девчонка: поди, и все сорок наберется… Так что за беда! Не одним молоденьким венцы златые куются.
– Оно так, матушка, какая еще твоя старость!.. Вон я, старая да окаянная, и то у своей дочери родной жениха отбила… О-ох, горе мое!
– А что Сумбулов? – спросила ее царевна.
– С горя, матушка, да с печали постригся.
– Что ты, Федора!
– Истину говорю, царевнушка золотая: сама видела Максима в чернеческом клобуке.
– А в котором монастыре постригся?
– В Чудове… Слышала я в ту пору, когда царь здесь был, сказывали: пришел в Чудов государь к обедне, а после обедни и видит, что все чернецы подошли к антидору, один токмо не подошел. Царь и спроси: кто этот чернец, что антидора не берет. «Сумбулов был на миру, говорят, Максимом звали, дворянин, а после боярство получил от царевны-де Софьи Алексеевны за то, что вместо Петра – Иоанна – царевича на царство выкрикивал на Красном крыльце». Царь и подзови его к себе. Для чего ты, говорит, не подошел к антидору? Не посмел, говорит, пройти мимо тебя и поднять на тебя глаза. А царь и велел ему итить к антидору, а после того вдругоряд подзывает его к себе и говорит: «Отчего-де я тебе при выборе на царство не показался?»
– Так и спросил? – полюбопытствовала Софья и вся вспыхнула.
– Так и спросил, сказывают.
– А тот что?
– А тот и говорит: Иуда, говорит, за тридесять сребренников продал Христа будучи его учеником, а я-де твоим учеником никогда не бывал-то диво ли-де, что я тебя продал будучи мелким дворянином за боярство!
– Ишь к кому приравнял! Ко Христу! Пьяницу-то! – снова вспыхнула Софья.
В то время в дверях кельи показалась молоденькая черничка в черной монатейке, красиво оттенявшей белое личико с черными, воронова крыла волосами, заплетенными в две большие косы.
– Ты что, Веруша? – спросила ее царевна.
– От государыни царицы Евдокей Федоровны постельница прислана спросить о твоем здравии, – прощебетала хорошенькая сероглазая черничка.
– Добро, Веруша, кликни ее сюда, – отвечала царевна. – Ах, постой, постой, Веруша! – спохватилась она. – Подь сюда поближе.
Черничка проворно и с веселой улыбкой подошла к царевне. Та внимательно осмотрела ее с головы до ног.
– Это новая монатейка на мне, матушка-царевна, – прощебетала черничка, видимо, избалованная своею госпожой, – хорошо сидит?
– А повернись-ка, стрекоза, боком, – сказала Софья, – сидит хорошо.
– Чаю, и с боку хорошо, – сверкнула «стрекоза» своими белыми, как перламутр, зубами и повернулась.
– Хорошо-то оно хорошо, – сказала улыбаясь Софья, – да вот тут что-то неладно.
И царевна тронула девушку за живот.
– Охо-хо! Ты, кажись, много гороху наелась, вот тебе пузо и вспучило, – заметила она лукаво, ощупывая свою молоденькую постельницу.
Яркая краска мгновенно залила белые пухленькие щечки чернички.
– А! Каков горох – от! Уж не Демушка ли певчий накормил тебя этим горошком? – продолжала царевна, качая головой.
– Матушка, прости! – заливаясь слезами и падая на колени, заголосила Вера Васютинская (это была она, хорошенькая балованная «хохлуша»). – Ох, прости! Я люблю Демьяна!
– Добро, добро! После поговорим…
– Матушка! Я ненароком!
– Добро, добро…
XIII. Отчаянная попытка
Царевна Софья Алексеевна была отчасти права, хвастаясь перед Родимицей, что к Москве идут стрельцы, чтобы призвать ее на державство. Вот что случилось на другой день после того, как она говорила об этом со своей старой постельницей. Это было 17 июня 1698 года. Утро в этот день выдалось пасмурное. Западным ветром гнало по небу разорванные тяжелые свинцового цвета облака. Над свинцовою же поверхностью реки Истры под Воскресенским монастырем с пронзительным писком носились стрижи, вылетая из своих черненьких прорытых в береговых кручах нор с такою стремительностью, точно пули из ружейных дул. С сухим шелестом ветер нагибал прибрежные камыши и высокую рожь по ту сторону Истры, заставляя трепетать каждый лист осиновой рощи, под которою раскинулся в беспорядке стрелецкий табор. Слышалось ржание лошадей и беспорядочный говор. Утренний звон монастырского колокола ветром относило куда-то в сторону. В роще несколько раз принималась куковать кукушка и всякий раз на втором или третьем крике захлебывалась, точно давилась, и с хохотом перелетала на другое дерево.
В стрелецком таборе заметно было большое движение. Середи табора на телеге стоял седой огромного роста стрелец и, размахивая в воздухе бумагою, что-то кричал, но его, по-видимому, никто не слушал. Ветер разносил его слова и трепал седую длинную бороду, которая ярко, точно белая кудель, трепалась на груди по красному кафтану. Это был наш старый знакомый, великан Кирша, по фамилии Маслов, выдержавший и Чигиринские походы, и оба азовских, и потерявший под Азовом своего баловня, кудлатого Турку, ходившего вместе со стрельцами на штурм азовского вала и убитого осколком гранаты.
– Братцы! Аспиды! Да ты слушай, что царевна пишет! – кричал он во всю мочь.
– А для чего она на нас большой полк высылает? – кричали другие.
– Это не она, а потешные да немцы!
– А кто от царевны принес грамоту?
– Стрельчиха Дарья, а ей дала царевнина постельница.
– Слушай, братцы, грамоту! Аспиды!
– Да мы ее давно слышали, – возражали некоторые.
– Аспиды! – ругался Кирша. – А Аченаш (Отче наш) иже еси вы не ежеден в церкви слышите, а все он такой же Аченаш остается…
– Кирша дело говорит! Вычитывай, что она пишет!
– Слушай, братцы, слово царевнино!
– Слушай, дьяволы!
– Любо! Любо! Трезвонь, Кирша!
С трудом удалось угомонить круг, и Кирша начал читать послание Софьи.
– «Вестно мне учинилось, – разносился ветром его могучий голос по всему кругу, – что ваших полков стрельцов приходило к Москве малое число: и вам бы быть к Москве всем четырем полкам, и стать под Девичьим монастырем табаром, и бить челом мне иттить к Москве против прежнего на державство. А есть ли бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве пускать не стали, и с ними бы управиться, их побить и к Москве быть. А кто б не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой».
Настроение духа разом изменилось. На телегу вскочил главный заводчик десятник Зорин и тоже стал махать какою-то бумагою. Ветер трепал и его рыжую бороду.
– К Москве, братцы! К Москве! – кричал он. – Ежели и царевна в правительство не вступится…
– Вступится! – перебивал его Кирша.
– Добро!
Взрыв хохота заглушил даже порывы ветра. Шуму табора вторил звон монастырских колоколов. Во всей картине было что-то дикое, и красные кафтаны метавшихся по майдану стрельцов казались кровавыми.
Когда беспорядочные крики первого порыва утихли, Зорин опять овладел общим вниманием.
– Братцы! – начал он. – Надоть убрать все немецкие потроха, гнездо их, Немецкую слободу, разорить и их всех, что псов со щенятами, перебить…
– Любо! Любо! Перевести всех немцев!
– От их, дьяволов, православие закоснело…
– Да и боярам спуску не дадим!
– Любо! Долой бояр!
– Ладно… И во все полки надоть послать, чтоб и они шли к Москве.
– Вестимо, все, а то стрельцы от бояр и от иноземцев погибают, что мухи осенью.
– Любо! Любо! Хотя б нам всем умереть, а один предел учинить!
Но Зорин снова начал махать в воздухе бумагою, стараясь обратить на нее внимание стрельцов.
Когда шум несколько поутих, Зорин заговорил:
– Братцы! Теперь мы все согласны, чтоб иттить к Москве. Только вестно вам, братцы, что нас мало, всего четыре полка, а шесть полков угнано к Азову: коли бояре вышлют на нас все солдатские полки, и нам, нашим малолюдством, супротив их не устоять. И для того нам, братцы, помыслить надоть: как бы нам глаза отвести боярам, как бы сделать так, чтобы и медведя добыть, и рогатину не сломить…
– Добро! Любо! Он дело говорит, – послышались голоса.
– Зачем ломать рогатину!
– Знамо, без рогатины Мишка задерет.
– Так вот что я умыслил, братцы, – продолжал Зорин, – отведем глаза Мишеньке, пока достальные наши полки не подойдут к Москве.
– Отведем! Отведем!
– А вот, братцы, отвод! – замахал Зорин бумагой.
– Какой отвод? Покажи!
– А вот какой, челобитьице, – отвечал Зорин, – прикинемся казанской сиротой… Я де лиса и такая, и сякая, смирная – пресмирная, только пустите меня в курятник переночевать…
– Лихо! Лихо! – раздались одобрения.
– А ну-ну, вычти лисьино челобитье…
– Покажь, покажь, как Лиса Патрикеевна пишет.
– А вот как, слушайте! – развернул Зорин бумагу. – «Бьют челом многоскорбные и великими слезами московские стрелецкие полки», – начал он читать.
– Ишь ты, лиса плачет великими слезами, – послышалось одобрение.
– Молчи, не перебивай лису.
– «Служили мы, – продолжал читать Зорин, – и прежде нас прародители, и деды, и отцы наши великим государям во всякой обыкновенной христианской вере и обещались до кончины живота своего благочестие хранити, якоже содержит святая апостольская церковь. И в 190–м году стремление бесчинства, радея о благочестии, удержали, и по их великих государей в применении того времени нас изменниками и бунтовщиками звать не велено, и по обещанию, как целовали крест, во благочестии непременно служим. И в 203–м году сказано нам служить в городах погодно. А в том же году, будучи под Азовом, умышлением еретика, иноземца Францка Лефорта…»
– Добавь: собачьяго сына! – послышался чей-то голос.
– Добро, – улыбнулся Зорин и продолжал читать, – «чтоб благочестию великое препятие учинить, чин наш московских стрельцов подвел он, Францко, под стену безвременно, и, ставя в самых нужных в крови местах, побито нас множество»…
– И Киршина Турку убили, – заметил какой-то шутник.
– «Его ж, Францковым, умышлением, – продолжал Зорин, – делан подкоп под наш шанцы, и тем подкопом он нас же побил человек с триста и больше. Его же умыслом на приступе под Азовом посулено по десяти рублев рядовому, а кто послужит, тому повышение чести: на том приступе, с которой стороны мы были, побито премножество лучших…»
– Что говорить! Страсть что побито! – прерывают чтеца.
– Не приведи Бог!
– «А что мы, – продолжается чтение, – радея великому государю и всему христианству, Азов говорили взять привалом, и то он, Францко, оставил. Он же, Францко, не хотя наследия христианского видеть, самых последних из нас удержал под Азовом октября до третьего числа; а из Черкасского четырнадцатого числа пошел степью, чтобы нас и до конца всех погубить, и идучи ели мертвечину, и премножество нас пропало…»
– И галок ели и всяку нечисть…
– Коней палых…
– «… И в двести шестом году Азов привалом взяли и оставлены города строить, и работали денно и нощно во весь год пресовершенною трудностию…»
– Во каки мозоли наработали! – поясняют.
– «… А из Азова сказано нам идти к Москве, и по вестям были мы в Змиеве, в Изюме, в Цареве – Борисове, на Маяке в самой последней скудости. И из тех мест велено нам идти в полк к боярину и воеводе, к князю Михайле Григорьевичу Ромодановскому в Пустую Ржеву на зимовье, не займуя Москвы. И мы, радея ему, великому государю, в тот полк шли денно и нощно, в самую последнюю нужду осенним путем, и пришли чуть живы. И будучи на польском рубеже в зимнее время в лесу, в самых нужных местах, мразом и всякими нуждами утеснены, служили, надеясь на его, великого государя, милость. И по указу велено все полки новгородского разряду распустить, и боярин и воевода Ромодановский, выведчи нас из Троица по полкам, велел рубить, а за что, не ведаем. Мы же слыша, что в Москве чинится великое страхование и от того город затворяют рано, а отворяют часу в другом дня или в третьем, и всему народу чинится наглость, и слышно же, что идут к Москве немцы, и то знатно последуя брадобритию и табаку во всесовершенное благочестия испровержение…»
– Знамо с табаком!
– И брить нас хотят!
– Вон который год жен и детей и сродников не видим, с женами и детьми нас разлучили: ни мы бобыли, ни мы не знай кто.
– Горькие кукушки мы, вон кто: своего гнезда у нас, у кукушек, нет… Вон она кукует, раз, два, сорвалась…
Действительно, слышно было, как в роще куковала кукушка, а ветер продолжал гнать по небу разорванные облака, донося к табору одинокий лошадиный топор.
– Кто б это был такой? – переглядывались стрельцы.
– По московской дороге гонит. Должно, с вестями.
По московской дороге показался всадник. Он торопливо гнал к стрелецкому табору.
– Да это никак стрелец, – послышались голоса в таборе.
– Откуда быть стрельцу! Стрельцы все в таборе.
– Али ты не видишь красный кафтан?
– Да это, братцы, Алешка Рудой: он в Москве оставался, потому хворый был.
– Алешка и есть.
Всадник подъехал к табору и снял шапку.
– Здорово живете, братцы, господа стрельцы! – кланялся он на все стороны. – А я вам привез поклоны от жен и детей.
– Спасибо! Мы сами к им идем в гости.
– Опоздали, братцы! Я привез вам дурные вести.
– Хуже того дурна, что было, не будет, – был ответ.
– Против вас идет потешное войско, а ведет его старый воевода Шеин, да немец Гордон, да князь Кольцо – Мосальский.
– А много их?
– Видимо-невидимо.
– А далеко обогнал их?
– Недалече. Скоро к вам прибудут… Затем я из Москвы к вам ушел, чтоб весть подать, чтоб вы обдумали.
– Мы обдумали, – мрачно отвечали стрельцы, – хотя б умереть, а быть на Москве.
Табор заволновался еще больше. Битва была неизбежна.








