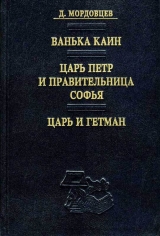
Текст книги "Царь Петр и правительница Софья"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
– Га! Ведьма! Не хочешь быть аллилуевой женой! – рычит эта горящая гигантская свеча и спрыгивает с ограды.
В одно мгновение он схватывает барахтающегося на земле ребенка и перекидывает его обратно, за ограду, в огонь..
– Гори! В раю будешь!
Сам же он падает на землю, горит и корчится в муках. К нему подбегают солдаты, но не смеют дотронуться до этой безобразной горящей массы, издыхающей в корчах. На ограде показывается другой огненный человек и, со страшным визгом соскочив на землю, стремительно бежит к озеру и со всего размаху прыгает в воду… Вода поглощает безумца, а на поверхность высылает только пузыри, которые тут же лопаются и исчезают…
Забор, наконец, в двух местах выламывается и падает внутрь. Глазам представляется потрясающая картина: в пламени мечутся горящие люди, старики, взрослые, женщины, дети. По земле, словно черви, извиваются такие же горящие безумцы, горят друг на дружке, падают и вскакивают, рвут на себе волосы, поднимают к небу руки… С треском рушатся крыши домов, церковные главы, а кругом в страшных позах с потрясающими воплями корчатся какие-то бесформенные массы или лежат недвижимо, словно обугленные бревна или лесные карчи… Но это не карчи, а политые смолою и обмотанные паклею обуглившиеся люди…
Те, которые еще в состоянии стоять и метаться в муках, как бешеное стадо бросились в пролом и вопя, визжа, стоная нечеловеческими стонами, падая и вскакивая, стремятся к воде, падают один на другого, опять вскакивают и с шипением бросаются в озеро, которое их и поглощает, покрывая собою это возмутительное зрелище… За горящею женщиною бежит к воде девочка, желая настигнуть свою мать, но какой-то засмоленный демон хватает девочку на руки и вместе с нею бросается в пламя.
Во время этого адского «действа» в противоположной пожарищу задней стороне ограды отворилась калитка, закрытая густым кустом свидины, и из нее торопливо вышли два человека. Один из них был тот старый фанатик, который якобы поймал беса в чернильнице и которому якобы верховные апостолы Петр и Павел «сродичи», а другой – худой высокий чернец в скуфейке старинного соловецкого образца. Они тащили небольшой кованый железом сундук, направляясь к воде. Там под прикрытием прибрежных кустов ивняка и осоки стояла привязанная к кусту лодка. Беглецы втащили в нее сундук, отвязали лодку, уселись сами в нее и быстро поплыли от Палеострова в противоположную от Повенца сторону.
– Ангелы-то как радуются ноне, – сказал апостольский «сродич» Емельян, глядя на покинутый ими дымящийся остров, – венцов-то, венцов-то мученических сколько раздадут они ноне!
– Истинно, – подтвердил его спутник, чернец в скуфейке, сидя у руля, – поди, тысячи две с половиною праведников привел ты в рай, Емельян.
– Полтретьи тысящи! – восторженно воскликнул фанатик. – Ликует ноне рай, а бесы плачут, и ад зубами скрежещет.[8]8
По свидетельству раскольников, в Палеостровском монастыре сгорело в два приема 3200 самосожигателей. – Прим. авт.
[Закрыть]
– А хорошо, Емельян, что ты об казне не забыл, – заметил чернец. – А то бы и она сгорела.
– Зачем казне гореть! Это казна Богородицына: с этою казною мы еще не одну тысящу душ приведем ко Господу.
Изуверы долго еще видели, как курилась человеческая гекатомба, дым которой высоко поднимался к небу… А утро было такое чудное, свежая весенняя зелень так говорила о жизни!
XIX. Щука и море
В последний раз мы видели юного Петра Алексеевича, когда он с своими «потешными робятками» играл на Москве-реке, защищая сделанную из снега крепость, названную им Перекопом.
Теперь, в то самое утро, когда Голицын, получив несколько бурдюков «доброй воды», отступал от Перекопа, а на Онежском озере раскольники тысячами погибали в пламени зажженного ими Палеостровского монастыря, юный царь тешился в Москве новою потехою. В последние дни он страшно капризничал, потому что мать, желая отвлечь его от немецкой слободки, которую он повадился посещать каждый день, с весной утащила его подальше от «кукуевских прелестниц» (это – Модеста и Ягана) и поселилась с ним в селе Измайлове. Скучая, он вместе со своим новым учителем, голландцем, или «таланским немцем Францкою» (Франц Тиммерман), постоянно рыскал по окрестностям или лазил по сараям, амбарам, по конюшням и каретникам: все ему надо видеть, обо всем расспросить – что, как, для чего, из чего?
Сегодня с утра он забрался в амбар, где сложены были старые негодные вещи, и вдруг наткнулся на судно, которого он сроду не видывал.
– Франц! Это что такое? – поймал он за кафтан Тиммермана.
– Старое судно, государь, сам изволишь видеть.
– А как оно именуется? Таких я чтой-то не видывал.
– Это аглицкий бот, государь.
– А чем же он лучше наших, русских?
– А тем оно лучше, государь, что ходит на парусах не токмо что по ветру, а и против ветру.
– Как! Против ветру? Не может быть! Ну, покажи, я хочу сам видеть… Ты умеешь им править? А у самого глаза так и горят.
– Нет, государь, в морском деле я не навычен.
– А кто же умеет?
– Да Карштен Брант, государь, что при покойном родителе твоем, блаженной памяти царе Алексее Михайловиче, в Дединове корабли строил, он умеет.
– А! Знаю его, знаю! Я не однова встречал его у Монца, беловолос и в кегельную игру зело хорошо играет.
– Он, государь, он самый.
Юному царю не терпится. Он осматривает бот, трогает, взбирается на него, ощупывает снасти, поворачивает якорь… «Где паруса? Где руль?.. А! Вот руль… косой, срезан вкось…»
Весь запылился Петр, запачкался, возясь с новой находкой, но в глазах довольство, оживление.
– Здесь государь? – спрашивает кто-то в дверях.
– А! Это ты, Борис? Ты зачем?
– Тебя, государь, ищу. Государыня изволит кликать.
– Гей, мне недосуг… Вот что, Борис, пошли сейчас гонца в немецкую слободку, чтоб Карштена Бранта привезли… Да вели скакать… Сегодня ветер. Чтоб сейчас был!
Царский дядька стоит, ничего не понимая. Но он знает своего питомца: чуть что, сейчас оборвет, а то и щекам достанется.
– Слушаю, государь, – торопливо отвечает он.
– А где Алексашка?
– Не знаю, государь, не видал ноне.
– Не знаю! Сколько раз я тебе говорил, чтоб такого слова мне не сказывали!.. Не знаю!
– Прислать укажешь его, государь?
– Пришли… Да скорей Бранта! А мне высокие сапоги.
Голицын спешит уйти. Из дворца прибегает запыхавшийся стольник. Он весь красный.
– Здесь государь? С ног сбились…
– Чего тебе? – осаживает его царь.
– Государь!.. Государыня царица изволит просить кушать.
– Отстаньте вы от меня! Недосуг! Вам бы все кушать…
Стольник растерянно переминается на месте. Прибегает другой стольник.
– Государь… Государыня царица…
– Что там еще? Опять кушать?
– Государыня указала…
– Пошли вон! Мне не до того!
Озадаченные стольники уходят, понурив головы… «Ну, чадушко! И в кого оно?..»
– Эй! – кричит неугомонный юноша. – Стольники! Кто там!
– Стольники ушли, государь, – отвечает Тиммерман.
– Кликни их, Франц, они мне надобны.
Тиммерман зовет стольников, и они возвращаются.
– Позвать мне дворских плотников да конопатчиков, токмо живой рукой! Да чтоб воды захватили и котлы с варом.
В дверях амбара показываются Голицын и Алексашка, уже одетый в военный кафтан.
– А! Пирожник! Где пропадал? Опять за пироги принялся?
– Нет, государь, я грамоте учусь, четью – петью церковному, – отвечал бывший пирожник.
– Это хорошо, учись, прок будет…
Неугомонную голову осенила какая-то новая мысль. Он остановился и соображал. Потом глаза его внезапно сверкнули…
– Что же я, младенец, что ли! Мне уж шестнадцать лет, а за мной все следом следят эти матушки да нянюшки, стольники да постельницы… Я не маленький ребенок, я царь.
Как в огненном темпераменте в нем разом и бесповоротно созрело решение. До сих пор на него смотрели как на ребенка, хотя он успел вытянуться в косую сажень. Особенно царица – мать видела в нем только ребенка, и что бы он ни задумывал, какими бы планами ни задавался, что бы ни творил со своими «потешными», которых он успел уже набрать два полка, царица – мать, хотя с любовью, но и не с одобрением качала головой: «Тешится робенок… Только в кого он уродился такой?...» И краска выступала на ее поблекших щеках… Как бы то ни было, огненные проявления в молодом царе пугали его мать. Его затеи выходили из рамок детства, и она не могла помириться с этим… «Робенок дурит, надо его унять, усадить»… И за великаном – «робеночком» устраивается систематическое материнское шпионство, шпионство безумной любви. Стольники, постельницы, нянюшки, матушки, дурки, карлы, все это шпионило за каждым его шагом, и обо всем докладывалось матушке – царице. И матушка – царица охает, пилит «робеночка» своею любовью, не надышется, не наглядится на него. А великана это злит, но все-таки он не может вырваться из любовных материнских сетей, сбросить с себя этот деспотический гнет дворца, детской, терема… Но вид английского бота делает перелом в его молодой огненной душе… Как? В этом боте можно будет померится со стихиями, с ветром! Можно будет потом попасть в море!.. Море! Да он его никогда не видывал. «На море, на кияне, на острове, на Буяне», – стучит у него в сердце… Да это сказка! Это мамушки да нянюшки в сказке рассказывали об Иване – царевиче да жар-птице… А он сам может увидеть и море-океан, и остров Буян, и поймать жар-птицу!
А мать не пустит? Опять эти стольники прибегут… «Матушка – царица указала…»
– Борис! Вели седлать коней! – с нервной торопливостью говорит он.
– Под кого, государь? – спрашивает Голицын, улыбаясь про себя и смутно догадываясь, что его питомец чем-то «заряжен, шибко заряжен».
– Под кого! – палит заряженный. – Под меня, под тебя да под Алексашку, ты гораздо теперь выучился ездить? – обращается он к последнему.
– Гораздо, государь, – отвечает Алексашка.
– То-то у меня! А то онамедни ты сидел на седле пирожником…
Пироги подовые!
Пироги шелковые!
Алексашка улыбнулся… «Нет, государь, я ноне навык этому делу…»
– Что ж ты стоишь, Борис? Я тебе сказал!
– В кое место изволишь, государь, ехать?
– На Кукуй, к Монцам, за Брантом, дело есть.
– Слушаю, государь.
Голицын торопливо ушел, боясь взглянуть вверх, на окна дворца, в одном из которых виднелась царица – мать и издали с тревогой следила за тем, что делалось около амбара.
– А ты пока, Франц, вели плотникам да конопатчикам обмыть бот гораздее, приготовить пакли да вару нагреть, – распоряжался расходившийся Геркулес, задумавший вырваться из объятий Омфалы – матушки.
– Слушаю, государь.
Но вот и лошади оседланы и поданы. Царь и дядька уже на конях. Алексашка также сидит на седле молодцом.
– Ну с Богом, в путь.
От дворца бегут стольники без шапок, запыхавшиеся, смущенные.
Петр даже не глянул на них, дал шпоры в бока лошади и поскакал. За ним Борис Голицын и Алексашка, а сзади два конюха.
Мать – царица, стоя у окна, только руками всплеснула… Господи! В кого он?..
………………………………
Через несколько дней бот уже плавно качается на воде у берега реки Яузы. Веселый, оживленный, в костюме голландского юнги Петр быстро вскакивает в него по сходцам и делает «салют» боцману Крафту, который сидит у руля и держит в руках парусные снасти. За ним входят в бот Борис Голицын, Никита Зотов, Тиммерман и Алексашка в костюме голландского матроса.
По другую сторону Яузы на берегу стоят Гордон, Лефорт и Монс с дочками, приехавшие посмотреть на новую потеху царя.
Не утерпела и царица – мать, чтоб и тут не пошпионить за чадушком. Вон в сторонке стоит дворцовая «корета», а в окно ее из-за зеленой тафты тревожно выглядывает бледное, зеленоватое лицо самой матушки… «Господи! Долго ли до беды! А опрокинется?.. Помилуй Бог!»..
Бот отчалил от берега. Довольно свежий ветер дул вниз по течению реки. Брант сделал движение рулем, и бот повернулся носом против ветра. Петр стоял у мачты, бледный от волнения. Брант потянул снасти. Парус, беспорядочно трепавший по ветру и задевавший по лицу царя, вдруг надулся в одну сторону, накренил на эту сторону бот… вот опрокинется…
– Ах! Богородица! – испуганно вскрикнул Зотов, хватаясь за скамью.
– О-ох! Владычица! – донесся слабый крик из кареты.
Но бот, едва не зачерпнув воды, стрелой понесся против ветра и против течения. Петр выпрямился, словно вырос. Он был все такой же бледный, но ноздри его энергически вздувались, как у горячей лошади, огненные взоры жадно следили за бегом бота…
– Браво! Браво! Гох! – неслось с того берега, где стояли немцы.
Дочки Монса хлопали в ладоши, махали платками… Петр улыбнулся и рукою послал им приветствие…
Бледное лицо, выглядывавшее из окна кареты, исказилось тоской и болью… «А меня, мать-то, мать-то и забыл… Вспомнил девок – иноземок, а мать родную забыл…»
Бот повернул назад. Теперь парус его надулся ровно, прямо, и бот летел как птица. Петр, держась за мачту, дрожал от восторга… Крики немцев и русских, набежавших посмотреть на новую потеху царя, восторженные «браво», «гох», «ай да немец – колдун» неслись с обоих берегов Яузы. Стольники, стоя вблизи кареты, ажно об полы руками ударили.
– Уж и действо же галанское! Вот так действо!
Брант искусно повернул руль, передернул парусные снасти, бот дрогнул, накренился опять птицей полетел против ветра… Опять назад, опять против… От быстрого бега при порыве ветра бот ткнулся носом в берег. Брант справился с ним и повернул, но новый порыв ветра налетел сбоку и бот ударился носом в другой берег…
– Для чего так? – тревожно спросил Петр.
– Вода узка, государь, – отвечал Брант, – разгуляться негде.
– А где можно? – с дрожью спросил взволнованный юноша.
– На Просяном пруду, государь, там пошире будет.
– Нет, и там мало авантажу сыщем, – с недовольством произнес царь, – в море бы.
– Море далеко, государь, – вступился Зотов, – озеро бы большое, оно лучше.
– А какое? Где? Белоозеро?
– Белоозеро далеко, государь, и государыня – царица нас не пустит туда.
– Ах, Никита! Матушка! Все матушка! Я не ребенок… А где ближе, Никитушка?
– Да близко ничего нету, государь.
– Есть и ближе, государь, – вставил свое слово дядька.
– А где, Борис?
– А Плещееве озеро, государь, в Переславе… всего ходу до него сто двадцать верст… Ну, там можно разгуляться.
– И точно, оно не далече, – подтвердил и Зотов, – за Троицей, почитай, столько же, сколько до Троицы – Сергия… Да только и туда, государь, нас не пустит царица.
Не пустит! Это несносно! Это тюрьма… Он не девка, чтоб ему торчать в терему… Не воздухи же ему вышивать на церковь…
А сама поговаривает, что пора бы женить Петрушеньку…
Ба! Его осенила счастливая мысль… Надо обмануть богомольную старуху… «Ложь во спасение», – шепнула ему податливая совесть… «Попрошу матушку, чтоб отпустила меня к Троице на богомолье… Скажу, что обещание дал, чтоб не утонуть в Яузе ноне… Она поверит, она богомольная, отпустит с Борисом, с князем да с Никитой!.. А мы оттудова махнем в Переслав, лови нас!»…
И он тотчас же велел пристать к берегу и с жаром обнял Бранта.
– Спасибо, спасибо! Я этого никогда не забуду.
Радостный, счастливый, он бросился к карете матери, за ним стольники, он крикнул на них: «Долой! Я к матери иду!» – и, отворив дверцу кареты, повис на шее у матери.
– Матушка! Голубушка!
– Что, сынок? Что свет очей моих? Ах, сколь ты напужал меня!
– Голубушка моя, мамочка! Отпусти меня!
– Куда еще, светик мой? (В глазах уже тревога: опять что-то выдумал!) Куда, Петрушенька?
– На богомолье, матушка.
– Куда, мой соколик? (На душе полегчало.) К Иверской?
– К Троице, матушка.
– Добро, сыночек, я с тобою поеду.
– Нету, матушка! Для чего тебе? Я ноне обещание дал преподобному Сергию… Я испужался и дал обещание угоднику, чтоб не утонуть…
– Добро, добро, мое солнышко, поезжай с Богом да только не мешкай там…
Петр душил свою «старуху» в объятиях…
Часть вторая
I. «Медведицу на рогатину»
В 1689 году шестнадцатилетнего Петра Алексеевича женили. Прямо с потех да под венец.
Казалось бы странным по отношению к такому чадушке, как Петр Алексеевич, употреблять выражение, что его «женили». Оно действительно странно, но на деле было именно так. И все это проделала безумная любовь к нему матушки. Трепеща за свое чадо, которое теперь перенесло свои «потехи» с Москвы-реки и Яузы на Переславское озеро, а потом, пожалуй, перенесет и на море, матушка решилась подыскать ему новую, более для нее безопасную «потеху», женить неугомонное чадушко. Для этого ему подсунули хорошенькую, пухленькую, совсем крупитчатую боярышеньку, ясноглазенькую Евдокеюшку, или Дунюшку Лопухину, дочку окольничего Илариона Лопухина. У Евдокеюшки была густая русая коса, бившая ее, как жгутом, по ядреным бедрам, когда она с сенными девушками игрывала в горелки; белая лебединая грудь, что рогом лезла из-под тонкой кисейной рубахи, и голубые глаза с поволокой: это была настоящая русская красавица, обещавшая вскоре сделаться «тетехою», какою она и сделалась.
Петру Алексеевичу она совсем не нравилась. Правда, ему бросились в глаза ее женские прелести, и чтоб отвязаться от приставаний матери, он сделал поблажку, позволил себя женить на крупитчатом теле, но за эту поблажку потребовал от матери горьчайших уступок…
Здесь и начинается поворот в жизни Петрушеньки, как и поворот в истории России. «Женится – переменится мой соколик Петрушенька», – сказала обрадованная матушка, получив согласие сына на женитьбу. И действительно, все переменилось, только не так, как надеялась, матушка. Молодую жену свою он тотчас же после венца, чуть ли не на третий день паточного, как он выражался, месяца, назвал «сайкою», которая только и сносна, пока из печи, а там…
И вот Петрушенька прямо с новобрачной постели улепетывает на Переславское озеро, захватив с собою Бориску Голицына, старого Зотова, Тиммермана и Алексашку: там у него дело, там у него Брант кораблики строит. И оттуда уже, чтоб хоть чем-нибудь утешить «старуху» за свой побег, пишет ей, а не своей соломенной вдове – «сайке»:
«Вселюбезнейшей и паче живота телесного дражайшей моей матушке, государыне царице и великой княгине Наталии Кирилловне» – ну точь-в-точь, как солдатик в деревню.
«Сынишка твой, в работе пребывающий Петрушка, благословения прошу и о твоем здравии слышать желаю. А у нас молитвами твоими здорово все. А озеро все вскрылось сего 20–го числа, и суды все, кроме большого корабля, в отделке, только за канатами станет. И о том милости прошу, чтобы те канаты, по семисот сажен, из пушкарского приказу, не мешкав, присланы были».
А чтобы припугнуть родительницу, заставить ее поскорей выслать канаты, прибегает к уловке. Он приписывает: «А коли за канатами дело станет, и житье наше продолжится…» Значит, ведай, что не скоро меня увидишь и «сайкой» не заманишь.
Родительница, со своей стороны, хитрит. Пишет: приезжай-де на панихиды по брате Федоре, соколик. А соколик отвечает: «Быть готов, только гей, гей! Дело есть… а о судах паки подтверждаю, что зело хороши все…»
Вот тебе и женила!..
А там мутит сестрица милая, царевна Софья Алексеевна. Просидев на батюшкином троне семь лет, поддерживаемая стрелецкими копьями, она стала догадываться, что скоро, скоро братец Петрушенька спихнет ее с этого места, да еще и в монастырь запрячет… Ну и стала мутить… Слыша стороной, что «озорник» – братец недоволен крымским походом и постыдным отступлением Голицына из-под Перекопа, она, распаляемая еще большею страстью к своему идолу Васеньке, шлет ему навстречу безумное послание.
«Свет мой, батюшка, надежа моя, здравствуй на многая лета! – восклицает она в порыве любовного припадка. – Зело мне сей день радостен, что Господь Бог прославил имя свое святое, также и Матери своея, пресвятыя Богородицы, над вами, свет мой. Чего от века не слыхано, ни отцы наши поведаша нам такого милосердия Божия. Не хуже израильских людей вас Бог извел из земли египетския, тогда чрез Моисея, угодника своего, а ныне через тебя, душа моя. Слава Богу нашему, помиловавшему нас чрез тебя. Батюшка ты мой, чем платить тебе за такие твои труды неисчетные? Радость моя, свет очей моих! Мне веры не иметца, штобы тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день той был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила пред собою. Писма твои, врученны Богу, к нам все дошли в целости. Испод Перекопи пришли отписки в пяток 11–го числа. Я брела пеша испод Воздвиженскова, только подхожу к монастырю Сергия – чюдотворца, к самым святым воротам, а от ворот отписки о боях. Я не помню, как взошла, чла, идучи! Не ведаю, чем ево света благодарить за такую милость ево, и матерь ево, и преподобнаго Сергия, чюдотворца милостиваго. Што ты, батюшка мой, пишешь о посылке в монастыри, все то исполнила, по всем монастырям бродила сама пеша. А раденье твое, душа моя, делом оказуетца. Што пишешь, батюшка мой, штоб я помолилась: Бог, свет мой, ведает, как желаю тебя, душа моя, видети»…
Бесконечное письмо! И все «свет мой», «душа моя», «надежа моя», «батюшка мой», «свет очей моих», «братец Васенька!»
Пропадай все, а только чтоб Васенька был скорей около нее! А Васенька – седой коренастый мужчина, у которого сын уже сановник… Не беда, страсть ведь сила слепая… Но эта слепая страсть не мешает ей биться из-за власти. Она зубами за нее уцепилась и никому не хочет уступить: она помнит то, что видела Волошка в воде… Где же два гробика? Где венцы?
Кончив страстное послание к Голицыну, она спрятала его в стол, а потом долго стояла на коленях перед киотом. Вечерело. Из киота глядел на нее кроткий лик Спасителя…
Она решилась на что-то…
– Федорушка! – кликнула она в соседнюю комнату.
На ее зов явилась Родимица. Она видимо похудела и осунулась. Но Софья не замечала этого: у эгоизма, как у крота, нет глаз на многое.
– Вот что, Федорушка, – сказала она быстро, – спосылай сейчас за Шакловитым, да чтоб он захватил и Гладкого, и Чермного с товарищи.
– Слушаю, государыня, – как-то глухо отвечала постельница, нерешительно переминаясь на месте.
Это заметила Софья.
– Ты что, Федорушка? – спросила она.
– Да вот об князе Василье Васильевиче, государыня: добрые вести от него пришли?
– Добрые, добрые, Федорушка: и агарян победил, и сам к нам скоро будет.
– А Сумбулов, что ж, государыня, благополучно доехал до Перекопи?
– Благополучно, Федорушка… И добро, выиграл себе невесту.
– Кого? – глухо спросила Родимица.
– Вестимо, Меласю, Меланьюшку… Будто ты и не знаешь…
Злой огонек блеснул в глазах Родимицы, и она тотчас же вышла. Вслед за нею вышла в другую комнату и Софья. Там за пяльцами сидела Мелася и усердно работала иглой.
– Ну, Маланьюшка, – сказала Софья, – скоро и тебе будет радость.
– Какая радость, государыня? – с дрожью в голосе спросила девушка.
– А боярыней скоро будешь.
Мелася вся вспыхнула, и иголка задрожала в ее руке.
– Что, рада небось? – спросила царевна.
– Я не ведаю, про что ты изволишь говорить, государыня, – еще более покраснев, отвечала молодая постельница.
– У! Хитришь у меня, девка, – улыбнулась Софья, – а кто онамедни молился со слезами: «Господи! Пречистая! Покрой своим покровом раба твоего Максима!» А? Кто этот Максимушка?
В это время вошла Родимица. Она была еще бледнее: не то страдание, не то злоба сказывались в ее блестевших лихорадочным огнем глазах. Но она старалась скрыть это.
– Федор пришел, государыня, Шакловитый, – сказала она тихо, как бы боясь, что голос ее выдаст.
Софья по-прежнему ничего не заметила и вышла. Шакловитый ждал ее в приемной. Со времени казни Хованских он, казалось, постарел и похудел, но держал себя несколько иначе, не по-дьячески, хотя лисьи ухватки подьячего все еще выдавали его бывшую профессию, требовавшую кошачьей мягкости и лисьей увертливости. Он низко поклонился.
– Пойдем ко мне, Федор, – ласково сказала царевна, – а Гладкий с товарищи?
– Они не помедля будут, государыня, – отвечал начальник стрельцов, бывший дьяк.
– И добро… Мне с тобой особо надо будет поговорить.
И они вошли в молельную царевны, по-нынешнему в кабинет. Шакловитый поклонился иконам.
– Садись, Федор, – пригласила его царевна.
Шакловитый сел по привычке постоянно докладывать и писать в этой комнате к письменному столу.
– Слышно, Федор, – начала Софья, – там (она сделала ударение на этом слове), там, слышно, не похваляют нашего дела… Медведица с сынком, а пуще Бориска Голицын да Левка Нарышкин судачат, якобы князь Василий со срамом ушел из Перекопи.
– Точно, государыня, поговаривают, – отвечал Шакловитый.
– Так надо заткнуть им глотку, – сердито проговорила Софья.
– А чем ее, глотку-то, заткнешь, государыня. На чужой роток не накинешь платок, сама ведаешь, матушка.
– А мы накинем!
– Где ж этот платок?
– А ты сотки… Ты, Федор, ткач добрый, умеешь ткать.
– Недоумеваю, государыня, – улыбался хитрый дьяк.
– А пером? Оно у тебя такой уток, такие узоры тчет, что на, поди раскуси.
– Что ж я пером-то сотку, государыня?
– А похвальную грамоту князь Василью за всю его многую радетельную службу, как он поганых агарян поразил и, аки Моисей, вывел народ израильский из полону.
– Так, так, государыня: теперь уразумел малую толику.
– А уразумел, так садись и строчи: вот тебе перо и бумага.
– Добро-ста, государыня: прострочу платочек на ихний роточек.
Он сел к столу, обмакнул перо в массивную чернильницу, снова омочил перо в чернила, и привычная дьячья рука заходила по бумаге.
– Да смотри, Федор, покрепче: лучку да перцу подсыпь, – понукала Софья.
– Подсыплю, государыня, подпущу и ладонцу, оно не претит.
– Можно, что ж! Покурить ладоном не лишне.
Грамота была скоро набросана.
– А ну, ну прочти, Федор.
– По титуле, – начал Шакловитый, – мы, великие государи, тебя, ближняго нашего боярина и оберегателя, за твою к нам многую радетельную службу, что такие свирепые и исконные креста святого неприятели твоею службою не чаянно и никогда не слыханно от наших царских ратей в жилищах их поганских поражены, и побеждены, и прогнаны…
– Зело хорошо, зело хорошо! – шептала Софья.
– И объявились они сами своим жилищам разорителями, – продолжал Шакловитый, – отложа свою обычную свирепую дерзость, пришед в отчаяние и ужас…
– Так, так… зело красно!
– В Перекопи посады и села и деревни все пожгли, и из Перекопи со своими поганскими ордами тебе не показались и возвращающимися вам не явились, и что ты со всеми ратными людьми к нашим границам с вышеописанными славными во всем свете победами…
– Ну перо! Вот золотое перо! – невольно шептала Софья. – Славными во всем свете победами…
– … возвратились в целости, милостиво похваляем.
– Постой, постой, Федор! – взволнованно говорила Софья. – Припиши: милостиво и премилостиво похваляем.
– Припишу, государыня, точно что покрепче будет.
– Эко перо у тебя, Федор! Что за перо! Золотое! Словно жемчугом по золоту нижет…
В это время вошла Родимица и доложила, что пришли стрельцы.
– Проведи их сюда, Федорушка, – сказала Софья.
Стрельцы вошли как-то нерешительно, словно прячась один от другого, и истово широко все разом перекрестившись на образа, низко поклонились царевне, а потом Шакловитому. Их было пять человек: Гладкий, Чермный, Кондратьев, Петров и Стрижов, это были «заводчики», запевалы после Цыклера и Озерова. Глотки этих крикунов были известны всей Москве.
– Здорово, молодцы! – ласково встретила их царевна.
– Здравия желаем, матушка-государыня! – отвечали они в один голос.
– Садитесь, братцы, – приглашала Софья, – у меня есть до вас дело.
– Благодарствуй, государыня, на жалованье, а сидеть нам не к лицу.
– Не вприлику будет, постоим.
– Как знаете, – согласилась Софья, – а у меня к вам разговор будет не простой… Ведомо вам, чаю, самим, что в Москве ноне деется: вас, старых слуг, ни во что не ставят, а обзавелись новенькими, потешными, да и мне за мое семилетнее державство ничего, кроме досады, не вышло, мутят меня с братом царем, так что хоть из царства вон.
Она помолчала. Упорно молчали и стрельцы, и только Гладкий нетерпеливо мял шапку в руках.
– А все от Бориса Голицына да ото Льва Нарышкина, – продолжала Софья, – меньшего вон брата с ума споили: с коих лет пить начал да бражничать с девками от живой жены, а давно ли женат? И полгоду не будет… так и живет в немецкой слободе… А старшего брата, Ивана – царя, ни во что ставят, двери ему дровами завалили и поленьем, а царский венец изломали… Меня девкою называют, будто я и не дочь царя Алексея Михайловича… житье наше стало коротко… радела я обо всячине, а вон до чего дожили…
Она заплакала. Стрельцы продолжали молчать, но Гладкий уже сжимал саблю. Шакловитый прервал тяжелое молчание.
– Что ты, матушка-государыня! – заговорил он, вскакивая. – Разве нельзя князя Бориса да Льва Нарышкина убрать? Да и старую «медведицу» можно… Известно тебе, государыня, каков ее род и как в Смоленске в лаптях ходила.
– Жаль мне их, – отвечала Софья, – и без того их Бог убил… А вы как мыслите? – обратилась она к стрельцам.
– Воля твоя, государыня, что изволишь, то и делай, – отвечал Чермный, – а мы рады их всех за тебя хоть в сечку.
– Кузьма правду говорит, – подтвердил Шакловитый, – головки капустные в сечку, патриарха на покой, а бояре что! Отпадшее, зяблое дерево.
– И я то же говорю, – все более и более горячился Чермный, – а допрежь всего надо уходить старую «медведицу».
– А что скажет сынок? – возразил Стрижов.
– Что! А чего и ему спускать? За чем стало? – крикнул Чермный.
– «Медведицу» на рогатину и «медвежонка» туда же! – пояснил Гладкий. – Полно ему с немками на Кукуе на органах и на скрипицах играть.
Из порывистых движений стрельцов, из их речей, переходивших в угрозы, она поняла, что свирепые псы достаточно науськаны и теперь сами пойдут по следу на красного зверя…
«Гробики, гробики», – колотилось у нее в мозгу, когда она отпускала стрельцов: «Два гроба… чьи ж бы это? Один его… А другой?.. Вода не сказала этого Волошке…»








