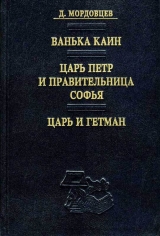
Текст книги "Царь Петр и правительница Софья"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
VI. Триумфальные порты
Азов взят. Торжествующая Москва приготовила триумфальную встречу возвращающимся из похода победоносным войскам. На мосту через Москву-реку устроены триумфальные ворота или, как тогда выражались, «триумфальные порты». Над изукрашенным фронтоном, осеняемым знаменами, пиками, копьями, бердышами и другим оружием, высится массивный двуглавый орел, а над его двумя чубатыми головами красуются три короны, короны всея Руси, Великия, и Малыя, и Белыя. На самом фронтоне крупными, далеко кричащими буквами изображено:
БОГ С НАМИ, НИКТО ЖЕ НА НЫ.
НИКОГДА ЖЕ БЫВАЕМОЕ БЫВАЕТ.
Там же огромная дебелая бабища, изображающая Славу, стоя на одной босой ноге с исполинскими ляшками и другую, такую же икристую, откинув далеко назад, в одной руке держит грубейшей работы лавровый венок величиною в любое колесо, венок, какие теперь можно встретить на могилах кабатчиков, в другой – массивный банный веник, долженствующий изображать собою масличную ветвь. Под этою бабищею литерами в конскую ногу начертано:
ДОСТОИН ДЕЛАТЕЛЬ МЗДЫ СВОЕЯ.
По бокам фронтон поддерживают два огромнейших голых мужика в виде банщиков самой аляповатой работы: один с дубиною в руке, вытесанной из полубруса, другой с каким-то медным чаном на голове. Эти фигуры претендуют изображать из себя Геркулеса и Марса. Под первым намалеван какой-то бородач с головою, завернутою поверху цветным пестрым одеялом, и в широчайших штанах. Это азовский паша в чалме, а под ним два скованных лошадиными цепями турка. Под Марсом такой же татарский мурза в тюбетейке, срисованной с головы казанского татарина, и тоже с двумя скованными татарами.
Над пашою такие вирши, политический памфлет доброго старого времени:
АХ! АЗОВ МЫ ПОТЕРЯЛИ
И ТЕМ БЕДСТВО СЕБЕ ДОСТАЛИ.
А над Мурзою еще великолепнее:
ПРЕЖДЕ НА СТЕПЯХ МЫ РАТОВАЛИСЬ,
НЫНЕ ЖЕ ОТ МОСКВЫ БЕГСТВОМ ЕДВА СПАСАЛИСЬ.
Рядом с Геркулесом намалевана пирамида, а на ней надпись:
В ПОХВАЛУ ПРЕХРАБРЫХ ВОЕВ МОРСКИХ.
Почему Геркулес и «морских»? Аллах ведает. Подле же Марса другая пирамида, и на ней опять надпись:
В ПОХВАЛУ ПРЕХРАБРЫХ ВОЕВ ПОЛЕВЫХ.
Но это еще не все. Пылкая фантазия московского Микеланджело и Рафаэля не знает границ. Московский художник по обеим сторонам «триумфальных портов» выставил на огромных полотнищах две картины, достойные Рафаэля. На одной суздальско – лубочной кистью намазано морское «стражение» с корытами вместо кораблей и тут же трубочист с бороною на голове – это якобы Нептун в зубчатой короне, у которого прямо из пасти вылетают огромные литеры, складывая которые, московские грамотеи читали:
СЕ И A3 ПОЗДРАВЛЯЮ ВЗЯТИЕМ АЗОВА
И ВАМ ПОКОРЯЮСЬ.
На другом полотне охотнорядский маляр изобразил удивительную батальную картину: несчастных татар, с которых валятся головы, как капустные кочни, при одном виде московских воев, и падающие, подобно стенам иерихонским, стены злополучного Азова при виде прехрабрых воев полевых. Все это первые попытки дикаря перенять то, что он видел у «людей», вроде того, как зулус или папуас надевает на голое тело фрак, а голенькая папуаска шляпку. Зато москвичи целыми днями толкались около этой бесовской диковины с разинутыми от удивления ртами.
Настал, наконец, и день вступления в Москву прехрабрых воев, 30 сентября. Начиная от «триумфальных портов», по обе стороны моста выстроились шпалерами войска, остававшиеся в Москве и не участвовавшие в походе, стременные и части стрелецких полков. День выдался хотя свежий, но ясный, и потому вся Москва высыпала из домов, из церквей, монастырей, из царевых кабаков, из охотных, голичных, сундучных, юхотных, лоскутных и бесчисленного множества иных гостиных, калачных и обжорных рядов и линий, ножовых, перинных и иных, им же имена одна Москва ведает. Вывалило население всех слобод и слободок, население Куличек, Чигасов, Таганок, Вшивых горок, население оборванное, нечесанное, оголтелое, дикое, бабы и парни с лотками, с пирогами, квасами, бублейницы, кислощейницы, саешники, сбитеньщики, печеночники – все валило посмотреть на невиданные «триумфальные порты».
Говор среди этой оголтелой толпы шел невообразимый, невероятный, какой только возможен был среди дикого народа, для которого земля на трех китах стоит, а на месяце брат брата вилами колет. Говорили, что самого «султана турского» везут.
– A у салтана, мать моя, сказывают, турьи рога, а сам, мать моя, с копытцами и во эдаких штанищах, во!
– И жену, слышь, тетка, салтанову везут, Пашой – Азовкой прозывается: сказать бы, Пашка, Парасковья. И она, этта Паша, в штанищах тоже, сказывают.
– В штанах! Баба! Что ты, парень, белены что ль облопался, баба в штанах!
– Вот те Микола, баунька, в штаниках.
– А другую бабу везут, татарку, Мурзой дразнят.
– Что ж все баб везут, а не мужиков?
– У них баба не то, что у нас, в штанах: всякому охота посмотреть.
– А там, слышь, на мосту, касатка моя, порты каки-то поставили.
– Каменны, бабка, порты-то, во!
– Кто ж их надевать-то будет, каменны! Срамники! Тьфу!
У самых же «триумфальных портов» толки доходили до колоссальной дикости.
– Ишь ты, на портах-то царский орел, о двух головах.
– Знамо о двух, два царя-то было.
– Что ж! А ноне один…
– Один-то один, да об двух головах, – слышится откуда-то ехидный голос.
– А на орле три шапки.
– Три! Эко диво! У царя их, може, сто есть… это ты свою пропил, так тебе и диво, что у царского орла три шапки.
– А кто ж, братцы, эта девка, что ноги раскарячила, вот срамница!
– Ляшки-то, ляшки, паря! У-у!
– А кто ж она, братцы, эта девка будет?
– Не девка, а баба, слышь: жена турского салтана, Пашой зовут, жена – плясавица, баба простоволоса, видишь, космы-то распустила, бесстыдница.
– А что ж у нее в руках, дядя?
– Должно, голик, а може, веник, в бане париться, видишь? От лихоманки, значит, в баньке париться.
– А в другой руке, дядя, что?
– Да сказать бы, паря, венок, что вон у нас на Куличках девки в семик надевают да на Москву-реку пущают: чей венок зацепится, та девка значит за парня зацепится – замуж выйдет.
– А чтой-то у бабы под ногами написано, братцы?
Из толпы слышится опять ехидный голос, как оказывается, грамотея – раскольника, знакомый голос: мы его слышали несколько лет назад на Онежском озере, на Палеострове, когда он разглагольствовал, что поймал беса в чернильнице и на бесе этом в Иерусалим якобы ездил.
– А написано, православные, – возглашает этот голос и читает по складам, – до – до – сто – ин делатель мзды своея… Это кто порты-то делал.
– Мы, дядя, эти порты ставили! – кричат из толпы костромские плотники.
– Ну вам и мзда! – поясняет ехидный голос.
– А кто ж эти мужики голы будут, дяденька?
– Должно, сам салтан турский.
– А как же, родимый, сказывали, быдто у его рога турьи и сам с копытцами?
– Что вы мелете, православные невегласи! – опять слышится ехидный голос грамотея – раскольника. – Этто не салтаны турецки будут, а идолища, идолы еллински: един идол Пилат, а другой Сократ, а девка простоволоса, этто Иродиада – плясавица.
– И впрямь, братцы, плясавица, ишь как она ногу задрала!
– Камнем бы в ее! Плясать вздумала!
– Не трожь! Не сама пляшет, бес по ляшкам подгоняет.
– А этот-то! Ишь в какой шапище! Это, поди, заплечный мастер: вон у него два скованных бусурмана.
– Да и этот тоже, должно, заплечный мастер: мотри, их в Преображенский поволокут.
– Туда им и дорога.
Особенно же поразили москвичей картины, изображавшие морское сражение и приступы к Азову.
– Ишь лупят из пушек да из пищалей! Важно!
– Здорово жарят, братцы.
– Кто ж кого?
– Знамо, наши – турку.
– А сказывали, милая, этто страшный суд написан, переставленье свету, а этто быдто Ерехоньград, что на пупе земли стоит.
– Эх вы, бабы! – осаживает их плотник. – Вам бы все о пупе, пуп вам снится… А этто сам немчин Виниус, то эти ставили: этто, говорит, Азов – город, а этто наши, мастер галанский сказывал нам, в ту пору как мы порты струги, каку-то турке викторию дают, а кто этта виктория будет, Бог ведает.
– Не виктория этта, милый человек, – перебивает плотника грамотей – раскольник, – видишь, а колеснице по воде едет, а на главе венец царский…
– Этто, галанский немчин сказывал, водяной бог…
– Бог! Эх ты, невеглас! – осадил плотника грамотей. – Бог на небеси един в трех лицах, а то на! Водяной бог!
– Так галанец, дедушка, сказывал: може этто галанский бог… За что купил, за то и продаю, – обидчиво отвечал плотник.
– Эх ты, простота! – возражал грамотей. – Есть гуси галански, печь галанка есть, а богов галанских – этого, братец, не бывывало.
– А как же в Щепном ряду продают суздальских богов, так, може, они и есть галанские.
– Нету галанских, я верно знаю… А это на колеснице царь фараон в Чермном море, вон в церкви поют на глас осьмый: в Чермне море гонителя, мучителя Фараона под водою скрыша… это Фараон потопает в Чермне море: коня и всадника вверже в море…
– Може, оно и так, мы не грамотны.
Не вытерпел и Кирша – стрелец, старый наш знакомый, рослый детина, стоявший фланговым в стрелецкой лаве во фронте.
– А этто, дедушка, что ж написано под елинскими идолами? – спросил он, оборачиваясь к грамотею – раскольнику.
– А написано, милый человек, тако, – отвечал грамотей:
Ах! Азов мы потеряли,
И тем бедство себе достали.
– Кто ж Азов – ат потерял, дедушка? Мне невдомек, – спрашивал Кирша, отличавшийся физическою силою и бестолковостью.
– Да мы ж, человече, потеряли, – был ответ, – так и написано.
– Вот – те и малина! – радостно толкнул Кирша товарища – стрельца. – Слышь, Андрейко? Потешные-то даве хвастали, быдто их братья, семеновцы да преображенцы, добыли Азов – город… А вон, глякось, написано, что они потеряли Азов, как и в прошлыем году.
– Неужто потеряли?
– Как пить дали! Знатно опростоволосились!
– Вот те и бабушка!
Но в это время приставы замахали палками, забегали по рядам, осаживая толпу, нанося удары направо и налево по московским лбам и плечам и свято памятуя мудрое московское изречение: «Москва за тычком не гонится» и «За битого двух небитых дают». Однако несмотря на покладистость москвичей многие из них заохали от начальнических палок, убеждаясь, что иногда и медным лбам бывает больно.
– Едут! Едут! – перекатился ропот по толпе, и все забыли о побитых лбах, и снова поналегли на передних.
Но вот показалась голова триумфального шествия… Как все это было детски наивно, грубо, аляповато! Как не похоже на триумфальные шествия римских победителей, когда за колесницею триумфатора по sacra via (священная дорога) вели скованных царей, какого-нибудь Югурту, а за ними тысячи пленных для растерзания их зверями в Колизее и когда триумфатор вступал не в деревянные, сколоченные костромскими плотниками «порты», размалеванные охрой и суриком, а в великолепные арки из карарского или пентеликского мрамора с художественными мраморными барельефами и со всемирным клеймом власти S. P. Q. R., senatus populusque romanus![10]10
Сенат и народ римский. – Официальная формула, знаменовавшая носителя высшей государственной власти в республиканском Риме.
[Закрыть] Страшное тавро владычества над Вселенною! А тут что-то детское и неизящное:
Ах! Азов мы потеряли,
И тем бедство себе достали…
Но и при всем том много общего было между тем и этим, ибо люди везде и всегда одни. И там за колесницей триумфатора непременно бежал клеветник до самого Капитолия, и здесь шел за процессией до самого Кремля клеветник, грамотей – раскольник Емельянко из Повенца, который подговаривал в Палеостровском монастыре к самосожжению и говорил, что верховные апостолы Петр и Павел ему «сродичи», а сам он ездил на бесе…
Впереди восьмеркою коней цугом волокли раззолоченные сани на колесах, а в санях важно восседал триумфатор, генералиссимус и боярин Алексей Семенович Шеин, сверкая золотым шитьем кафтана и серебряною бородою. Триумфатор скорее походил на икону Миколы-чудотворца, везомую в Чудов монастырь, чем на героя.
За первыми санями волокли вторые, такие же пышные, раззолоченные. В них сидел Лефорт: видно было, что со стыда он готов был сквозь землю провалиться… Так совестно ему было играть дурацкую роль; но что поделаешь с царем! Он такой был охотник до потех с детства, таким и остался.
Но он, этот охотник до потех, умен: он не захотел сам играть дурацкой роли в этой процессии, ибо она напоминала ему картину, как мыши кота хоронят… Он шел пешком за санями Лефорта и не как царь, а как простой капитан Петр Алексеев.
– Батюшки! Гляди-тко! Царь! Сам царь!
– И пеш идет, вот диво! Точно бы ему саней не досталось.
Подходя к самым воротам, царь почувствовал сразу что-то необыкновенное: не то лицо его осветило чем-то, не то обожгло… Он глянул вправо, немножко выше, сердце его, как молот, заколотилось в груди, словно бы он сейчас только взял Азов… За стрелецким рядом повыше стрелецких голов из-за колонны глянуло на него плутовское хорошенькое личико.
«Аннушка!» – чуть не вскрикнул богатырь, но удержался.
Плутовка Аннушка глазами и губами посылала ему поцелуй.
Но в этот момент над головою его раздалась труба. Он невольно вздрогнул и глянул наверх. На самом верху триумфальных портов показался, словно с неба свалился, старичина Виниус, устроитель всего этого торжества, и начал громко дудеть в трубу: он изображал из себя Славу и дудел в трубу хвалительные вирши, поэтическое достоинство которых ничем не отличалось от громких надписей на портах.
– Батюшки! Это бес дудит в дуду! – волновались москвичи.
– Не бес, а скоморох – гудочник.
– Братцы! – обрадовались плотники. – Да это наш галанец, мастер.
– И точно! Ах ты, Господи!
– Матыньки! Архандел трубит!.. Последни денечки пришли…
– Врите больше, бабы!
– Глянь-кось, глянь-кось, братцы! Виселица едет.
– Ай-ай! И впрямь виселица… Кого же вешать будут?
– А вон самого салтана, вишь, сидит в каких ризах и в какой шапке, страх! Копна – копной.
– Матушка Иверска! – невольно воскликнул Кирша – стрелец. – Да это, братцы, наш Якунька, галанец Янышев (Янсен).
– И точно Якушка, что впроголодь к туркам убег… Ах, сердечный! Вот попался.
– Не бегай!.. Поделом вору и мука.
Действительно, позади процессии, на черной телеге высилась громадная виселица, гигантский черный покой, со спускавшеюся вниз веревкой. На верху виселицы на черной доске ярко выступали белые буквы:
ПЕРЕМЕНОЮ ЧЕТЫРЕХ ВЕР БОГУ И ИЗМЕНОЮ
ВОЗБУЖДАЕТ НЕНАВИСТЬ ТУРОК, ХРИСТИАНАМ ЗЛОДЕЙ.
Под виселицей, под этою самою надписью, окованный цепями, сидел бывший голландский матрос Яков Янсен, по-московски Якушка Янышев, прежде состоявший в русской службе, а в прошлом году во время первой осады Азова бежавший к туркам, принявший там магометанство и тогда же много натворивший зла русским: он открыл туркам, что русские в полдень, поевши и выпивши порядком, обыкновенно спят мертвецки, и в это время на них всего удобнее напасть. Турки так и сделали и «много дурна москалям учинили». Теперь по сдаче Азова Петру турки выдали ему и Якушку – перебежчика для злой казни…
Он сидит в чалме… На шее у него веревка, конец которой продет в кольцо виселицы…
Торжествующий первую викторию царь Петр Алексеевич по случаю предстоящих победных празднеств готовит своим подданным в лице пленного Якуньки великолепное зрелище, почище боя гладиаторов, истинно «московское действо»…
VII. Всепьяннейший собор
Грубы были и празднества дикаря, у которого явилась охота стать «человеком» и который решил, что у него все должно быть «как у людей», «как за морем»; но они не были возмутительны эти празднества, а только смешны, как вообще смешон дикарь, надевающий на голое тело фрак.
В переписке этого проснувшегося гения – царя, в письмах к нему его приближенных и менторов, как Лефорт, Виниус, Ромодановский, во всем этом сказывается дикарь, но гениальный при всей его грубости: «Пьян был, и не могу за Бахусом пространно писать»… «Ивашку Хмельницкого поминали» (пьянствовали)… «ехали пьяны и задрались, двух человек зарубили» …«сдеру кожу» (и это буквально)… «высек за дурость» (и это придворный придворного!)… «пили у Ромодановского и стреляли так, что хоромы трещали и одна стена гораздо повыдалась» (каков пир в царские именины)… «Пьяная рожа! (пишет царь Ромодановскому). Зверь! Долго ль тебе людей жечь? Перестань знаться с Ивашкою Хмельницким (пьянствовать): быть от него роже драной» … А Ромодановский отвечает царю: «Неколи мне с Ивашкою знаться, всегда в кровях омываемся (это в застенках, с палачами и жертвами). Ваше дело на досуге, стало, знакомство держать с Ивашкою, а нам недосуг!..» «Доски и канаты привезу в Воронеж (пишет Лефорт царю) и пива доброго и мушкателенвейн… а лекари сошлися вместе, стали пить, всяк стал свое вино хвалить, и учинился у них спор о лекарствах и дошло до шпаг, трое переранены»… И докторов передрали… С любимцами Петр под пьяную и трезвую руку обращается так: Меншикова бьет по лицу до крови, Ромодановского рубит шпагой, с Шеина хочет кожу содрать, Лефорта бросает наземь и топчет ногами… И это все его друзья, его компания…
Приводя массу подобных перлов из переписки державных дикарей, чающих движения западной цивилизации, и их менторов, западных цивилизаторов, – о дранье за неисправность капитанов и лекарей, о драных рожах вельмож, о болезнях с перепою, о досках и веревках, за несвоевременную присылку которых порют персон высокого ранга, почтенный историк С. М. Соловьев справедливо замечает: «Эти люди, члены компании (царской), все тут в своих письмах: болезнь и пир, управа с нерадивыми капитанами, отсылка досок и веревок, и мушкателенвейн, все вместе. Чтоб сохранить этих людей живыми в истории, мумиями, не должно представлять их ни только менторами, ни только собутыльниками».
Нахватавшись верхушек цивилизации, державные и полудержавные дикари чувствуют уже себя «новыми людьми» и бросаются сломя голову в отрицание старины, своего рода нигилизм. Первым русским отрицателем является Петр, а за ним все эти Алексашки, Микитки, Борьки, Федьки. И самые первые нигилистические подвиги их являются в осмеянии старины обряда, внешности. Сущие Базаровы.
И вот после первой виктории, после Азова, нигилисты тотчас же устраивают нигилистические вакханалии, это «всепьяннейший и всешутейший собор».[11]11
М. И. Семеновский оказал большую услугу русской истории, открыв в государственном архиве и опубликовав уставы и церемониалы «всепьяннейших и всешутейших соборов». И замечательно, что уставы эти и церемониалы сочинял сам царь Петр Алексеевич. – Прим. авт.
[Закрыть]
На четвертый день после триумфального входа победителей в Москву созывается «всепьянненейший и всешутейший собор». Соборное заседание происходит в доме Ромодановского, который получает титул «князь-кесаря». Цель собора избрание «всепьяннейшего и всешутейшего патриарха», или «князь-папы».
С раннего утра в дом «князь-кесаря» стали собираться члены «всешутейшего собора», разряженные шутами, балаганными петрушками, арлекинами в дурацких колпаках, архижрецы, суфраганы, архидьяконы, архипопы, архимандриты, архипевчие, все князь-папины служители с козьими рогами, с медвежьими головами, козлиные бороды, ослиные уши.
В соборной зале на возвышении, покрытом красным сукном, уже красовался огромный истукан распухшего от пьянства Бахуса, голова которого вместо лаврового или виноградного венца украшена была сухими листьями махорки. То место, которое на античных статуях прикрывается виноградным листком, у Бахуса прикрыто было листом капусты. В руках у Бахуса были: лук, редька, чеснок, соленый огурец, все, что любит он кушать с похмелья. Бахус посажен был верхом на пивную бочку, краном которой служил огромный фаллос со всеми атрибутами. На ногах у Бахуса были лапти прямо из лапотного ряда. Вокруг бога пьянства стояли жертвенники и висели кадильницы с курящимся фимиамом, просто дымились табачные листы. Кругом на столах огромные чаши, наполненные хмельными напитками.
Против Бахуса возвышался амвон для «предикатора», или проповедника пьянства.
Каждый член собора, входя в палату «конклавии», кланялся Бахусу и приветствовал его молитвою:
– Неподобный отче Бахусе, моли Венеру о нас!
Другие молились Бахусу так:
– Непотребный отче, Ивашка Хмельницкий, моли Купидона о нас!
Потом все чинно занимали места. Когда собрание оказалось в полном составе, архижрецы взяли кадильницы и начали кадить табаком Бахусу, а все прочие, встав с мест, ужасающими голосами в нос запевали «песнь Бахусову»:
Бахусе, пьянейший главоболения,
Бахусе, мерзейший рукотрясения,
Бахусе, пьяным радование,
Бахусе, неистовым пляс велий,
Бахусе, блудницам ликование,
Бахусе, хребтом вихляние,
Бахусе, ногам подъятие,
Бахусе, лядвиям поругание,
Бахусе, верным тошнота,
Бахусе, портов пропитие,
Бахусе пьянейший, моли Венеру о нас!
Алексашка, украшенный козлиного бородою, пел дискантом, а бас Бориса Голицына покрывал все собрание. Сам царь, изображавший архидьякона, «князь-папина жезлоносца», держал в руках самый «жезл», то есть свою излюбленную дубинку, которую он в случае надобности и пускал в ход, но теперь он находился в благодушии и пока еще никого не побил.
На авмон взошел князь-кесарь Ромодановский.
– Отцы и братия! – возгласил он. – Воспев песнь Бахусову, шествуем ныне, по чину пьянственному, ко избранию всепьяннейшаго и всешутейшаго патриарха азовскаго, кого непотребный Бахус указать нам соизволит. Сего ради усердно возопием: Бахусе! Владыко пьянаго живота моего! Дух чревоугодия, празднословия и буйства даждь ми, духа же целомудрия и смиренномудрия отыми от мене!
– Аминь! – заревело собрание.
Начиналась самая процессия. Архижрецы, встав со своих мест, окружили возвышение, на котором Бахус восседал на бочке, и одни из них взяли сосуды с дымящимися в них табачными листьями, другие чаши и сосуды с пьяными напитками, третьи, наконец, подняли на свои плечи самого Бахуса с бочкою и, предшествуемые табачными курениями и сосудами с вином, двинулись на двор, где их встретила ужасная оглушительная музыка, ожидавшая на дворе появления бога пьянства. Воздух огласился неистовым звоном медных тазов и тарелок, оглушительными свистками, шумом и грохотом трещоток – и все это с умыслом, нестройно, дико, бешено, с визгами и кривляниями. В тот же момент, по вестовому звону с Ивана Великого, начался набатный ужасающий трезвон всех московских колоколов, что-то адское, безумное, потому что царь приказал ранее подпоить всех звонарей, а народу на все главные улицы и площади велел выкатить «беремянныя» бочки – сорокоуши с вином, конечно, «зеленым». Процессия двигалась медленно и с каждым шагом толпы, за нею следовавшие, постоянно вырастали. Москва опять вся высыпала из своих домов, кабаков, рядов, линий и закоулков: ее привлекали и невиданное зрелище и водка. Особенно поражал всех Бахус, которого принимали за турецкого бога.
– Это, сказывают, братцы, турецка Иверска, ей турки молебны поют.
– Иверска! Ишь чего выдумал! Али не видишь, что у его…
– Нету, православные, этто турский Махамуд, идол такой, ему же басурмане кланяются.
Адская музыка, адский звон и неистовый радостный рев пьяного народа провожали дикую процессию до самого дома боярина Никиты Моисеевича Зотова, которого прочили во всепьяннейшего и всешутейшего патриарха, или «князь-папу».
Процессия ввалила в большую палату, где должно было произойти самое избрание «князь-папы». Истукан Бахуса вновь поставлен был на возвышении, а против него уже находился на эстраде трон «князь-папы» : трон этот был ничто иное, как прорезной стул.
Собрание вновь затянуло «песнь Бахусову»:
Бахусе, пьянейший главоболения,
Бахусе, мерзейший рукотрясения
и т. д.
За песнью следовало самое избрание. Архижрецы принесли и поставили перед Бахусом избирательный ящик и два лукошка с яйцами, одно с белыми, другое с красными. Яйца заменяли собою избирательные шары и, по мнению тогдашних нигилистов, имели исторический смысл: известна легенда, а может быть, и истина из истории папства, в которой было столько же постыдного, сколько и преступного, что одно время на папском престоле сидела женщина, под именем папы Александра VI. По смерти этой разгульной папессы кардиналы, чтобы не быть вновь одураченными, каждого вновь избираемого папу подвергали осязательному освидетельствованию; тело же носившей при жизни папскую тиару выкрали из гроба и ныне действительно гроб папы Александра VI, находящийся под базиликою Петра, пуст.
Вот этот-то прием освидетельствования папы и был применен теперь при избрании всепьяннейшего и всешутейшего «князь-папы».
Было два кандидата на всешутейшество – князь Борис Алексеевич Голицын, бывший дядька царя и великий пьяница, и Никита Зотов, бывший учитель Петра Алексеевича, тоже любивший выпить, как и вся эта веселая компания.
Первым на трон посадили Зотова и закрыли покрывалом. Затем члены собора, всешутейшие кардиналы, стали подходить к нему… Наконец обряд освидетельствования кончен. То же проделано было и с Борисом Голицыным, а затем приступили к самому избранию. Заправлял всем архидьякон Петр, который каждому подходящему к нему кардиналу клал в правую руку два красных яйца, в левую два белых: красные считались избирательными, белые неизбирательными.
– Краснота знаменует мощь, белизна же немощь.
Избранным оказался Никита Зотов.
– Тако да потемнится свет твой пред человеки и да не видиши ничего же в пьянстве твоем! – возгласил архидьякон.
– Многая лета, многое пьянство! – пели кардиналы.
Поздравив новоизбранного, его тотчас же посадили в огромный ковш и, обнеся три раза «посолон», по-раскольничьи, вокруг чана, наполненного вином, опустили в этот чан. Положение «князь-папы» было критическое: при малейшем движении, ковш мог опрокинуться, и старик погрузился бы в чан.
Тут архидьякон Петр подал ему чару, «князь-папа», рискуя опрокинуться, должен был черпать чарою вино из чана и угощать всех архижрецов и всю братию великой пьянственной обители.
Потом его вынули из чана и возвели на возвышение.
– Пьянство Бахусово да будет с тобою! – возгласил архидьякон.
– Аминь! – отвечало собрание.
– Исповедуеши ли символ пьянства? – спросил новоизбранного архидьякон.
– Исповедую и делом творю, – отвечал князь-папа, – вином, яко лучшим и любезнейшим Бахусовым даром, чрево свое, аки бочку, добре наполняти имам и наполняю тако, яко же иногда и ядем, мимо рта моего носимым, от дрожания моей десницы и предстоящей очесех моих мгле не вижу, и тако всегда творю и учити мне врученных общаюсь, инако же мудрствующия отвергаю и яко чуждых творю, и анафематствую всех пьяноборцев, но, яко же выше рек, творити обещаюсь до скончания живота моего, с помощью нашего Бахуса, в нем же живем, а иногда и с места не двигаемся, и есть ли мы, или нет, не ведаем.
– Аминь! – орало собрание, уже подвыпившее.
Тогда началось рукоположение и облачение новоизбранного.
– Облачается в ризу неведения своего! – возглашает архидьякон.
И на нового папу надевают шутовской наряд. Зотову через плечо вешают флягу, наполненную вином.
– Сердце исполнено вина да будет в тебе!
Возлагают нарукавники:
– Да будут дрожащи руце твои!
Архидьякон вручает «князь-папе» свою дубинку и говорит:
– Дубина Дидана вручается тебе, да разгонявши люди своя!
Тогда подходит верховный жрец, которым на этот раз был генералиссимус Шеин, неся на тарелочке скляницу с мушкателенвейном, и проделывает обряд «винопомазания»; помазывает прежде голову, а после тем же вином обводит круги около глаз, а Петр, исполняя свою обязанность архидьякона, басит:
– Тако да кружится ум твой!
– Аксиос! Аксиос! Аксиос! – ревет собор.
Затем на новопоставленного надевают тиару – дурацкий колпак с погремушками.
– Венец мглы Бахусовой возлагается на главу твою, да не познаеши десницы твоей в пьянстве твоем! – заключает архидьякон.
Наконец «князь-папу» сажают на седалище, на бочку, и дают в руки гигантский кубок, чашу, именуемую «Большого Орла»: папа выпивает сам эту страшную чашу и потом угощает весь собор.
И уже после этого начался настоящий чудовищный пир. Но и в самый разгар вакханалии царь думал о деле. Алексашка, хоть и был пьян, но раньше других заметил, что лицо Петра вдруг начало подергиваться и глаза налились кровью. Зная характер своего повелителя, он собрал всю силу воли и всю свою память, чтобы отрезвить мозг, сознание, чтоб не быть застигнутым врасплох. Так и случилось. Царь, по-видимому, хотел что-то припомнить и не мог. Это начинало приводить его в бешенство.
– Александр! – крикнул он через стол, так что даже пьяные архижрецы и кардиналы вздрогнули. – Что я тебе ноне приказывал?
– Об Якушке Янсене, государь, изволил приказывать, чтоб к колесованию все было готово, – отвечал Меншиков, глядя прямо в глаза царя.
– Не про то! – крикнул Петр и так ударил кулаком по столу, что опрокинул Большого Орла.
Он был страшен. Жилы на лбу вздулись, как веревки. Но Меншиков нашелся.
– Об новой фортеции, государь, приказывал… о Таганроге…
– Да, да, вспомнил….
– Понеже фортуна сквозь нас бежит, – продолжал Меншиков, – и ты, государь, изволил сказать о фортуне: блажен, иже имется за власы ея….
– Так, так… Таганрог там заложу… Молодец Алексашка! Иди, я тебя поцелую… Да, за волосы фортуну, за волосы!..








