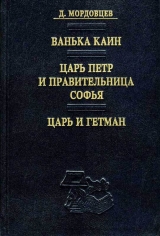
Текст книги "Царь Петр и правительница Софья"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
V. Заговор Хованского
В тот же вечер, в задних хоромах, внутреннее убранство которых при самой богатой обстановке носило на себе печать истовой старины, в хоромах князя Ивана Андреевича Хованского, сидела знакомая уже нам постельница царевны Софьи украинка Федора Родимица и о чем-то по секрету рассказывала хозяину, седому старику с длинной святительской бородой, с иконописным пробором волос и живыми, совсем молодыми черненькими глазками.
– Ну, и как же, Федорушка миленькая? – спрашивал Хованский, поглаживая бороду.
– Да так-то, князюшко: глядим мы это, а она и ведет царя под руку. Что, думаем, за притча? Обедня только началась, а они уж и за шапки. Царевны и говорят: надо узнать, здоров ли молодой царь, что не достоял обедни, бросил брата – покойничка несхороненным. Подь, говорят, Федорушка, спознай, поспрошай – что там. Я и пошла.
– А кто спослал-то тебя? – перебил ее хозяин.
– А спосылала царевна Марфа Алексеевна да Марья. Вот и пошла я. Прихожу. А нянюшка-то царева моя закадычная. Что у вас, говорю, нянюшка, все ли здорово? – Все, говорит, хвалити Бога. – А почто царь – от, говорю, из церкви ушел? – Да так, говорит, тошнит нашего соколика промежду ворон: не хочу, говорит, слышать, как чернички воют, да и ножки, говорит, устали и есть, говорит, хочу. А уж коли он что у нас заладит, так вынь да положь. Теперь он покушал маленько, да на одной ножке скачет и велит за собой на одной ножке скакать и князю Борису Алексеевичу, а коли, говорит, не догонишь, кнутом высеку.
Хованский только головой покачал.
– Ну чадушко растет, – сказал он задумчиво, – ну и что же дальше, Федорушка?
– Дальше что, князюшка? Да час от часу не легче. Кончилась это служба, воротились все с похорон, а царевна моя золотая, Софья Алексеевна, так убита, так убита, что и сказать нельзя. За кого, говорит, нас принимают? Мы ровно их холопы, а не царской крови: не хотели вон и царя-то своего, нашего брата Федюшку, похоронить как след. Спосылаем, говорит, к ней-то, к «медведице», с выговором. Потолковали – потолковали промеж себя царевны все, и сестры и тетки, и спосылают игуменью на тамошню половину с выговором: хорош-де братец! Не мог дождаться погребения царя. А «медведица» и одыбься: царь, говорит, дитя малое – долго не ело, да и ножки притомило. А братец-то ее, Ивашка Нарышкин, что недавно колодником был, так и совсем крикнул: кто умер, тот пускай-де и лежит, а царское величество не умер, жив и здоров. Так и отрезал!
– Каков щенок! – возмутился Хованский. – Погоди, Иванушка… рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.
В это время в дверях послышался кашель, и в комнату вошли новые гости. Один из них был белокурый и статный, с серыми, как бы стоячими глазами, другой – черный, бородатый, сутоловатый.
– А, блаженни мужие, иже не идут на совет нечестивых, – приветствовал их хозяин.
Вошедшие были стрелецкие полуполковники Цыклер и Озеров. Поздоровались.
– Ну что хорошего скажете? – спросил Хованский, усаживая гостей.
– У нас ничего, князь, хорошего не повелось: може, у вас хорошее водится, – загадочно отвечал Цыклер.
– У нас то хорошо, что худо, – не менее загадочно отвечал Хованский.
– Как так?
– А вот как: нет денег перед деньгами, а худо перед хорошим.
– Так худо, сказать бы, – мать хороша?
– Истинно: чем хуже, тем лучше.
– Так, стало, худо на «верху» перед хорошим?
– Истинно.
– Ну загадки же ты, князь, загинаешь.
– А ты отгадывай.
– Что тут отгадывать! Вон ноне царевна Софья Алексеевна на весь мир плакалась.
– Что же! Она права: промахнулись вы с выбором-то.
– Какой наш промах! Мы стояли далече: нас бояре и перекричали.
– Эх, Иван! Умный ты человек, а не дело говоришь: коли бы ваши полковники не стакались с боярами, так стрельцов бы никому не перекричать. У стрельца-то, сам горазд знаешь, две глотки, два языка: устал тот, что во рту, так заговорит тот, что в руке, железный. А вы, словно красные девки, в рукав шушукали. Ну и не выгорело, а теперь всему государству поруха, а стрельцам от полковников теснота, и то ваша вина.
– Что же, княже, мы свою вину на невину повернуть можем, – сказал Озеров мрачно.
– А коим это способом? – лукаво спросил Хованский.
– Да по твоему же лекалу, – нехотя отвечал стрелец.
– А како тако мое лекало, миленький? – продолжал Хованский.
– Да матушку Худу забеременеть заставим.
– Ловко сказано! – не вытерпел Цыклер.
– И матушка Худа зачнет во чреве своем младенца Хорошу? – улыбнулся хитрый князь.
– Точно, зачнет и родит, – по-прежнему угрюмо отвечал Озеров.
– А кто же повитухой будет? – дразнил Хованский.
– Кому же, как не царевне Софье Алексеевне.
– А князюшка крестным будет? – в свою очередь улыбнулся хитрый немчин.
– Буду, буду, миленький, и ризки знатны припасу, – шутил Хованский.
– А у меня уж и на зубок новорожденной припасено, – вмешалась в разговор Родимица, до этой поры молчавшая, и тряхнула лежавшей около нее тяжелой кисой.
– Ай да Федора Семеновна! – воскликнул Хованский. – Ай да гетман – баба! Тебе бы быть не постельницей, а думным дьяком: ты и дьяка Украинцева за пояс заткнешь.
Потом, обратясь к Цыклеру и Озерову, он заговорил другим тоном:
– Да, худо, худо… Вы сами видите теперь, в каком вы у бояр тяжком ярме… Волы подъяремные! А кого царем выбрали? Стрелецкого сына по матери!
– Что ж, княже! – вспыхнул Цыклер. – А чем стрельцы не люди!
– Не кипятись, Иванушка, – ласково заговорил Хованский, – я не порочу стрельцов, а ты сам ведаешь, что мать нового царя не царского роду и не княжего, а простая стрельчиха.
– И это не порок, – возразил Цыклер.
– Верно, Иванушка, не порок, да ведь царевич-то Иван повыше семенем-то будет Петра, да он же и старший брат.
– Это что, тут точно что чечевичной похлебкой пахнет.
– Именно чечевичной… так я, милые мои, к тому веду: вот увидите, что напредки вам не токма что денег и корму давать не будут, а и вас и семя ваше изведут – зашлют вас и сынов ваших в тяжкие работы, отдадут вас в неволю чужеземным государям, позагонят вас, куда ворон и костей не заносит… Помните Чигирин?
– Помним, – мрачно отвечали стрельцы.
– То-то же. А без вас Москва пропадет, будут плакать по своим ладам милым жены стрелецкие… А тем временем и веру православную искоренят…
– Как у нас на Украине ляхи, – вставила Родимица.
– Да оно к тому и идет – продолжал Хованский, разгорячась, – вон ноне с польским королем вечный мир постановили по Поляновскому договору! От Смоленска отреклись…
– И наш Киев ляхам отдают, – вставила опять Родимица.
– Не быть этому! – сердито ударил по столу Озеров. – Печерские угодники наши – ста!
– Так, други мои! – возвышал голос Хованский. – Теперь пусть Бог благословит нас защищать Русь – матушку: не то что саблями да ножами, зубами будем кусаться!
– А зубы для такого дела позолотим вот этим! – добавила Родимица и вытряхнула на стол кучу золота. – Это царевна Софья Алексеевна шлет стрельцам свое жалованье, свои сиротские…
Хованский встал и начал ходить по комнате. Потом, подойдя к стоявшему в переднем углу аналою, на котором лежали евангелие и крест, он задумался.
– С чего же мы почин учиним? – спросил он после небольшого раздумья.
– Да прямо с бояр, – отвечал Цыклер.
– Бояр на закуску, – процедил Озеров.
– А с кого же, миленький? – глянул на него Хованский.
– С наших лиходеев, – был ответ.
– А! Мекаю, со стрелецких полковничков? С Карандея, с Сеньки Грибоедова? – С их.
Хованский снова задумался, опершись рукой на аналой. Потом, как бы решившись на что-то, направился к двери, ведущей в прихожую палату.
– Погодите малость, други, – сказал он на ходу.
Через несколько секунд он воротился.
– Приступим, – сказал он, – со страхом Божиим и верою приступим… Встаньте, подьте сюда.
Он подошел к аналою. Встали и подошли туда же Цыклер, Озеров и Родимица.
– Зрите сие? – указал Хованский на крест и евангелие.
– Видим, бачим, – отвечали все трое.
– Се крест Христов животворящий и святое евангелие, слово Божие, – продолжал старый князь торжественно, – аще кто ломает крестное целование, того убивает сей крест и все муки геенские насылает на поломщика крестной клятвы в сей жизни и в будущей. А муки сии суть сицевыя: трясение Каиново, Иудино на осине удавление, Святополка окаянного в пустыне, между чехи и ляхи и межи звери дикии, во ужасе шатание, гнусной плоти его землею непринятие, змеями и аспидами выи его удушение, во аде огнь неугасимый, червь невсыпущий, лизание горячей сковороды языком клятвопреступным и иные муки, языку человеческому неизглаголанныя… Ведаете вы сие?
– Знаем, ведаем, – был глухой ответ.
– И целуете крест на том, что я вам поведаю?
– Целуем.
– И тайны моей и вашей не выдадите?
– Не выдадим.
– Под кнутом, в застенке, на виске, на дыбе, на огне, на спицах, на колу, на плахе, на колесе, под топором не скажете?
– Скорее языки свои сами себе выкусим и выплюнем в снедь собакам, – страстно сказал Цыклер.
– Добро-ста, – тяжело вздохнул Хованский.
Он опять задумался. В старой голове его мелькал лукавый образ Шуйского… «Отчего и мне не сесть на том месте, на коем он, худородный, сидел? Что Шуйские? Что махонькая Шуя? Наш род главнее… За плечами наших отцов и дедов целая Хованщина… Только уж мне не доведется сложить свою седую голову в полону у поляков, как он сложил, а лягу я в Архангельском…»
– Добро-ста! – повторил он с силою. – Поднимайте руки, слагайте персты истово, вот так!
Те подняли руки. Рука Родимицы поднялась выше всех.
– Чтите за мною, – глухо проговорил Хованский.
– Знаем – ста, не впервой, – как бы огрызнулся Цыклер.
– Аз раб Божий, имя рек, – возгласил Хованский, – страшною клятвою клянусь, яко-то: небом и землею, пресветлым раем и гееною огненною, клянусь всемогущим Богом, пред святым его евангелием и животворящим крестом Христовым…
Все разом вздрогнули… Послышался резкий треск, словно бы крыша над домом рухнула, потом еще и еще, и гром глухо прокатился в отдалении…
– Свят-свят-свят, Господь Саваоф, – растерянно крестились заговорщики.
– С нами Бог… это первый гром…
– Небо, кажись, раскололося…
После первого момента испуга все пришли в себя.
– Бог дождику посылает.
– Для пахоты оно в самую пору.
– А ежели это к худу? Може, Бог – от нам знамение посылает, – недоверчиво проговорил Озеров.
– Для чего нам к худу? – возразил Хованский. – Вся Москва слышала сей глагол Божий.
– И точно, не мы одни.
Хованский возобновил прерванную присягу. Все снова подняли руки.
– Обещаю и клянусь всемогущим Богом пред святым его евангелием и животворящим крестом Христовым сложить голову мою за правое дело, во славу всея Руси, и что по сей клятве укажет творити раб божий Иоанн, княж сын Андреев князь Хованский, и те его указы исполнить свято, ничтоже прекословя, ниже мудрствуя лукаво…
– А в чем те указы будут, в какой силе? – перебил его Цыклер.
– Допрежь целуй крест, тогда и силу моих указов уведаешь, – отвечал Хованский.
– А коли они будут против моей совести? – настаивал Цыклер.
– Тогда вольно тебе не исполнять их, но токмо хранить тайну обо всем, что ты ноне, после крестного целования, от меня уведаешь.
– Добро, – согласился Цыклер, – клянуся сохранить твою тайну.
– А вы? – спросил Хованский Озерова и Родимицу.
– И мы клянемся, – был ответ.
Между тем удары грома слышались все чаще и чаще. Земля, казалось, дрожала в своем основании, а в щели ставней перед каждым ударом виднелось, как пылало все небо и, казалось, само оно колыхалось, как громадная огненная пелена.
– Клянитесь же! – продолжал Хованский.
– Клянемся! – повторяли заговорщики под удары грома.
– Аще же я, имя рек, клянусь о сем ложно, то да буду отлучен от святыя и единосущныя Троицы и в сем веце и в будущем, и да не имам вовеки прощения, но да трясусь вечным трясением, яко Дафана и Авирона, и да восприиму проказу Гиезиеву, удавление Иудино и смерть Анания и Сапфиры, и часть моя да будет с проклятыми диаволы…
Что-то внушительное и страшное слышалось в этих словах, произносимых глухим голосом под раскаты грома. Казалось, сама природа предвещала что-то роковое для заговорщиков…
VI. Стрельцы начали
Благодатная гроза и дождь как из ведра оживили всю природу. Не по дням, а, казалось, по часам Москва убиралась в зелень площадей и в цвет садов и огородов. Но этой свежей зелени скоро пришлось окраситься кровью… Утром 15 мая, в день убиения царевича Димитрия в Угличе, по улицам стрелецкой слободы скакали два всадника и громкими криками оглашали утренний воздух. Москва в это время только что просыпалась. Удары лошадиных копыт об сухую землю гулко разносились в воздухе.
– Помогите на супостатов, православные! Ивана – царевича не стало!
– Царевича Ивана задушили Нарышкины и хотят вас, стрельцов, извести! – раздавались возгласы вместе с топотом копыт.
– Идите, православные, в Кремль спасать царское семя!
К этим крикам присоединился еще какой-то дикий, странный плач.
– О-о-о! Православные! О-о-о, людцы Божии!
Налетели вороны, налетели черные
По людскую кровушку, по стрелецкия головушки,
А стрельчихам плакати, плакати,
А стрельчата сироты, сироты…
Испуганные стрельчихи, доившие коров, выбегали на улицы и подымали вой. А в гулком воздухе не умолкали зловещие крики…
– Помогите! Царевича Ивана задушили!
– Боронитесь, стрельцы! Бояре на вас идут!
– О-о-о, людцы Божии! О-о-о, мои детушки!
У воронов черныих, воронов
По самыя плечи крылья в кровушке,
По самыя очи клювы в аленькой,
Во кровушке во стрелецкоей…
Это плачет, волочась по улице, Агапушка – юродивый: он никогда даром не плакивал, и всегда к худу.
Стрельцы, и без того уже настроенные на смуту, бросаются к оружию и бьют сполох – набат. Нестройные толпы их валят в город. Слышатся угрозы, проклятия…
– Удушили! До нас добираются! Вот мы их!
– Кто удушил?
– Нарышкины, царская роденька.
– Онамедни, сказывают, Нарышкин Ивашка надевал на себя царскую диодиму, садился на трон, на чертожное место, примеривал венец царский и скифетро в руки брал и золотое яблоко.
– Как и скифетро брал? И венец?
– Брал и вздевал на себя: мне – ста, говорит, лучше идет царский венец, нечем кому другому прочему.
– Что ты! Аль и впрямь он взбесился!
– И точно взбесился… А как стали его корить царица Марфа да царевич Иван, так он как кинется на царевича и тут же бы удушил его, коли б не отняли. А вот же не отняли, удушил.
В городе также заметно было сильное волнение. Бояре спешили в Кремль, по улицам неслись колымаги, кареты, скакали всадники.
Стрельцы надвигались тучей. Они прошли уже Земляной город и вступали в Белый. Во главе их выступали Цыклер, Озеров, Одинцов Борька, да Петров Оброська, да Кузьма Чермный.
Мимо стрельцов на взмыленных конях пронеслись по направлению к Кремлю три всадника и наскаку бросали на головы стрельцов какие-то листки…
– Список изменников! Список изводчиков царского семени! – кричали стрельцы, хватая листки.
В числе скакавших и разбрасывавших листки некоторые узнали Сумбулова. Накануне стрельцы, державшие караулы во дворце, видели, как он поздно возвращался с половины царевны Софьи Алексеевны. Говорили, что он ходит туда на свидание со своей невестой, молоденькой постельницей царевны, Меласею, которую они с думным дворянином Сухотиным, бывшим послом в Крыму, вывезли из татарского полону и которую царевна Софья взяла к себе в постельницы, в науку к опытной Родимице.
Между тем в городе и в Кремле ударили сполох. Набатный звон всегда имеет что-то возбуждающее, подмывающее; никакой барабанный бой не может с ним сравняться: в нем звучит всегда что-то страшное, доводящее до безумия, до остервенения; с говором церковных колоколов, с этим торопливым, нестройным, отчаянным, нервным криком металлических глоток всегда связывается представление о пожарах, о бунтах, о резне. Набатная колокольная музыка всегда повергала Москву в трепет, в обезумливающий страх или вызывала безумную, заразительную, слепую ярость… Это сам Бог кричит медными гласы, это архангелы трубят в иерихонские трубы… Под эту музыку люди превращаются в зверей: ими овладевает или животный ужас, или животное неистовство, что и в том, и в другом случае равносильно безумию, бешенству… Стрельцы обезумели, осатанели, почти сами не сознавая отчего…
– Давайте сюда губителей царских! Подавай аспидов!
– Нарышкиных, Нарышкиных на копья! Нарышкины задушили царевича!
– Подавайте изменников, а не то всех предадим смерти.
Они сами не знали, к кому кричали, у кого требовали выдачи каких-то изменников. Они кричали на воздух, в небесное пространство, и толпами валили к Кремлю, вторя набатному звону неистовым барабанным боем и неистовыми криками.
Вот они уже в Кремле. Словно плотина прорвалась и наполнила кремлевскую площадь, где перед дворцом стояло множество боярских карет и колымаг.
– Секи, руби боярское добро, боярских коней, боярских холопей!
– Коли удушников царских!
Кареты разбиты, поломаны в куски, позументы и сукна оборваны, топчутся ногами, вздеваются на копья. Лошадям переломаны ноги, кучера и холопы валяются в крови. Барабанный бой и набатный звон не умолкают. Стоны раненых, ржанье искалеченных коней и с каждым моментом возрастающие крики.
– Давайте губителей! Подавайте удушников царских!
Во дворце точно все вымерло. Ни лица, ни звука. Только в одном из верхних окон виднеется зловеще улыбающееся лицо Родимицы, а за нею бледное, как полотно, испуганное личико Меласи…
Родимица кому-то кивает головой. Ей из толпы, беснующейся внизу, незаметно кланяется Цыклер. И Сумбулов не сводит своих черных глаз с того же окна; но он смотрит не на Родимицу: его взор впился в то испуганное личико, которое когда-то, в Крыму, на невольничьем рынке в Козлове, робко глядело на него из-под белой чадры…
Неистовые крики переходят в какой-то рев и вой.
– Идем на «верх»! Добудем злодеев во дворце!
– На копье дворец! На копье!
А во дворце все та же мертвая тишина и то же зловещее лицо Родимицы.
– Смотри, братцы, вон киевская ведьма глядит в окошко! – кричит кто-то.
– Из пищали в нее пали, из пищали!
– Стой! – бешено кричит Цыклер. – Это наша, это Родимица.
А дворец все так же нем, как могила. Стрельцы врываются на ступени Красного крыльца.
Вдруг на верху крыльца в дворцовых дверях показались какие-то привидения. Испуганные стрельцы отшатнулись назад.
Им представилось, что это дьявольское наваждение…
На верху крыльца стоял мертвый, удушенный царевич!
Тот же болезненный вид, то же худое лицо, слезящиеся глаза… Из гроба встал удавленник!
Рядом с ним стояла высокая, суровая женщина и держала его за руку. За другую ее руку держался маленький царь Петр. За ними выступал патриарх, за ним ближние бояре.
Вся площадь, казалось, окаменела от страху… Удушенный царевич на крыльце… Дьявольское наваждение!..
Нет, он стоит и глядит на всех моргающими, слезящимися глазами. Да он ли это? Не подменили ли кем?
– Это подвох! Царевича подменили!
– Тащи лестницу! Ставь к крыльцу!
– Полезай, братцы, на лестницу: може, это не царевич.
Несколько стрельцов карабкаются на лестницу и вступают на Красное крыльцо. Они в недоумении и страхе: перед ними действительно царевич Иван, которого они считали задушенным… Да полно, он ли это? Надо спросить… А страшно…
– Гм… точно ли ты царевич Иван Алексеевич?
– Да, я точно царевич Иван Алексеевич.
– Как же нам сказывали, что тебя извели злодеи?
– Нет, я жив, и никто меня не изводил, и ни на кого я не жалуюсь.
Стрельцы растерянно глянули на царицу. Она стояла, как мраморная… «Истукан, идол мраморян» … Глянули на царя: холодные глаза его мечут искры…
Внизу глубокое смущение, точно вся площадь дрогнула от стыда: и стыдно, и досадно. Цыклер, Озеров и Сумбулов, бледные и дрожащие, хотят затереться в толпе. Но в окне из-за лица Родимицы показывается лицо царевны Софьи, грозное, решительное. Она делает знаки, показывая вниз на бояр.
– Царевич жив! На царство его! – в мертвой тишине раздается голос Сумбулова.
Это была искра, брошенная в порох. С разных сторон послышались крики:
– Пущай молодой царик отдаст скифетро старшему брату!
– Старшему брату скифетро и яблоко!
– Подайте нам тех, кто у него скифетро отнял!
– Подайте Нарышкиных! Мы весь корень их истребим!
– Нарышкиных! Нарышкиных! Они наши недоброхоты!
– А царицу Наталью в монастырь! Пущай молится!
Юный Петр весь задрожал при последних словах. В лице и в глазах его сказалось что-то такое, что потом, лет через пятнадцать, стрельцы видели в этих огненных глазах в те моменты, когда он собственноручно рубил их головы…
«Я вам припомню это! Подождите!» – вот что говорили эти глаза.
В этот момент на крыльце показался высокий, благообразный старик с длинною седою бородой, отдававшей желтизной, и с ласковыми, ясными не по летам глазами. Он медленно сходил вниз к стрельцам. Все узнали в нем боярина Матвеева, Артамона Сергеевича. Да и кто не знал его ума, доброты, честности! Кто не помнит, что сделала для него Москва еще при царе Алексее Михайловиче, когда Матвеев задумал строить себе дом, но не находил камня для фундамента? Народ пришел к нему толпою и поклонился ему камнем на целый дом. Матвеев отказался: он хотел не даром взять камень, а купить. «Ни за какие деньги!» – отвечали москвичи. Но на другой день привезли к нему плиты, собранные с могил, и сказали: «Вот камни с гробов отцов и дедов наших, их мы не продадим ни за какие деньги, а дарим тебе, нашему благодетелю». Узнав об этом, тишайший царь сказал старику: «Прими, друг мой: видно, что они любят тебя. Я бы сам охотно принял такой подарок».
Так вот этот старик сходил теперь с Красного крыльца. Только третьего дня он воротился в Москву из ссылки, где томился по проискам своих врагов.
– Радость неизреченная! – говорила царица Наталья, когда он из ссылки явился прямо во дворец. – Такая радость, что никакое человеческое писало по достоянию исписати сего не возможет.
Матвеев сходил с крыльца, чтобы успокоить стрельцов, вразумить.
– Братия, и други мои, и дети! Послушайте меня, старика! – начал он дрожащим голосом. – Что вы делаете? Почто такое шумство затеваете? Кто посеял в вас смуту и шатание? Опомнитесь! Вспомяните ваши заслуги, вашу кровь, ваши раны! За кого вы проливали кровь, за что? За церкви Божии, за святую Русь, за тишину и благоденствие. Вспомните, чадца моя, не вы ли помогали нам укрощать мятежи и бунты? А теперь не вы ли собственным мятежом и шумством ни во что обращаете старые подвиги ваши.
Тихо, покорно стояли стрельцы. Никто не смел поднять глаз. Напрасно Хованский из-за спины патриарха делал им знаки, чтобы они бросились на старика и растерзали его: стрельцы не поднимали глаз и не видели этих знаков. Им стыдно стало.
– Прости нас, отец родной, – кланялись передние, – заступись за нас перед царем, не дай нас в обиду нашим лиходеям, полковникам да боярам.
– Не оставь нас, кормилец: мы твои дети.
– Добро, добро, детки мои, сделаю для вас.
Робко и стыдливо кланяясь, отступали стрельцы от Красного крыльца. Миновала буря…
Царевна Софья, стоя у окна, в бессильной злобе грызла крупный жемчуг своего ожерелья и выплевывала словно подсолнечную шелуху… Ее дело не выгорело… Цыклер зеленел от злобы…
Но старая лиса не растерялась. Хованский шепнул князю Михайле Юрьевичу Долгорукому, за болезнью отца заправлявшему стрелецким приказом.
– Ты что ж, князь Михайло Юрьевич, не прикрикнешь на своих молодцов? Они, кажись, и знать тебя не хотят…
Дурак попался на удочку. Он сбежал с крыльца и накинулся на смущенных стрельцов.
– Вон отселева, сволочь этакая. Шумство затеваете! Да я вас всех перепорю, и детям и внукам закажете бунтовать! Долой с глаз, неумытые!
Все пропало. Ничто не могло так взорвать стрельцов, как окрик человека, которого они презирали, которого знать не хотели…
– А! Неумытые! – зарычали передние. – Так мы тебя самого умоем рудою! Вот же тебе, вот тебе! Умывайся, купайся в своей руде!
Долгорукий бросился было назад, но его схватили и, как сноп, сбросили вниз на подставленные копья. Там бердышами изрубили его в куски.
Это было делом одной минуты. Софья, видевшая эту кровавую сцену, радостно вскрикнула.
«Начинается! Начинается!» – колотилось у нее на сердце.
Действительно, начиналось. Первая кровь опьянила стрельцов, помутила им свет в глазах. И они моментально опять превращаются в зверей.
В тот момент, когда одни внизу крошили обезображенный труп Долгорукого, другие из сеней Грановитой палаты ворвались на самое крыльцо и, увидав, что старик Матвеев и князь Михайло Алегукович Черкасский бросились было отнимать Долгорукого, с криком накинулись на Матвеева.
– А! И ты за него! И ты того же захотел!
Матвеев схватил было под руку маленького царя, чтоб этой близостью к державному отроку сделать себя неприкосновенным, но стрельцы с криками «Не трожь царя!» вырвали из рук его это единственное прибежище и повалили старика на пол. Желая спасти бедного старца, князь Черкасский упал на него, прикрыв его своим телом…
– Меня убейте, но его седины пощадите! – молил он.
– И тебя убьем, и его! – кричали охрипшие глотки.
– Тащи старого черта! Он похвалялся извести нас!
– На копья его, старого!
В воздухе беспомощно заболтали руки и ноги старика, засверкала на солнце седая голова, послышался стон, женский крик, и грузное тело старца полетело с высокого крыльца на мостовую.
– Батюшки светы! И нас, царей, перебьют!
Царица, схватив сына, с ужасом бежала в Грановитую палату.
– Руби его, мельче, мельче секи!
Эти крики неслись с площади, где рубили на части тело Матвеева.
– Секи, что капусту! А то он, как змея, оживет!
– Не оживет до трубы страшной…
Бледный, с трясущеюся нижнею губою патриарх стал было сходить с крыльца, но ему закричали:
– Не ходи! Не нужно нам ни от кого советов!
– Нам пришло время разбирать, кто нам надобен!
Выставив вперед копья наперевес, стрельцы ринулись вверх. Патриарх, князья, бояре, дьяки, думные, стольники – в момент все исчезло. Одна только царевна Софья торжествующими глазами смотрела из окна. За плечами ее стояла трепещущая Мелася и не замечала, как слезы текли по ее бледным щекам… Таких ужасов она и в Крыму не видала.
У воронов черныих, воронов
По самыя плечи крылья в кровушке,
По самыя очи клювы в аленькой…
Это сидел около трупа Долгорукого Агапушка – юродивый и, приставляя разрубленные члены мертвого один к другому, сшивал их дратвою и скрипучим голосом причитал свою песню.
– К батюшке поволоку сынка, к батюшке…
А стрельчихам плакати, плакати,
А стрельчата сироты, сироты…








