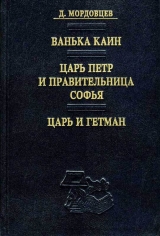
Текст книги "Царь Петр и правительница Софья"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
VIII. Женщины терема
Что же делала молодая царица, Евдокия Феодоровна, тотчас после венца ставшая «соломенною вдовою», что делала она в то время, когда ее благоверный тешился со свой компанией? Она сидела в Преображенском и прислушивалась к неистовому звону колоколов всех московских церквей, а сердце ее ныло, ныло.
Теперь она сидит в дворцовом саду села Преображенского и греется на солнышке, которое все более и более идет на зиму, на мороз, как и ее горькая жизнь – жизнь замужней вдовы. Давно повернула на зиму ее жизнь, с самого венца, и вот уже седьмой год она ничего не чувствует на сердце, кроме зимнего холода и горечи. Около нее на песке играет ее сын, царевич Алешенька, сын того, что теперь пирует со своими друзьями, такой же, как и мать его, горький ребенок, покинутый отцом. Ребенку уже шестой год пошел, и хотя он тянется в рост, в батюшку, но смотрит таким худеньким, хилым: нет в нем батюшкина огня, а скорее видна матушкина мягкость. Рядом с царицей на скамейке сидит царевна Марфа Алексеевна и тоже, по-видимому, прислушивается к звону колоколов.
Грустно в саду. Наступающая осень уже наложила на него холодную руку. Листья на деревьях выцветают, желтеют, а если иные и горят осенним пурпуром, то пурпур этот так напоминает румянец чахоточного. Отживает зелень, покрывается желтизной, словно лицо отживающего человека. Опадающие с деревьев желтые листочки точно последние бабочки кружатся в воздухе и тихо, беззвучно спускаются на землю, усыпая собою красноватые дорожки сада. Да, грустно в саду, тихо. Но еще более грустною кажется эта тишина, это уединение, когда издали доносятся неистовые звуки буйной жизни, нестройный говор захлебывающихся колоколов.
Там весело, а здесь…
Царевна Марфа глянула украдкой на невестку и вздохнула. Та сидела грустная, задумчивая.
– А был у тебя, сестрица, сокол – от твой? – спросила ее царевна.
– Нету, сестрица, не был, – тихо отвечала та.
– Ах он изверг! – в негодовании говорила Марфа. – Да где ему! Когда ему с женой возжаться! У той, сказывают, всю ночь провел…
Царица видимо побледнела, но ничего не сказала.
– А сколько гостинцев навез ей! Каки ковры да шали турецки да персидски! Так и завалил суку гостинцами.
– Кто? Батя? – спросил вдруг маленький царевич, отрываясь от кучи песка, из которого он строил какую-то пещерку. – Батя привез гостинцев?
– Да, соколик, он, – отвечала Марфа.
– А кому, тетя? – допытывался мальчик, который очень любил собак. – Где эта сука?
– В Немецкой слободке, – улыбнулась царевна.
– А как ее зовут?
– Анкой.
– А хорошая она, тетя? Большая?
– Нет, соколик, не хорошая, паршивая.
– Ах, бедная… Вон у меня была тоже паршивая Змейка, так ее конюх Юрка из поганой пищали застрелил, – болтал ребенок.
– И добро, соколик! – смеялась Марфа. – И эту бы пора застрелить из поганой пищали.
Царевич опять погрузился в сооружение пещерки из песка. Опять тихо кругом, только из Москвы доносится набатный звон, да в чаще сада иногда пропищит та осенняя птичка, которая предвещает холод и которую поэтому называют холоднушкой или ивашечком.
Наступило тягостное молчание. Царевна Марфа, видимо, желала бы прервать его, но как? С чего? Опять о соколе…
– А что ты, царевич, делаешь? – спросила она наконец.
– Келейку себе делаю, тетя, – отвечал ребенок.
– Аль в монастырь собрался?
– В монастырь, к тете Соне.
– Ну так! В Новодевичий-то? Да ведь ты не девка… Али царем не хочешь быть?
– Не хочу.
– И святое дело, соколик. Лучше в келейке молиться, нечем батюшковым-то обычаем царство мутить.
И опять молчали собеседницы. Да и о чем говорить им, тюремным заключенницам? Судачить про то, что делают другие на воле, на вольном свету? Да и это надоест… Все сидеть да сидеть в постылом терему да вышивать золотом «воздухи» на престолы по церквам, да орари дьяконам, да поясы попам, видеть только монашек да юродивых, знать только терем, да церковь, да сенных девушек… Да и те счастливее, могут вырваться в город, людей посмотреть…
Горько! Горька тюремная жизнь… А молодая кровь ключом бьет, в щеки вступает, спать не дает… А он-то гуляет на стороне – и знать ее не хочет. Да она уж и не любит его, обида только гложет душу. Вырваться бы отсюда, из этой тюрьмы: лучше быть простой оладейницей, простой бабой на воле, чем царицей…
И ей постоянно вспоминается горькая песня царевны Ксении Борисовны Годуновой:
Ино охте мне молоды горевати,
Как мне в темну келью ступати!
Отворити будет темна келья,
Темна келья младой отворити,
На добрых молодцов посмотрити…
Нет, не смотреть уж ей на них… Видела она одного, Глебова, уже пожилого, а как глянул он на нее, так сердце ее и улетело к нему и кукует по нем горькою кукушечкою… Да что о нем думать! Только душу надрывать… Вот ей, царевне Марфушке, легче живется, хоть она и в девках осталась: ей вольнее и выходить, и видеть, кого она любит… А любит она, царице это хорошо ведомо, любит она того сладкогласого дьякона, Иванушку Гавриловича. На что ей муж, коли у нее есть полюбовник.
– А давно, Марфуша, видела ты сестрицу, царевну Софью Алексеевну? – прервала она, наконец, тягостное молчание.
– Онамедни была у нее, сестрица.
– Что она, как?
– Томится, бедная, ведь ей из монастыря ни на шаг: у ворот караул несменный. Седеть начала. Да и по князь – Василее тоскует.
– По Голицыне?
– По нем… любились ведь они, сестрица, сколько годов любились.
– А что он? Где?
– Да все там же, куда и ворон костей не заносит: не то в Пустозерске, не то в Мезни; и по тебе Софьюшка горюет: изведет он ее, говорит, изведет… Это твой-то… И сыночка, говорит, изведет… Хочется ему-де после себя немецкое семя оставить от суки Анки.
Бледность опять покрыла несколько ожившие щеки молодой царицы. Испуганно посмотрела она на своего сына и, подойдя к нему, припала лицом к его курчавой головке и заплакала.
– Бедный ты, мой сиротинушка… при отце, при матери сиротка!
Ребенок тоже заплакал.
В это время в саду показалась старая мамка царицы, а за нею высокий старик с длинными, как у женщины, седыми волосами и такою же до пояса бородою. Это был тот фанатик, которого мы видели уже на Палеострове, на Онежском озере, когда он проповедывал раскольникам самосожжение.
– Вот я вам и Божья человека привела, – добродушно говорила мамушка.
Гость смиренно подошел к царице и царевне и низко поклонился, касаясь земли пальцами.
– Мир ти, благочестивейшая царица, и тебе, матушка царевна! – сказал он торжественно.
Маленький царевич узнал его и бросил свое копанье в песке: в его замкнутой детской жизни даже этот гость служил развлечением.
– Благоверному царевичу радоватися и в возраст приходити! – приветствовал старик поклоном и царевича. – А пожалуй ручку.
Ребенок протянул руку, запачканную песком. Старик поцеловал ее и стал около ребенка на колени.
– А молиться, светик умеешь? – спросил он.
– Умею, – смело отвечал ребенок.
– А ну-ну, посмотрим, как ты делаешь крестное сложение.
Царевич сложил три пальца и стал креститься.
– Ай-ай-ай! – схватил его за руку старик. – Ноли так можно, по-никоновски щепотью.
И он сложил ребенку пальцы «истово».
– Во как подобает знамение творить, светик – царевич.
Но у того пальчики не слушались, и фанатик сам рассмеялся.
– Ну ин ничего, тебе можно и кулачком креститься: твой и кулачок Господь примет… Твое бо есть царствие Божие, так и Христос сказал.
Потом, обратясь к царице и к царевне Марфе, старик заговорил:
– А вот я вам, благочестивейшая царица и матушка-царевна, расскажу, какая в том крестном знамении сила живет. Прилучися мне и некоему мужу, именем Карпу, в ладии по озере Онежскому плыти, к Палье – острову, иде же тысящи три мужей и жен верных за двуперстное знамение венцы мученические приняли. Плывем мы это, и се абие сотвори бес тому Карпу соблазн: свержеся с ладии в озеро и волнами отнесен бе далече от ладии. Карп же оный, не умеяй плавати, начен потопати, и в ту пору стал креститися щепотью. И се абие явися бес на воде во образе ефиопа и, восплескав руками, возопи: наше еси, Карпе. Я же, призвав на помощь Бога и пресвятую его Матерь, рек гласом велиим: тако твори знамение, Карпе. И показал ему тако. И сотвори тот Карп по глаголу моему. И се оле чуда чуднаго! Виде Карп мужа некоего, сединою украшена довольно и брадою кудреватою, – и подъемлет тот муж Карпа под руки и принесе до ладии. Последи же явися тот муж оному Карпу в тонце сне и рече: аз есмь протопоп Аввакум, пострадавый за двуперстное знамение. И отселе твори таковое же знамение, как показал тебе Емельянко – повенчанин, сиречь аз худый и смиренный… Такова-то в том знамении сила живет.
Царственные женщины, по-видимому, с большим интересом слушали россказни об этих сомнительных чудесах и знамениях: для них это была поэзия, мир таинственных мечтаний. Только такие бродяги, как этот Емельянушка – повенчанин, да разные странники и странницы, шатавшиеся по святым местам, только они и вносили что-то новое в их тюремную, затворническую жизнь: та в киевских пещерах видела, как из святой главы миро точится; тот сидел на пупе земли; этот видел кипарис – древо, а тот под Соловецким монастырем видел самого кита – рыбу, на котором земля держится. Все это был для них неведомый мир, полный чудес и глубокого очарования! Вот бы вырваться из терема да хоть бы одним глазком взглянуть на Афон – гору, которая в самые облака, говорят, упирается, а с нее можно прямо на небо пройти; или посмотреть на Арарат – гору, на которой лежит вечный снег лето и зиму, а на этом снегу далеко-далеко виднеется Ноев ковчег, а туда и орел долететь не может, на что высоко летает; или туда бы, на теплые воды, куда птицы на зиму летают…
И действительно, в это время где-то высоко-высоко в небе перекликались птицы. И Евдокия и Марфа подняли головы: по ясной синеве неба ломаною линией тянулись к югу дикие гуси, и голоса их звонко отдавались в прозрачном воздухе.
– На теплые воды летят, на зиму, – сказала Марфа.
– Да, – задумчиво вздохнула царица.
– А я, матушка-царица, и на теплых водах был, сподобил Господь, – вмешался бродяга, – таки теплы, таки теплы, что подогреть их самую малость, яички бы сварились.
– А где они, теплы – те воды, Емельянушко? – полюбопытствовала Марфа.
– Да за Кеивым за самым, матушка-царевна, – не смущаясь, врал бродяга, – а птицы там этой, и гусей, и лебедей, руками бери.
– А люди там есть, на теплых водах, Емельянушка?
– Малость людей, матушка; все ефиопы.
– А ты и ефиопов видал?
– Как не видать! Там их ефиоп на ефиопе.
– А ефиопки каки из себя?
– Черны, что уголь, матушка, и нагишом ходят по улицам.
– Ай срам какой! Вот срамницы!
– Что и говорить, матушка-царевна! Поганый народ.
– А веры какой они?
– Ефиопской, матушка, все у них ефиопское.
Хоть бы на ефиопов взглянуть! Да где ж! Разве это можно? Да и нагишом ходят.
Вот так и тянется год за годом в этой тюрьме, в тереме. Все люди живут как люди, а у них все не по-людскому.
Ни мать, ни тетка не заметили за своими думами, что маленький царевич перестал копаться в песке и внимательно слушает бродягу.
– Мама, – вдруг обратился он к матери.
– Что, сыночек? – спросила она, продолжая думать свою думу.
– Ты меня пустишь на теплые воды, когда я большой вырасту?
– Зачем тебе туда, светик?
– К ефиопам, мама… Я пойду в страннички.
Царица грустно улыбнулась, а бродяга даже руками всплеснул от восторга.
– Ай да царевич! Ай да светик! Благое дело изберешь, святое!
А царице с горестью думалось: «Может, и впрямь каликой перехожим батюшка сделает… Судьбина наша с тобой такая: мне темна келья, тебе посох каличий»…
– А царем кто ж у нас будет, Алешенька? – притянула к себе мальчика тетка – царевна. – А?
– Царем будет батя, – отвечал ребенок.
– А ты не хочешь?
– Я боюсь.
Старая мамушка, стоя в сторонке и подперев щеку правою ладонью, грустно качала головой. Она сердцем чуяла то же, что и ее вскормленница, горемычная царица: «Келейка, келейка темная»…
А московские колокола продолжали звонить все с тою же дикою нестройностью. Там было шумно, весело, а здесь тихо, печально. Высоко в небе перекликались улетавшие на теплые воды вольные птицы, а здесь в саду тихим, робким шепотом шептались деревья, с которых, медленно и тихо кружась в воздухе, так же тихо, беззвучно падали на землю желтые листья.
IX. Заговор Цыклера
Помимо царственных затворниц были на Москве и еще люди, которые прислушиваясь к трезвону «всепьяннейшего и всешутейшего собора», не тосковали о воле, подобно покинутой царице и царевнам, а скрежетали зубами от ярости. К числу этих недовольных принадлежал тот, кто метил на всероссийский престол, на место царя Петра Алексеевича.
Кто же был тот дерзкий, который думал, столкнув со своей дороги и с трона преобразователя России, повернуть всероссийский государственный корабль, на всех парусах выходивший в открытое море европейской жизни, повернуть этот корабль «назад, домой», на жалкие воды Москвы-реки и Яузы? Читатель, вероятно, не догадывается, о ком я говорю. Это не была царевна Софья Алексеевна, хотя и она, тоскуя в Новодевичьем монастыре и прислушиваясь к звону сорока сороков московских церквей, продолжала задумываться о «двух гробиках» и вспоминать о своем былом счастье, о своей любви, о своем «мил-сердечном друге Васеньке». Нет, это была не она.
Посмотрим же мы на него, на того гиганта, который задумал было дать России не ту историю, которую мы знаем – не историю Петра, Елизаветы, Екатерины, а свою собственную…
В доме Цыклера, на Таганке, собрались гости. В просторной палате, за большим четырехугольным столом, покрытым узорчатою скатертью и уставленным разною посудиною с напитками, на резных лавках, покрытых коврами, сидят пять человек, не считая хозяина. В переднем углу под образами восседает благообразный старик со светлыми, давно поседевшими волосами и кроткими голубыми глазами. Одет он богато, но старомодно. Это Алексей Соковнин, бывший приближенным лицом еще у царя Алексея Михайловича, родной брат знаменитых раскольниц, пострадавших при «тишайшем», боярыни Морозовой и княгини Урусовой. Рядом с ним средних лет мужчина, черноволосый, подвижной. Это Федор Пушкин, зять Соковнина и предок нашего знаменитого поэта Пушкина.
Против них на скамье, судя по одеянию, два стрельца: это и были стрелецкие пятидесятники, Филиппов да Рожин. Рядом с ними пятый гость, донской казак, коренастая, сильно загорелая личность по фамилии Лукьянов.
– Ишь раззвонился еретик! – сердито сказал старик Соковнин.
– Да… Кажись, и церкви московские в свою потеху поворотил, – с иронией заметил Цыклер, который стоял на пороге во внутренние покои и, казалось, поджидал кого-то.
– А попов и архиереев поверстает в конюхов, – вставил и Пушкин.
– Как вас, молодшую братию, в голанских плотников, – засмеялся хозяин.
Пушкина задело это, и он вскочил, чтобы возразить, но в это время на пороге показались две женщины, богато одетые. Впереди плавно, словно лебедь белая, выступала старшая, полная белокурая боярыня, а за нею несла поднос с серебряным кувшином и стопою молоденькая миловидная боярышня, от которой веяло молодостью и свежестью, как от только что распустившегося цветка.
– А вот и хозяюшка с дочуркой пришли попотчевать дорогих гостей, – весело сказал Цыклер, указывая глазами и поклоном в сторону пришедших.
Гости встали.
– Здравствуй, матушка Арина Петровна! – приветствовал ее Соковнин. – И ты, красавица Настенька, попрыгунюшки, вдоль растунюшки! Ишь как выросла.
Девушка вся зарделась и не смела поднять глаз на гостей.
– Спасибо на привете, боярин, – отвечала хозяйка, – прошу отведать моего медку.
И она налила стопу пенящимся медом. Девушка стояла с подносом неподвижно.
– Подноси же, Настенька, – шепнул отец.
– Нет, нет! Пуская хозяюшка пригубит, – сказал Соковнин.
– И точно, – согласился хозяин, – а то, может, оно с отравой.
– Да, да… по нонешним временам, – смеялся Соковнин.
Цыклерша пригубила. От нее Настенька подошла к Соковнину и поклонилась. Гостям блеснула в глаза алая лента, вплетенная в толстую русую косу.
– Да из таких ручек и отравное зелье с охотою выпьешь, – шутил старик, принимая стопу.
Настенька зарделась еще больше.
Стопа обошла, наконец, всех гостей. Загорелый донец даже поперхнулся, заглядевшись на красавицу Настеньку.
– Ну, и мед у тебя, хозяюшка! – шутил Соковнин. – Инда донского атамана сшиб.
Проделав эту светскую церемонию, женщины удалились в свой терем. Хозяин стал сам потчевать гостей, обходя по порядку каждого и наливая вино в стопы.
– Не обессудьте, гости дорогие, не заморски у меня напитки-то, – говорил он, – не привык к заморским.
– Ничего, Иван Богданыч, – улыбнулся Соковнин, разглаживая свою седую пушистую бороду, – скоро придется к заморщине-то привыкать!
– Как так! – удивился хозяин. – Я не недоросль.
– Ну так ин переросль, все равно за море усылают.
– Меня-то, боярин?
– А в турецкую-то землю, за Азов-город, в эту, как ее?
– А! В Таган-рог…
Брови Цыклера нахмурились, глаза сверкнули.
– Да, в Таган ли рог, в бараний ли рог, все едино, – ехидно заметил старик.
– Ну, боярин, – сказал после некоторого раздумья Цыклер, – уж коли ушлют в Таган-рог, так я вору-то нашему потешному не спущу: ворочусь на Москву с донскими атаманами, да и его самого в бараний рог согну. Так ли я говорю, Петра? – обратился он к Лукьянову.
– Для че не так, – отвечал тот, глядя в свою стопу, – чаю, и наша голытьба заворует.
– Ой-ли! – удивился Соковнин. – Что так? За что на нас осерчали?
– Не на вас, боярин.
– Знаю, знаю… Я так… Знаю, на кого… Поделом вору.
– Жалованье дает малое, – пояснил казак.
– Как малое! – с затаенным умыслом подстрекал его Цыклер. – Тысячу золотых вам дал, и вы не благодарны?
– За что нам благодарить! – нехотя отвечал казак, продолжая глядеть в свою стопу. – Эту тысчонку и на войско делить нечего: у нас войско не махонькое, и по копейке не достанется. Мы его жалованье ни во что ставим.
– Так, так, – поддакивал хитрый хозяин.
– Мы сами себе зипунов добудем, – ворчал подзадориваемый донец.
– Он правду говорит, – поддакнул и Соковнин, обменявшись взглядом с хозяином.
– Кабы вы с конца, а мы с другого, – вставил свое слово и один из стрельцов.
– То-то, – нехотя отзывался донец, – топерево поете сироту, а не то пели, как мы шли на Москву со Стенькой.
– Это с Разиным-то? – спросил Соковнин.
– С им, с батюшкой Степан Тимофеичем.
– Да тады он на бояр шел.
– Не на бояр, а на холопей царя, что на него же нашу шкуру драли.
– Так, так, атаманушка, – соглашался Соковнин.
Беседующие помолчали немного, а хозяин подливал то в одну, то в другую стопу. Звону на Москве уже не слышно было, наступил вечер.
– Так как же? – спросил, помолчав, Соковнин. – Что ж ваши стрельцы?
– Да стрельцы что! – с неудовольствием отвечал Цыклер. – У них не слыхать ничего.
– Где ж они, собачьи дети, подевались! Спят что ли? Где они запропастились? Ведь он, сокол – от наш потешный, часто ездит один, а то с пирожником Алексашкой, либо с пьяным Борискою Голицыным, так что на него смотреть! Давно бы прибрали… Что они спят!
– Потому спят, что потешных опасаются.
– Да и малолюдство в нас, – пояснил Филиппов, – всех порассылал.
– Так нас, казаков, непочатой угол, – снова вмешался донец, постепенно пьянея.
– Вы далеко, – заметил Пушкин.
– А турки и кубанцы и того дальше, – настаивал донец, – а мы, станичники, только свистнем, так они с нами Москве как пить дадут.
– Так как же быть? – спросил Пушкин. – С чего начинать?
– Знамо, с него и начинать.
– А как? Как начать? – совсем пьяным голосом заговорил другой стрелец, Рожин, до сих пор упорно молчавший. – Ну говори, как? Ты у нас мудер-то, у, мудер!
– Да так, сам мудер, знаешь.
– Не знаю…
– Да изрезать ножей в пять…
– А-а! Это я умею…
Хотя и Соковнин, и Цыклер тоже были уж довольно пьяны, но они лукаво переглянулись.
– Так выпьем же, брат, еще и поцелуемся, – обратился вдруг последний к Рожину.
– Поцелуемся, Иван Богданыч, – отвечал тот пьяным голосом.
Он с трудом поднялся с лавки и обнял Цыклера.
– А со мной, Иван Богданыч? – поднялся и Филиппов. – Я тоже не промах, коли на то пошло.
– Ладно, и с тобой, Вася.
– А со мной? – поднялся и донец. – Я и в один нож изрежу… на кабана и на тура хаживал…
Цыклер перецеловался со всеми.
– Так как же, боярин? – обратился он и к Соковнину, который склонился на стол и, казалось, дремал. – Что если учинится это?
– Что, Иванушка, учинится? – спросил старик, как бы очнувшись.
– Да коли ножей в пять, в один ли, все едино.
– А! Того, сокола?
– Да… Кому ж быть на царстве? Не царевичу же, чай!
– Ну его! Видали уж мы сосок на царстве… титьку сосет и государствует!
– Так как же?
– Изберем всею московскою землею: Москва Клином еще не стала…
– Ну, Клину далеко до Москвы, – улыбнулся Цыклер. – Кого же?
– Кого? Шеина? Да он нам не рука, и безроден.
– А Борис Шереметьев? Его счастье, его стрельцы любят.
– И он не рука, – возразил Соковнин, – с ним возьмут и царевну Софью, а царевна возьмет царевича.
– А, Василья Голицына?
– Еще бы! Она его тебе на шею посадит…
– На шею ли? – улыбнулся Цыклер.
– Знамо… А князь Василий по-прежнему орать станет, учен больно. Нет, и это не рука.
Цыклер снова обошел своих гостей и снова подлил каждому.
– Выпьем, дорогие гости, про здоровье государя! – громко сказал он, подымая свою стопу.
– Какого государя? – спросил донец. – Того, что по копейке платит?
– Нонешнего? – спросили стрельцы.
– Нет, того, кого нам Господь пошлет.
– Ладно! Идет! Слава! Буди здрав!
Соковнин встал и поднял свой кубок.
– Господа и братия! – торжественно сказал он. – Если кого выбирать в цари российской земле, так царя Иоанна шестого.
– Кто он? Где он? – закричали все.
– Вот он!
И Соковнин обнял Цыклера. В соседней комнате что-то стукнуло, но за шумом и воодушевлением никто ничего не слыхал. Гости бросились обнимать хозяина. Хоть его и порядочно разобрал хмель, но взволнованная кровь бросилась ему в лицо, и глаза засветились радостью.
«Царь Иоанн Шестой!.. Великий государь царь Иван Богданович, всея Великия, и Малыя, и Белыя Руси самодержец… Иван Шестой, Грозный!.. А где же Пятый?.. А тот больной, слабоумный, со слезящимися глазами…»
К горлу его подступали слезы. Но он осилил себя.
– Ножей в пять! – ворчал Рожин. – И одного за глаза…
– Я пред ним ни в чем не согрубил, – как бы оправдывался Цыклер, – это он называл меня бунтовщиком и собеседником Ивана Милославского. А я бунтовщиком никогда не был, а что Милославский мой собеседник, и то правда, я Милославского любил… А что он, потешник, похвалялся над моею женою и дочерью дурно учинить, потому что они красавицы, и за это я бы ему нож в бок… Оттого он везде пьянствует, а ко мне ни ногой…
– Нет, я здесь! – раздался вдруг чей-то голос.
Все вздрогнули. На пороге стоял великан с дубинкою, лицо перекосилось, глаза налиты кровью, нижняя челюсть ходенем ходит…
– Га! Великий государь царь Иван Шестой Грозный!
Все, казалось, окаменело кругом, каждый застыл, кто с поднятой рукой, кто с открытым ртом.
Великан сделал шаг вперед и поднял дубину. Еще момент и…
– Нет! Я не убью тебя здесь, как собаку, я перемучу тебя! Да с Ивашкою Милославским, я из гроба его выну… я смешаю с ним твою кровь…
Он стукнул дубинкою в пол, так что все задрожало…
– Слышишь, Ивашка! Я достану тебя! Пускай еще раз взглянет на тебя моя сестрица Софьюшка!
Он повел кругом налитыми кровью глазами.
– Га! И ты здесь, старая крыса, раскольничий архирей! – увидал он Соковнина.
Опомнившись после первого потрясения, стрельцы и донец схватились было за сабли, но страшная дубинка опять загремела о пол…
– Перевязать их!..
В тот же момент комната наполнилась преображенцами. Первым влетел Алексашка.
– В Преображенское их!.. А я пойду к красавицам, к царице и к царевне Цыклершам….
И царь вышел в ту дверь, которая вела в терем.








