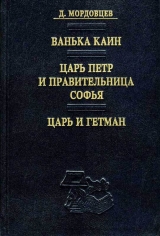
Текст книги "Царь Петр и правительница Софья"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
III. Соборное избрание царя
Рассказанное в предыдущих главах происходило в 1679 году. Теперь же задача нашего повествования требует, чтобы мы из татарских степей перенеслись прямо в Москву и притом в 1682 год. Весна начинает вступать в свои права, вливая новую силу и оживление во все, что носит в себе зачатки жизни, и быстро добивает то, в чем гнездится зародыш смерти.
В дворце царей московских, в Кремле, смерть безжалостно проявила свою державную мощь: не стало одного из мудрейших и несчастнейших царей всея Руси, смерть подкосила юного царя Феодора Алексеевича на двадцать первом году жизни.
Оттого во дворце такой плач и стон. Громче всех плачут женщины – молодая вдова, царица Марфа, шесть сестер покойного, в особенности царевны Софья и Марфа Алексеевны, и тетки умершего царя. Что же ждет их, у которых никого не осталось, кроме больного, почти слепого и слабоумного брата Ивана да ненавидящей их мачехи. Плачет и этот жалкий брат их Иванушка, торопливо утирая дрожащими руками свои больные подслеповатые глаза. Не плачет одна эта суровая, угрюмая мачеха: стоит, словно заряженная, словно выпугнутая из берлоги медведица, оберегающая своего медвежонка. Да ее иначе и не называли тихонько царевны – падчерицы, как «медведицей». И «медвежонок» стоит около нее, это десятилетний, скорее девятилетний царевич Петр Алексеевич, Петрушенька, любимец и баловень покойного батюшки, тишайшего царя Алексея Михайловича. «Медвежонок» тоже не плачет: его живые, острые и какие-то жгучие глаза беспрестанно скользят своею холодною сталью по плачущим лицам рыдающих сестер – царевен, чужих ему, не родных, и по лицам вельмож, толпящихся у одра царственного покойника и тревожно наблюдающих друг за другом, и по иконописным ликам высшего духовенства – патриарха, митрополитов, архиереев. Картина эта почему-то напоминает ему картину страшного суда, виденную им в одном из кремлевских соборов – нет только ангелов и бесов.
Он скользнул своими стальными глазами по лицу мертвого брата – царя и тотчас перевел их на группу бояр, стоявших недалеко от него и о чем-то шептавшихся. Он знал этих бояр больше других, потому что чаще их видел и на всех почти верхом ездил, когда находила на него блажь шалить: это вот его дядька, веселый князь Борька Алексеевич Голицын, а это его брат Ивашка, а это Долгорукие: Яшка, Лушка, Бориска и Гришка.
– А каков наш-то соколик? – шепчет Иван Голицын, глядя на царевича Петра.
– Да, скоро братца головой догонит, – шепчет Яков Долгорукий.
– Догонит, головой-то? – улыбается чуть заметно Борис Голицын. – Давно уж перегнал.
– И точно востер… За него постоим…
– Доброста! Только без крови не обойдется.
– Знамо. Я и панцирь вдел под кафтан, как «на верх»[1]1
«На верх» – значит во дворец. – Прим. авт.
[Закрыть] ехал.
– И я сделал то же.
– Да и я парень не промах: тоже стальную срачицу вздел.
– Оболокся и я сталью, княже.
Начинается обряд прощания с новопреставленным царем. Все целуют его худую и холодную, как мрамор, некогда державную руку. Рыдания царевен переходят в раздирающие душу причитания.
– Братец! Братец! Царюшко родненький! На кого ты нас покинул?
– Ох, светики! Ох, сестрицы родимые! Горькие мы сироты, о-о!
Обряд целования мертвой руки кончен. Начинается целование живых рук, рук оставшихся царевичей… В чьи-то руки перейдет скифетро царское, державное яблоко?..
Царевичей сажают на седалища, и все поочередно подходят к ним, словно к местным иконам, и прикладываются.
Кончен и этот обряд. Патриарх, архиереи и бояре выходят в переднюю палату. Там собрание всех чинов людей московского государства. И тесно, яблоку упасть негде: все пришли узнать, кого Бог соизволит поставить царствовать над русскою землею. Тихо в палате, только слышны вздохи да трение кафтанов об кафтаны. Из царственной опочивальни доносятся стоны и причитания царевен. Патриарх осеняет собрание крестным знамением. Все глубоко кланяются ему, встряхивая волосами и распространяя по палате убийственный запах деревянного масла, словно бы пролили бочку этого масла, которым тогда благочестивые бояре умащали свои головы и бороды вместо помады.
– Изволением и судьбами Божиими, – возгласил патриарх, – великий государь Феодор Алексеевич всея Великия, и Малыя, и Белыя Руси, оставя земное царствие, переселился в вечный покой.
Все усиленно вздохнули, точно стон волною прошел по палате.
– Ныне, – продолжал патриарх, остались по нем братия его, государевы чада, великие князья Иоанн и Петр Алексеевичи. Соблаговолите, чада, князи и бояре, волею Всемогущаго Бога изрещи ваше соизволение, как Господь на мысли положит: кому из царевичей быть преемником новопреставленного? Или обоим государствовать вместе? Объявите единодушным и согласным намерение свое пред все ликом святительским и синклитом царским.
Все молчали, слышалось только тяжелое дыхание. Бояре стояли, уставя брады.
Заговорил один Языков, ближний советник покойного царя, «глубокий московских площадных и дворских обхождений проникатель».
– Сие дело великое и страшное: как нам таковое дело без всех чинов московского государства решать и вершить?
– Воистину, воистину, – отозвались голоса.
– Соборне вершим, всею землею.
– Аминь! – заключил патриарх.
Молча прошел он через всю палату к выходу на Красное крыльцо. За ним двинулись архиереи, бояре. Перед Красным крыльцом волновалось море голов человеческих. Все сняли шапки. Патриарх поднятием обеих рук благословляет это море. Стало тихо, так тихо, что слышно было, как голуби ворковали на карнизах царских теремов.
– Православные! – начал патриарх. – Изволением и судьбами Всемогущего Бога, великий государь царь Феодор Алексеевич всея Великия, и Малыя, и Белыя Руси, оставя земное царствие, переселился в вечный покой. Остались по нем братия его, государевы, блаженныя памяти царя Алексия Михайловича чада, великие князья Иоанн и Петр Алексеевичи. Православные, всех чинов московского государства люди! Вещайте хотение ваше, как Господь на мысли положит: кому из них быть на царстве? Или обоим вместе царствовать? Поведайте единодушно, общим согласием хотение ваше пред всем ликом святительским и синклитом царским и всеми чиновными людьми. Поведайте!
Дрогнуло собрание и, словно море, заколыхалось. Но не раздалось ни одного звука.
– Поведайте, кому быть на царстве?
– Петру Алексеичу! – выкрикнул чей-то глухой голос.
– Петру Ликсеичу! – прорвались тысячи глоток. – Петру Ликсеичу!
– Иоанну Алексеевичу! Ивану! – вырвался чей-то одиночный голос.
В окно глядела царевна Софья Алексеевна. Она узнала одинокого крикуна: это был наш знакомый по Крыму и по татарским степям с саранчою, дворянин Максим Исаич Сумбулов. И он заметил в окне царевну, да не одну, а с сестрой, царевной Марфой Алексеевной. Но лицо его покрылось ярким румянцем, когда за лицами царевен он увидал еще одно личико – смущенное и бледное личико знакомой уже нам крымской полоняночки Меласи…
Но нам не до нее теперь.
Сумбулов бешено рявкнул: «Иоанну Алексеевичу! Иоанну!»
– Иоанну Алексеевичу! Иоанну! – подхватили его другие голоса.
Но буря криков за Петра Алексеевича заглушила и поглотила немногие голоса за Иоанна Алексеевича. Это последнее имя захлебнулось и потонуло, словно в пучине, в неистовом реве:
– Петру Ликсеичу! Петру!
– Да будет единый царь и самодержец всея Великия, и Малыя, и Белыя Руси царевич Петр Алексеевич! – словно колокол, отчетливо прозвенел чей-то звучный голос.
– Петр! Петр! – поддали другие, вся площадь.
Сумбулов видел, как мертвая бледность покрыла лица обеих царевен.
«Сорвалось! – защемило в душе у него. – Прощай, лапушка!» Он уже не видел в окне того смущенного личика.
Патриарх повторил вопрос:
– Кому на престоле российского царства быть государем?
– Иоанну! Ио-а-нну! – с воплем отчаяния отозвался Сумбулов и часть стрельцов.
Их опять заглушили и еще с большею, неистовою силой. А из всего стона опять отчетливо выделился знакомый голос:
– Да будет по избранию всех чинов московского государства великим царем Петр Алексеевич!
– Да будет тако! – осенил крестом всю площадь патриарх. – Аминь!
Вверх полетели шапки, словно тучи птиц. Но падали шапки на чужие головы, и из-за шапок началась такая свалка, что волосы летели клочьями и устилали площадь… «Моя шапка! Моя!»«Вот тебе твоя! Вот тебе!»…«Караул! Помогите, православные! Режут!»…
Патриарх, архиереи и бояре двинулись назад, в хоромы.
Странный вид представляла теперь палата, в которой покоилось тело умершего царя. Она казалась пустою и мрачною. Посередине ее на возвышении стоял гроб, полуприкрытый дорогими золотыми парчами. Из-за парчей выглядывало восковое лицо мертвеца. За гробом, у стены, возвышался царский трон. Тот, кто мог на нем сидеть, теперь лежал в гробу. А около гроба, словно в полузабытьи, сидел с закрытыми глазами царевич Иван Алексеевич. Казалось, и он, и мертвец прислушивались к тому, что читал у гроба церковник в печальных ризах. А он медленно, заунывно читал: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых…»Душу выматывало это чтение. Вдали, под окнами, тихо сидели совсем убитые царевны. Только «медведица» стояла посреди палаты рядом со своим «медвежонком» и выжидательно смотрела на дверь.
Вошел патриарх, за ним архиереи, бояре.
– Буди здрав, великий государь царь Петр Алексеевич, всея Великия, и Малыя, и Белыя Руси самодержец! – торжественно возгласил владыка.
«Медведица» дрогнула и выпрямилась во весь свой рост. Царевич – «медвежонок», теперь царь, ухватился было за подол матери, но потом быстро отдернул руку и выпрямился. Царевич Иван даже головы не поднял. Патриарх подошел к новоизбранному маленькому царю и благословил его крестом.
– Буди благословен, великий государь царь Петр Алексеевич всея Руси! Буди благословенно царство твое и царствование. Облекися, царю, в ризы царския и прими державство твое, Богом врученное. Возсяди ныне на вдовствующем престоле прародителей твоих!
Потом, обращаясь к предстоящим, патриарх проговорил:
– Творите положенное по чину.
Маленький царь стоял неподвижно, точно мраморный, только руки его нервно сжимали одна другую. Он поднял свои черные выразительные глаза и встретился с глазами своего дядьки, Бориса Голицына, радостные глаза которого, казалось, говорили: «Ну, царюшко милый, допрежь сего батюшка твой, блаженной памяти тишайший царь, за провинки купал бояр в пруду в Коломенском, а ты котят да щенят топил вместо бояр, а теперь и самих бояр, что щенят, топить станешь, набил ручку…»
Между тем на его юного питомца уже надевали царские облачения: кафтан становой, зипун червчатого атласу, платно – атлас золотой по белой земле, и взводили на чертожное место, на трон. Потом в руки его вложили «скифетро» и «яблоко державное».
Патриарх, вкладывая эти царские регалии в руки юного царя, заметил, что руки эти холодны, как лед, конечно, от волнения; но гордый царственный ребенок не хотел обнаружить этого волнения.
– Прими скифетро сие, жезл царев, – говорил патриарх, – да будет жезл сей для злых – бич наказуяй, для добрых – ветвь маслична.
Передавая ему державу, патриарх говорил:
– Прими яблоко сие и како убо яблоко в руце своей держиши, тако держи и вся царствия, данныя тебе от Бога, соблюдая от врагов внешних.
По бокам трона стали царские приближенные: Борис Голицын и Яков Долгорукий. Мать – «медведица» стояла тут же, не спуская глаз с царственного сына и боясь, как бы он не закапризничал… А от него станется: еще сегодня он не хотел одеваться, чтоб идти проститься с умершим царем, и сбил с головы старой няньки своей волосник, чем и опозорил седую голову старухи. Нет, теперь он сидит смирно. Его начинает тешить обряд, точно все нарочно играют «действо», как при покойном батюшке действо о «Навуходоносоре царе» игрывали.
Но вот начинается целование царской руки. Первой подходит мать – «медведица». Ребенок царь не выдерживает своей царственной роли и, торопливо передав «скифетро» и «яблоко» в руки Голицына и Долгорукова, стремительно бросается в объятия матери…
– Мама! Мама!
– Сыночек мой! Петрушенька! Царюшко мой державный!
Но ребенок быстро приходит в себя.
– Будет… довольно… не плачь, матушка… стань на место.
Царица – мать отходит. Ребенку – царю вновь подают скипетр и державу, на колени кладут бархатную подушку, из правой руки опять берут державу, а маленькую ручку кладут на подушку, для целования. Бледная, как полотно, царевна Софья и смущенная царевна Марфа ведут под руки царевича Ивана для целования руки братишки – царя. Софья уже не плачет, только воспаленные глаза блестят лихорадочным огнем. Царевич Иван двигается, как автомат.
– Иди, иди, братец, у младшего братца – царя руку целовать, – злобно шипит Софья Алексеевна.
Больной подслеповатый царевич Иван смиренно целует крохотную ручку младшего брата.
За ним прикладываются царевны. Софья не целует, а как-то злобно тычется концами губ, словно бы это была не ручка ребенка, а холодная змея.
Прикладываются к этой ручке бояре, дворяне, гости торговые, тяглые и «всяких чинов людишки».
– Эка ручка! Махонька, беленька, точно сахарна, и скифетро держит, ишь ты, – невольно смущается тяглец Микишка, с боязнью нагибая свою всклоченную голову с суконным рылом к царской ручке, точно бы это было раскаленное железо.
Один Сумбулов не прикладывается и затирается в толпе: он боится взглянуть в глаза ребенка, сидящего на троне. Ему почему-то разом вспоминается далекий Крым, голубое море и чайки, жалобно кричащие над трупом прибитого к берегу невольника…
«А надо мной воронье будет каркать, как вырастет вот этот…
Как рябина, как рябина кудрявая,
Как тебе рябинушка не стошнится,
Во сыром бору стоючи,
На болотину смотрючи…
Фу ты, дьявол! Сгинь – пропади!..»
Прикладывались к царской ручке и стрельцы. А думали ли они, что эта самая ручонка будет когда-то рубить их воловьи шеи?
IV. Начало конца
После бурного дня, в который последовало избрание на царство юного Петра, наступила тихая, безмолвная ночь, какие были только в то доброе старое время, когда не существовало еще на Руси ни клубов, ни театров, ни общественных собраний, и когда московские люди заваливались спать вместе с курами. Так и теперь, 28 апреля 1682 года, спит Москва, хотя вечерняя заря еще и не думала потухать. Но не все спят в эту ночь. Вон, в высоком терему царевны Софьи Алексеевны теплится огонек, да на царской половине, в покоях царицы – матери и ее маленького царственного сына, трепетно мигает лампада. Нет сна царевне Софье, не спит и «медведица». Первая тоскует об ускользнувшей из ее рук власти, которая теперь вся перешла в руки ненавистной мачехи, торжествующей «медведицы». А «медведица» не спит от счастья, от волнения. Она тихонько, как вор, пробралась в опочивальню своего Петрушеньки – царя и, сложив молитвенно руки, стоит на коленях у его кроватки, из которой он уже вырос, растет не по дням, а по часам, словно богатырь в сказке. Что-то из него выйдет?.. Сердце матери так и тает… А он лежит, разметался, и атласное на гагачьем пуху одеяльце сбил с себя. Беспокойно спит. Мать крестит его и поднимает умиленные глаза к лампаде. А Софья не спит от тяжких дум. Шутка ли, в двадцать пять лет отказаться от всего, от власти, от жизни! При покойном брате, больном, но добром и тихом, ей хорошо жилось: рядом с ним она государствовала, выслушивала доклады вельмож, давала решения по важным делам. Вместе с мил-сердечным другом, князь Васенькой, княж – сыном Васильевичем, свет Голицыным, она и совсем надеялась управлять государством; а тут «медведица» выхватила из ее рук власть для своего «стрелецкого сына»… Так у нее у самой есть стрельцы, они помогут ей. А то виданное ли дело! У старшего брата престол перебит для младшего! Статочное ли дело! Что он больной, Ваня-то царевич? Что ж с того? И Федя – братец был больной, а государствовал же, да еще как государствовал! И Иванушка – братец со мной бы государствовал! А то на-ко – ся! В Нарышкиных род скифетро-то батюшково повернули… Так не бывать тому!
И она тревожно расхаживала по полуосвещеной светлице.
Вот такою же серою дымкою ночь ложилась на Коломенское, когда еще при покойном батюшке она в первый раз спозналася со светом очей своих, с Васенькой Голицыным… Как он обнимал ее! Как изнывала она от истомы на его богатырской груди!.. И соловушка пел тогда в роще, до утра пел им свадебную песенку… Да, то была свадебка, да только ни сватьев, ни бояр, ни тысяцких не было на той свадебке вольной, тайной, и одна лишь сирень пахучая служила им пологом постельным…
При одной мысли об этой ночи ее бросает в жар.
«Где-то теперь он, свет очей моих, Васенька? Далеко-далеко, в чужой Черкасской стороне… Коли бы он был здесь, то этого б, может, не случилось…»
Кто-то тихо входит в светлицу, Софья вздрагивает…
– А, это ты, Марфуша?
– Я, сестрица.
– А я было испугалася… Ты что не спишь?
– Да не спится что-то, сестрица: сон от очей бежит.
– И мне сна нету… Да и как ему быть! Экося, что деется!
– Да, Софьюшка, милая, осиротели мы, обнищали.
– Не говори так, Марфуша! – горячо возразила Софья. – Не обнищали мы! Есть у нас родной брат, и ему быть на царстве. Я подниму стрельцов: они выкрикнут на государский стол братца Иванушку. Нету такого закона, чтобы старшего брата обходить. Наша сторона не ихней чета, у нас все родовое боярство столбовое: Милославские, Толстые, Хованский Иван.
– А князь Василий Васильевич Голицын?
– Об нем я и не говорю уж… А сила наша в стрельцах…
– И отцы нашу руку тянут, архиереи… Мне ужо Иван Гаврилыч сказывал…
– А ты где его видела? – быстро спросила Софья.
Царевна Марфа вспыхнула. Даже уши ее покраснели.
– Мы… я ужо… он даве над братцем псалтырь читал… так я… он и сказывал. Говорит, отцы…
Софья внимательно посмотрела на нее и улыбнулась.
– Ничего, ничего, Марфушка, я знаю, я давно заприметила, что он тебе люб… Что ж! Не всем же князья да бояре, а теремная-то неволя нам девкам не сладка… Любитесь, с Богом, только чтоб оказательства не случилось…
Марфа Алексеевна совсем зарделась.
– Чего вы, царевны мои золотые, полуночничаете? – послышался вдруг еще голос в светлице. – Он уже ранок Божий, заря утренняя занимается.
Это вошла в светлицу доверенная постельница царевны Софьи Алексеевны, Федора Семеновна Родимица, вдова, украинка, уже не молодых лет женщина, с заметною проседью в черных, как вороненая сталь, волосах.
– Что не баинькаете, царевнушки золотые, червонные?
– Да как же, Федорушка, спать-то! Али не видала, как обошла нас «медведица» – то?
– А на «медведицу», рыбка моя, есть рогатина… Стрельцы-то на что! Мне Цыклер давно сказывал, что стрельцы на бояр да на Нарышкиных дышут адом и зубы точат, а кто, говорит, им зубы позолотит, того и на царство посадят. Так у нас на Украйне гетманов, того ссаживают казаки с уряду, а тому, кто им люб, дают булаву и бунчук, это по вашему, по-московски, «скихветро» та «яблуко».
Софья задумалась. Где-то в Замоскворечье пронесся в сонном воздухе звон колокола. Благовестили к заутрене.
– Ин, быть так, Федорушка, – решительно сказала Софья, – утро, я сама вижу, мудренее вечера… Сегодня я оповещу о себе Москве.
– Как, сестрица? – спросила Марфа Алексеевна.
– Пойду в ходах, за гробом братца пойду.
– Как! Сама пойдешь! – изумилась Марфа.
– Сама, своими резвыми ноженьками…
– Владычица! – с испугом проговорила Марфа. – Да разве царевне, девке, можно это!
– Мне все можно! – резко сказала Софья.
– Девке-то, в городе! Без фаты на улице!
– А чем лицо девичье зазорно?
– Да ведь ты царевна, подумай!
– А чем лицо царевнино зазорно?
Марфа не нашлась что отвечать. Она окаменела от изумления. Видано ли, чтоб царевна, девка, показывалась в народе с незакрытым лицом! Да этого не бывало, как и свет стоит.
Украинка нашлась: там, в ее милой далекой Гетманщине, не знали этих предрассудков.
– Что же тут зазорного, царевнушка моя золотая! – обратилась она к Марфе. – И Богородица Мария тоже из царского рода, а ходила же девицею с непокрытым лицом… Да и у нас, на Украине, гетманивны ходят просто, с непокрытою косою.
Софья Алексеевна между тем рылась в дорогом массивном ларце, звеня золотом. Потом она вынула оттуда увесистую сафьяновую калиту – кису и отдала ее своей постельнице.
– На, Федорушка… Золоти стрелецкие зубы…
Восток алел. Наступал день царских похорон. С раннего утра Кремль стал наполняться народом. Стрельцы выстраивались шпалерами, которые с небольшим перерывом для прохода духовенства и бояр во дворец тянутся от крыльца царских теремов до Архангельского собора. Кареты и колымаги вельмож и бояр останавливаются за шпалерами, а сами бояре между рядами стрельцов направляются к Красному крыльцу.
Несмотря на то, что на дворе весна и яркое солнце порядочно греет и головы собравшегося на царские похороны народа, и серые камни мостовой, не занятой толпой и давно просохшей, перед Красным крыльцом стоят двое саней, обитых дорогим бархатом с белыми серебряными тесьмами и такими же кистями. Около саней чинно стоят стольники.
Зачем же здесь сани и притом без лошадей? Кто поедет в них? Да разве зима теперь, чтоб в санях ездить?
Но вот все уже духовенство в печальном облачении, с крестами и иконами, князья, бородачи бояре, гостиная знать – все проследовало во дворец.
Простонал большой колокол на Архангельском соборе и смолк, но стон его долго, долго замирал в сотрясенном воздухе. Погребальный стон повторился на Иване Великом, потом на Успенском соборе, и затем простонали все московские храмы. Печальное, недосказанное что-то слышалось в этих медных не повторявшихся криках… Чего-то ждется… Чего же? Ведь это смерть: в ней-то и есть что-то недосказанное…
– Несут! Несут! – заволновались толпы, и весь Кремль как бы дрогнул.
Действительно, с «верху», от дворца, потянулась погребальная процессия. Задвигались и засверкали в воздухе кресты, дорогие иконы в ризах, потянулись ряды певчих, духовенства. Заговорили колокола всех московских церквей, заговорили нескладно, но разом, как-то торопливо, словно бы испуганно.
– Несут! Несут! Эво-на! Несут! – Только теперь можно было произнести это слово.
Из дворца выносили гроб. Послышались женские рыдания. Гроб положили в первые сани. За гробом монахини вывели под руки что-то живое, закутанное во все черное.
– Царицу ведут! Матыньки! – ахнули бабы.
Вдову – царицу посадили в другие сани. Те и другие сани, сани с мертвецом и сани с оставленною им вдовою, стольники подняли на плечи и понесли. Странно и страшно было видеть эти колыхающиеся над человеческими головами сани. Странный поезд летом!.. Но мертвец отправляется в далекую, неведомую страну, может быть, к студеному океану, к непроходимым снегам… Прежде предков этого покойника после смерти клали в лодку и сжигали на костре. Сжигали вместе с ним и его жену и любимого коня. А теперь вон покойника в санях несут. Прежде душа покойника должна была через реки и моря переезжать, оттого мертвеца и сжигали в лодке, а чтоб нескучно было ему там быть одному, жгли с ним и его жену. Теперь душа мертвеца идет на тот свет по снегам. Вот почему мертвого царя и несут в санях, а за ним едет и жена…
– Матыньки! Да это никак сама царевна, Софья Алексеевна!
– Владычица! Она и есть! Сама идет за гробом.
– Ахти, соромота какая! Девка, царевна, в народ показалась. Да экой соромоты не бывало, как и Москва стоит.
– Спокон веку, мать моя, не бывало, уж и времена настали!
– И не говори! И чего мачеха-то смотрела!
– Что мачеха, голубка моя! Мачеха – мачеха и есть.
– Ну ин тетки бы не пустили, сестры, бояра!
– Послушает она их – ту! Сама востра… А как голосит!
– Точно инда душенька надрывается: сироточка ведь, ну и плачет.
– А чернички – ту как голосят! Уж и голоса!
– А все же царевна пересиливает их… Ну голос! Истинно царской.
– Гляди-тко, гляди-тко и царек молоденький идет, сущее дите.
– Как есть молоденец.
Софья действительно была первая русская царевна, которая показалась публично на похоронах брата. Как ее ни отговаривали от этого сестры, тетки, все дворское бабье, она никого не послушалась. Ей непременно хотелось, чтобы вся Москва заметила ее, чтобы об ней заговорили, пожалели ее. Она еще и другое нечто держала в уме, но это она берегла к концу похорон. Она насолит матери юного, вновь избранного царя, ненавистной мачехе, косолапой «медведице»: она так ударит по столу, что ножницы сами скажутся где они, звякнут. Она стукнет по всей Москве, и ножницы скажутся…
Ребенок – царь шел за санями брата рядом с матерью. Подвижное личико его выдавало недовольство, каприз. Его слишком рано разбудили, и он злился. А тут еще эта Софья воет, черницы воют. В церкви, наконец, терпение его лопается. Он постоянно дергает мать за рукав.
– Мама! А мама!
– Что, сынок?
– У меня ножки устали.
– Так садись, мой свет, отдохни малость.
– Не хочу сидеть! Все стоят.
– Тебе можно, мой соколик: ты государь.
– Я есть хочу!.. Мне Бориска ничего сегодня не дал есть: говорит, нельзя до обедни.
– И нельзя, сынок.
– А я хочу! До обедни нельзя, а теперь уж обедня.
Мать знала характер своего баловня. Она чувствовала, что он сейчас раскапризничается и затопает ногами: в церкви-то, среди торжественного служения – да это срам!
– Ну, пойдем, соколик… только простись с братом!
– Я уж прощался.
– Так еще надо, дитятко, а там и домой.
Они простились с покойником и ушли. За ними вышли и их приближенные. Софья видела все это и кипела гневом.
«Хорош братец! Точно смерда хоронят, а не царя! Не мог и обедни выстоять… Добро!.. Я им отпою!..»
Но вот все кончено. Толпы повалили из Архангельского собора. Впереди шла Софья. Даже стрельцы своими шпалерами не могли сдержать народ, который напирал со всех сторон, точно на пожаре, чтобы только поближе взглянуть на такое невиданное диво, шутка ли! Девка – царевна идет, и лицо видно, не закрыто фатой! Да эдакого дивища отродясь Москва не видала! Девка – царевна лицо открыла! Мало того, девка голосит в истошный голос!
– Православные! – вопит царевна. – Видите, как брат наш, царь Феодор, нечаянно отошел от сего света… Отравили его враги зложелательные, отравили! Умилосердитесь над нами, сиротами, православные! Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата. Брат наш Иван, старший, не выбран на царство, а выбрали младшего… Если мы чем перед вами или боярами провинились, то отпустите нас живых в чужую землю, к королям христианским. Умилосердитесь, православные, отпустите нас.
– Зачем пущать! – заволновалась толпа. – Мы их, зложелателей, тряхнем! Мы их переберем! Мы…
Софья достигла того, чего желала.








