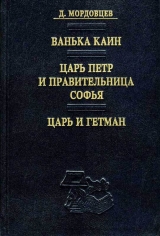
Текст книги "Царь Петр и правительница Софья"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
VII. «Щуку-то съели, да зубы остались»
Дворец во власти стрельцов.
Чего же им нужно? А Нарышкиных, царскую роденьку, да и других лиходеев, Гришку Ромодановского, что морил их под Чигирином, Алешку Лихачева постельничего, Сеньку Языкова чашника, Ларьку Иванова, думного дьячишку, мало ли кого! Вон сколько записано их в стрелецкий синодик, что ноне утром Максимка Сумбулов по полкам разметывал… Всех надо под орех разделать: недаром зубы стрельцам золотили…
Ворвавшись во дворец, стрельцы рассыпались в нем, как гончие в отъезжем поле, выслеживая красного зверя. И нелегко было выслеживать искомого зверя в этом лабиринте палат, переходов, сеней, клетей, подклетей, чуланов, теремов, церквей, лестниц, чердаков, подвалов, погребов… надо искать везде, и в палатах, и под царскими престолами, и в опочивальнях цариц и царевен, и под постелями, и под церковными аналоями…
Находчивый Цыклер распорядился, чтобы снаружи дворца у всех крылец и дверей, у всех окон и папертей поставлены были часовые и чтобы никого не выпускали из дворца.
– Муха будет лететь с «верху», и муху не пущай, братцы, – пояснил Озеров.
– А коли она, муха-то, на «верх» лететь будет, пущать ее, муху ту, аль не пущать? – спросил стрелец Кирша, добродушный, но глуповатый малый.
– На «верх» пущать, а с «верху» ни-ни! Ни Боже мой
– Теперь, стало, бояре-то, словно раки, в вершу попали, – улыбнулся Кирша, – ишь ты, и муху!
– Муха, знамо, и муху не пущай! – рассуждали стрельцы, стоя на часах. – Може, он, Нарышкин – те, либо Гришка Ромодановский, мухой обернется, и был таков. Вон Маришка-то безбожница сорокой обернулась и была такова! А то муха! Муха мухе розь!..
– А вон Агапушка – блаженный шьет да песенки поет.
– Божий человек, что ему!
Между тем другие делали свое дело во дворце.
Первая кровь, которая обагрила дворцовые сени, принадлежала отставленному стрелецкому начальнику Горюшкину.
– А! И ты, лиходей, туда! – набросились на него с бердышами. – Сказывай, где Нарышкины?
Горюшкин упал на колени, поднял руки.
– Не знаю, милостивцы, не ведаю.
– А! Не знаешь, не ведаешь! А как нами ведал, знал, как наши кормы утаивать! Вот же тебе!
И бердыш раскроил голову несчастного до самой переносицы. Копья докончили остальное.
Тут же, кстати, убили и Юренева, который тоже не мог ответить, где спрятаны Нарышкины.
По приближении буйных ватаг, обнюхивавших углы и подлавки каждой палаты, каждого терема и перехода, все убегало и пряталось. Дворцы, казалось, опустели. Куда девались стольники, чашники, постельничие, постельницы, дурки придворные, дворские карлы и карлицы! Все перерыто и перетряхнуто: чуланы, постели, перины, поставцы… Кинулись по дворским церквам: за образами иконостасов, в ризничих, в алтарях, под жертвенниками – нет Нарышкиных! Тычут копьями в перины, под престолы, нет! Точно в воду канули…
– Здесь! Здесь! – кричат голоса из темного чулана. – Нашли злодея!
– Кого нашли?
– Афоньку Нарышкина!
– Тащи лиходея! Пущай кается в отраве царя Федора!
– Братцы! – слышится отчаянно умоляющий голос. – Я не Нарышкин…
– Врет! Глаза отводит!
– Вот тебе! Вот!
– О – ох! Умираю… братцы… я… я не Нарышкин… я…
– Добивай злодея! Волоки за ноги! Пущай молодцы тешутся…
– Стой! Стой, ребята! Кого вы убили?
– Афоньку аспида!
– Это не Афонька, не Нарышкин: это стольник Федор Петрович Салтыков.
– Что ты! Аль промахнулись?
– Истинно говорю! Промахнулись!
– Эхма… что ж делать! Не подвертывайся…
– Где же Нарышкины?
– У самой, поди, у царицы Натальи: роденька ведь…
– К Наталье, братцы! Вон ее терем….
Ворвались в терем царицы Натальи, никого нет!
– И тут пусто! Анафемы! В трубу улетели.
– Ищи, ребята! В опочивальню!
Ворвались в опочивальню, и тут никого нет.
– Ишь, горы подушек, перин! Шарь в перинах!
– Коли копьями в перины.
– Ой-ой! – слышится слабый крик из-под одного пуховика.
– Нашли! Нашли! – И из-под пуховика вытаскивают маленького большеголового человечка. Человечек дрожит, как осиновый лист, и плачет.
– Кто ты, сказывай, и для чего здеся-тка?
– Я Хомяк, карла царицын, – отвечает дрожащий человечек.
– А какой царицы?
– Царицы Натальи Кирилловны.
– А! Нарышкиной, Кирилловны… Так ты должен знать, где спрятаны Кириллычи. Сказывай!
– Я не знаю… не видал… лопни глаза – утроба.
– А! Запираешься! Так мы тебя в окошко выкинем на копья, как козявку.
И один из стрельцов берет его за шиворот и несет к окну, поминутно встряхивая: «Скажешь, бесенок, скажешь!»
– Скажу! Скажу! – отчаянно молится несчастный.
Его спускают на пол, и он падает… Его поднимают за волосы.
– Ой-ой! Скажу… пустите душу!.. Он в церкви, у Воскресения на Сенях, под престолом.
Толпа кинулась на Сени. Там, на переходах, они нашли в одном углу какой-то незапертый сундук и открыли его. Блеснула чья-то лысая маковка, шитый кафтан…
– Еще нашли!
– Кого? Вытаскивай живей!
И этого схватили за шиворот, за шитый жемчугами козырь, и вытащили из сундука. Это был высокий сухощавый старик с жидкою седою бородою и в очках.
– А! Ларька – дьяк! Ларивон Иванов, думная крыса, тебя нам и надо.
Это был действительно думный дьяк Ларион Иванов. Стрельцы его очень хорошо знали, потому что он одно время управлял стрелецким приказом, и очень солоно пришлось стрельцам его управление: он не давал им потачки.
– Здравствуй, Ларька! – издевались стрельцы, толкая его из стороны в сторону.
– Ты нас вешал, а теперь попляши перед нами!
– На крыльцо его! На копья!
Несчастный дьяк хоть бы слово проронил: он знал, что это бесполезно. Его повалили и потащили по переходам, чтобы сбросить с крыльца.
– Ловите, братцы, Ларьку – дьяка, – кричали палачи, бросая свою жертву на копья.
– Муха в золотых очках и в золотном кафтане, лови ее.
– Вот же тебе, крапивное семя! Не жужжи!
И его рассекли на части. Другие, толкая бердышами в спину карлика Хомяка, шли гурьбой к церкви на Сенях.
– Аль Ивашка Нарышкин у сенных девушек под подолом прячется? – глумились злодеи.
– Не Ивашка, а Афонька, он охочь до девок дворских да постельниц.
Стрельцы ворвались в церковь в шапках.
– Легче, дьяволы! – остановил их Озеров. – Это не кабак… Шапки долой!
Стрельцы сняли шапки. Хомяк молча указал на алтарь.
– Тамотка? Ладно, найдем.
И самые смелые направились в алтарь. Вскоре они вытащили из-под престола трепещущего Афанасия Кирилловича и повели из церкви.
– Сказывай, где твой брат Ивашка, что надевал на себя царскую диодиму?
– И скифетро, и яблоко в руки брал.
– И на чертожное место садился воместо царя… Сказывай, где он?
– Не знаю, – был ответ, – видит Бог, не знаю.
Его вывели на паперть. Внизу толпа волновалась и кричала. Видно было, что еще кого-то поймали.
Снова стали допрашивать Афанасия Нарышкина. Он молчал.
– Полно его исповедывать! – закричали иные. – Мы не попы.
– Ивашка и без него не уйдет, добудем.
– Верши его! Кидай сюда!
И этого рассекли на самой паперти и сбросили на копья.
– Любо ли, братцы? – кричали разбойники к толпе, собравшейся внизу.
– Любо! Любо! – отвечали им, но далеко не дружно. Ивана Нарышкина так-таки и не нашли. Между тем приближался вечер. Стрельцы и устали, и проголодались, а потому окончательное избиение своих «лиходеев» отложили на завтра и, расставив вокруг дворца и по всему Кремлю крепкие караулы, вышли на площадь.
На площади ожидала их новая жертва. Между Чудовым монастырем и патриаршим двором поймали знаменитого боярина и воеводу Григория Григорьевича Ромодановского с сыном Андреем. Это тот Ромодановский, что вместе с гетманом Самойловичем отбивал когда-то от Чигирина турецкие войска, приведенные на Украину Юраскою Хмельницким, который в то время писался под универсалами: «Божиею милостью мы, Гедеон – Георгий – Венжик Хмельницкий, князь русский и сарматский, князь Украины и гетман запорожский».
Стрельцам тогда солоно пришлось под Чигирином, и они злились на Ромодановского. Теперь они рады были сорвать на нем свой гнев.
– А! Попался, старый ворон! Теперь закаркаешь!
Со старика сбили шапку, драли за волосы, рвали бороду, били по щекам.
– Это тебе за Чигирин, ина! Бери да помни!
– А помнишь, какие обиды ты нам тогда творил! Холодом и голодом нас морил!
– Ты изменою отдал Чигирин туркам! Ты стакался с Юраскою да с Шайтан – пашою… Вот же тебе, ешь!
– И сынка туда же! Яблочко недалеко от яблоньки падает, и такое же червивое.
И отца, и сына убили тут же.
– Любо ли? Любо ли?
– Любо! Любо! – И шапки летели в воздух.
Трупы убитых и отрубленные части их сволакивались в одно место и укладывались рядом. Между тем, Агапушка – юродивый, напевая свою зловещую песню, сшивал их дратвою и связывал мочалками, чтобы удобнее было волочить их на Красную площадь, к Лобному месту.
Но вот стрельцы, забастовав на этот день, стали уходить из Кремля. Зацепив бердышами изуродованные тела своих жертв, они волокли их сквозь Спасские ворота на площадь, а другие шли перед ними как бы в качестве почетного караула и выкрикивали:
– Сторонись! Боярин Артемон Сергеич едет!
– Боярин и воевода князь Григорий Григорьевич Ромода – новский изволит к войску ехать… расступись, православные!
– Дай дорогу! Едет князь Михайло Юрьич Долгорукий!
– Вот думный едет, расступись народ!
Между тем навстречу им шла другая толпа стрельцов с криками. Они вели кого-то и несли насаженную на копье каракатицу – сепию (Sepia – латинское название разновидности каракатицы, – прим. ред.).
– Послушайте, православные! – кричали они. – Вот мы поймали дьякова сына Ларькина, Ваську Ларионова… Он колдун и отец его колдун!
– Вот та змея, что царя Федора отравила: мы нашли ее у него в доме… Смотрите, православные! Вот змея!
И невинную каракатицу бросают на мостовую и колют ее копьями, рубят бердышами…
– И колдуна тако ж, коли его! На костер еретика!
И ни в чем не повинного дьячего сына тут же убивают.
Подходят Цыклер и Озеров. Стрельцы расступаются перед ними.
– Что, братцы, управились? – спрашивает Цыклер.
– Управились – ста… Только не дочиста: недоимочка осталась.
– Знаю… завтра доправите. Только вот что, молодцы: маленько-таки промахнулись вы. – Он указал на трупы Долгорукого и Салтыкова. – Промахнулись.
– Есть малость, обмахнулись: нечистый попутал.
– Есть тот грех, братцы… Кажись бы, нестыдно и повиниться перед родителями.
– Для че не повиниться? Повинимся, голова от поклону не отвалится.
– Знамо, не отвалится, не на плахе-ста.
– Ладно. Давай, ребята, два зипуна, – скомандовал Цыклер.
Зипунов явилось штук десять.
– Добро. Стели наземь, клади на них покойничков, Салтыкова да Долгорукого, да только бережно, с честию.
Изуродованные тела положили на зипуны и понесли по городу. За ними следовала толпа стрельцов и народа. В ногах у убитых шел Агапушка – юродивый и с хватающим за душу выкриком вычитывал: «Блажен му-у-ж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешников не ста-а, и на седалище губителей не се-е-де»…
Многие шли за этим странным шествием и плакали.
Процессия поровнялась с домом Салтыкова и остановилась. Все сняли шапки. В окне показалось убитое горем лицо боярина, сын которого, истерзанный в клочки, лежал на зипуне перед окнами отцовского дома.
Старик вышел на крыльцо. В сенях, слышно было, в рыданиях, раздирающих душу, колотилась мать убитого. Юродивый тянул свои мучительные причитания: «Но в законе его поучится день и но-о-чь»…
Стрельцы повалились наземь, бились головами о мостовую.
– Прости, боярин… грех попутал… маленько промахнулись… Прости Бога – для….
– Бог простит. Божья воля, – мог только произнести старик и заплакал.
Тело убитого внесли в дом, а из дому по приказанию боярина слуги вынесли исполинские серебряные ендовы и купели с вином и пивом, и с поклонами стали угощать убийц. Те истово крестились, вздыхали и пили.
– Царство небесное молодому боярину, вечный спокой.
Оттуда процессия двинулась дальше. Несли уже один труп, молодого Долгорукого.
Шествие поровнялось с домом Долгорукого и опять остановилось. Из дому никто не выходил, только отворились настежь ворота, и в них показались княжеские холопы. Из внутренности дома доносился раздирающий душу женский плачь. Это плакала жена убитого.
Стрельцы робко понесли тело во двор. Холопы провели их дальше, на узорчатое крыльцо, а оттуда в богатые княжеские хоромы. Разбитый параличом восьмидесятилетний старик лежал в постели, обложенный подушками, когда к нему внесли истерзанный труп сына и положили у ног. Старик даже не заплакал, только перекрестился.
Стрельцы со стоном повалились на пол.
– Батюшка князь, отец родной! Вели нам головы отсечь… нечистый попутал… Погорячился твой княжич… Вели нас казнить!
– Уже бо мертвого не воскресити, – тихо сказал князь, – Бог дал, Бог и взял… Да будет воля Его святая… А вы, братцы, подите и помяните моего сына.
Потом, обратясь к стоящим у его ног холопам, сказал:
– Отворите погреб с вином и медами… Пускай помянут княжича.
Робко ступая по полу, словно по горячим угольям, и боясь взглянуть в глаза старику, стрельцы вышли из хором. Им выкатили бочку с мальвазией и с пьяными медами и стали угощать.
В полном благодушии, с легким сердцем и с отуманенными головами стрельцы покинули двор Долгорукого и направились в стрелецкую слободу, как их догнал и остановил княжеский холоп.
– Прислушайте, господа стрельцы, – сказал он, низко кланяясь, – господин мой зло на вас умышляет… Берегитесь его! Только вы вышли из ворот, как входит эта к старому князю сноха его, князь – Михайлова жена, с плачем великим. А князь – от старый и говорит: не плачь, сношенька! Щуку-то они съели, да зубы остались… Недолго им побунтовать: скоро-де будут висеть на зубцах по стенам Белого и Земляного города.
– Вот как! – заревели стрельцы. – Зубы у щуки остались… Добро-ста: мы выбьем эти зубы!
– Назад, братцы! Порешим со щукой!
И они ринулись назад. Выломали ворота, вломились в княжеские хоромы и за волосы стащили старика с постели.
– А! У щуки зубы остались! На зубцах висеть будем!.. Вот же тебе! Иди к… сыну!
Старика выволокли за ворота, рассекли на части и бросили на навозную кучу, а Кирша притащил откуда-то огромную соленую щуку и положил на труп князя.
– На, князюшка, ешь! Вкусно… Это тебе за то, что наше добро ел…
В увлечении страсти, в опьянении от вина и крови стрельцы не заметили, как над Москвою после жаркого дня нависла черная грозовая туча. Грянул гром, полился дождь. Испуганная птица металась по небу. Молнии бороздили воздух, слепили глаза, удары следовали за ударами.
Москвичи в ужасе ждали преставления света…
VIII. В Немецкой слободке
Гроза, однако, как неожиданно разразилась над Москвой, так неожиданно и прекратилась. Тяжелые тучи, окутавшие было город и сыпавшие на оторопелое и без того население молнии за молниями, медленно, величаво отодвинулись за Воробьевы горы и унесли с собою молнии и громы, которые еще продолжали глухо стонать и грохотать на том краю горизонта, а молнии продолжали ломаными змейками падать на землю, тогда как здесь, над Москвою, снова раскинулось вечернее бледно-голубое небо и, казалось, радостно смотрело на обмытую дождем свежую, молодую весеннюю зелень садов, на зеленые крыши боярских домов, на золоченые маковки церквей, которые еще так недавно стонали и дрожали от набатного звона. Все это прошло, улеглось, утихло.
Словно бы утомленная и испуганная за день, Москва отдыхала и вдумывалась в то, что в ней сегодня совершилось. Вечер был тихий, прозрачный, с какими-то мягкими палевыми тенями, которые набрасывают такое волшебное очарование на северные весенние ночи, не знакомые югу.
На улицах никого не видать, хотя еще не поздно. Тихо везде. Только в Кремле перекликаются иногда часовые стрельцы, да в стрелецкой слободе иногда в вечернем воздухе прозвучит пьяный окрик или пронесется шальная песня и смолкнет.
Но особенно тихо на Кукуе, в немецкой слободке. Населявшие эту окрайную часть Москвы иноземцы очень хорошо понимали все роковое значение для них того, что происходило сегодня в Кремле: они видели, что это разгулялись не государственные, а чисто народные страсти, что возбуждены те именно инстинкты в массах, которые могут быть направлены на все иноземное, как враждебное этим разнузданным инстинктам. В том взрыве, который имел место в Кремле, сказалось «старое начало», особенно опасное для всего пришлого, иноземного, «не своего»; сегодня «бояре», а завтра, кто поручится? Завтра, быть может, «немцы» станут предметом травли. Немцы хорошо сознавали горючесть материала, которым, как порохом, было обложено их существование в Москве. Они знали, что всем, что происходило сегодня в Москве и в Кремле, руководила невидимая рука из того же Кремля, и они знали, они видели эту белую, пухлую ручку и не раз целовали ее…
Оттого так притихли на Кукуе немцы в вечер с 15 на 16 мая 1682 года.
На улицах Кукуя ни души. Все немецкие лавочки, магазины, винные погреба, слесарные и золотых и серебряных дел мастерские, окна часовщиков с выставленными напоказ заморскими курантами, что кукуют кукушкою и играют «хитростною музыкою, аки бы бесовским наваждением», все это давно закрыто. Вон и винный погреб Иоганна Монса де ла Круа, которого москвичи переделали в немца Ягана Монцова, закрыт тоже, и только на вывеске светятся золотые литеры «Заморские вина», да тут же, на вывеске, еще начертано золотом что-то, чего москвичи грамотеи, даже всесветный учитель и всяких божественных книжных хитростей глубокий проникатель Никита, неправо прозванный Пустосвятом, прочитать не умеет. А таинственное начертание это просто значит «Weinhandlung» (торговля винами).
Винный погреб Иоганна Монса занимает левую половину нижнего этажа чистенького двухэтажного домика с высокою черепичною крышею и с мезонином в три окна, на которых ярко светятся беленькие, доверху приподнятые занавески. В одном окне, которое открыто, виднеются два хорошеньких детских личика. Это – девочки и, по-видимому, сестры. Они смотрят на улицу и тихонько, с детской живостью о чем-то болтают, постоянно мешая немецкие слова с русскими.
– Ах, Иоганхен, не спорь, – говорила старшая девочка, – он сам был у нас.
– Кто? – недоверчиво спросила младшая.
– Этот маленький кениг, царь Петер Алексеевич.
– Когда? Я не помню.
– Ах, Анхен! Да тебя не было дома: ты была тогда с мамой у дяди Гордона или у Лефорта, не помню; а он приезжал со своим дядькой, с князем Голицыным, к папе купить маленький барабан. Ты, верно, забыла. Тогда он еще не был царем: это было на святки.
– А каков он персоной?
– Sehr hubsch! Зело хорош… Только он сказывал, что терпеть не может девочек.
– Фуй! Барбар московит…
Но мы войдем в самый дом Иоганна Монса и посмотрим, что в нем делается… Надо хорошенько запомнить этот дом на Кукуе: в последующих судьбах России он имел громадное значение…
В левой половине нижнего этажа этого дома, как я сказал, помещался винный погреб; правую половину занимали магазины с другими заморскими товарами, называвшимися тогда «сурожскими», все, что доставлялось морем, которое непременно называлось «Сурожским», или что вообще шло из «немецкой» земли – из голлендерской, аглицкой, францовской, шпанской, тальянской и иных.
Мы перейдем во второй этаж. Перед нами довольно просторная комната, убранная на заморский лад: простой резной диван с бронзовыми каймами, такой же овальный стол, стулья, на стене портреты Лютера и Алексея Михайловича, на угловом столике библия в кожаном переплете и «Gesangbuch». На противоположной стене часы с кукушкой.
Вокруг овального стола на диване и на стульях сидят человек пять мужчин в немецких платьях. Перед ними недопитые кружки с пивом. Говорят они по-немецки.
– Конечно, это ее рук дело: но едва ли оно выгорит, – говорил высокий пожилой мужчина в военном камзоле.
– Но почему вы так думаете, генерал? – спросил хозяин, Иоганн Монс, красивый брюнет с черными живыми глазами и с небольшой проседью в курчавых волосах.
– Не к тому дело идет, – отвечал тот, кого называли генералом, – положим, она и выиграет, но надолго ли останется она в силе? Ведь у нее под боком богатырь растет.
– Это молодой царь Петр?
– Да, герр Монс… Это огненный мальчик.
– Да, – заметил третий собеседник, моложе других, – но ведь огненный мальчик может сгореть, герр Лефорт?
– Да, как сгорел царевич Димитрий в Угличе, – отвечал тот, кого называли Лефортом, – вспомните, генерал, Годунову опаснее было играть огнем: он был простой подданный, и все же рискнул, и очутился на троне. А тут и рисковать нечем: она царевна, она уже управляла государством при больном царе Феодоре. Но теперь она поняла, что когда подрастет огненный мальчик, ей дадут отставку, как говорится, с мундиром: рясу черницы… Она и хочет избежать этого: я догадываюсь об ее игре, вижу, какую она карту хочет убить…
– Какую же, мейн герр? – спросил Монс, сильно заинтересованный.
– А козырного туза.
– О, нет, герр Лефорт! Нет такой карты, которая бы убила козырного туза.
– Есть! Эта карта – стрельцы.
Тот, которого называли генералом, молчал. Это был знаменитый служака Патрик Гордон, который несколько лет тому назад отстаивал Чигирин, когда его осаждали турки с Юраскою Хмельницким, а Ромодановский и гетман Самойлович медлили подать ему помощь. Он внимательно слушал Лефорта, но при последних словах его покачал головой.
– Не думаю, чтобы даже стрельцы решились на это, – сказал он, – я давно живу в России, знаю русский народ, достаточно изучил и стрельцов: никто из русских не поднимет руку на царя.
– Не говорите, генерал, – возразил Лефорт, – ведь вот же теперь стрельцы утверждают, что царь Федор отравлен придворными. Значит, в возможность отравы царя русскими же они верят.
– Говорят, что подозревают нашего друга, милого доктора Даниэля фон Гадена, – заметил хозяин.
– Да, это скверно, очень скверно, – подтвердил Гордон, – это «немцем» пахнет.
– О! Спаси Бог и помилуй.
– В этой стране все возможно, – продолжал Лефорт, – пустят какой-нибудь нелепый слух, что колокола сами будто бы звонили или Иверская плакала, ну и мятеж: и огненного мальчика не пощадят.
– Это все так, – согласился Гордон, – но что бы впредь не было, мы, немцы, должны смотреть в оба, и если даже возьмет верх царевна, мы, повинуясь ей, должны добиваться одного: привлечь к себе огненного мальчика. Уж он и теперь любит потихоньку от матери бегать сюда со своим дядькой. Ему, кажется, Кукуй наш нравится больше скучной Москвы. Еще недавно, пред самой смертью брата своего, он вырвался из Кремля в нашу слободу и всю аптеку у господина фон Гадена вверх дном поставил: покажи ему, что это, расскажи, как это делается, против чего это! Фон Гаден просто с ног с ним сбился. А то как-то забрался ко мне в конюшню, лошадей смотреть, потом велел вести себя к часовому мастеру; зашли в кузницу, и он непременно хотел сам себе стрелу выковать. А когда Голицын сказал ему, что пора домой, он раскапризничался: говорит, что во дворце скучно, что мать постоянно плачет и жалуется, что придворные все такие дураки, и что в Кукуе ему весело, а что русские ничего не умеют ему показать…
– О! Это удивительный мальчик! Das ist ein Phenomen! – глубокомысленно заметил хозяин.
– Да, это действительно феномен, и мы должны беречь его как для пользы государства, так и для нашей собственной пользы.
– О, да! Мы это тайно должны делать.
– Конечно, тайно.
В это время в комнату вошли две девочки в белых платьицах, те самые девочки, миловидные головки которых мы заметили в окне. Они были высокенькие и стройненькие. Словно по команде, они сделали книксен.
– А! Фрейлен Модеста! Фрейлен Иоганна! Мои невесты! – с улыбкой встретил их Лефорт.
– Гутен абенд! – присели девочки.
– Вы что, майне киндер? – ласково спросил Монс.
– Мама прислала нас прощаться, спать пора, – сказала старшая.
– Ах, папа! Еще рано, – надула губки младшая, – я совсем не хочу спать.
Отец засмеялся, с любовью трепля девочку за плечо.
– У, огонь! – ласково говорил он. – Вот и девочка моя – огненная.
– А разве есть и огненный мальчик? – спросила она.
– Есть, майн кинд.
– Какой же он, папа?
– Огненный.
– Ну, уж! Ты всегда, – надулась девочка, – я говорю, кто он?
– Не скажу, майн кинд: узнаешь, спать не будешь.
– Нет, папа, скажи: я буду думать о нем и усну.
– Ах, Анхен, – вмешалась старшая сестра, – я знаю, о ком говорит папа. О нем, о маленьком кениг Петер.
– Фуй! – брезгливо сказала Анхен.
– Вот как! – засмеялся Лефорт.
– Какова наша кенигин! – улыбнулся добродушно и Гордон. – Почему же он тебе не нравится?
– О! Он барбар московит, – презрительно передернула плечом бойкая Анхен. – Он говорит, что терпеть не может девочек.
Все засмеялись. Но в это время послышался осторожный стук в крылечную дверь. И хозяин, и гости тревожно переглянулись. Кому бы это быть? Стук повторился настойчивее. Хозяин тихонько подошел к окну и глянул вниз.
– Ба! Да это наш друг фон Гаден. Что бы это значило? Надо пойти отворить ему… А вы, майне киндер, спать, спать… шляфен зи воль…
Девочки присели и убежали к себе наверх.
Через минуту Монс ввел нового гостя. Это был мужчина лет шестидесяти, седой, с большою лысиной. Лицо его изобличало сильное волнение или испуг. Войдя в комнату, он в изнеможении опустился на стул.
– Что с вами, мой друг? – с участием спросил хозяин.
– О, я пропал! – слабым голосом отвечал пришедший и с отчаянием схватился за голову.
– Что же случилось? – спросил Гордон, подходя к нему.
– Меня ищут стрельцы… хотят убить… говорят, будто я отравил царя..
– Но может быть, это только болтают?
– Нет… вот… сами прочтите…
Дрожащею рукою он вынул из кармана измятый листок бумаги и подал Гордону.
– Вот тут все… одних уж убили…
Гордон расправил листок и стал читать:
– Список царским злодеям… Бояре, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, князь Григорий Григорьевич Ромодановский…
– Этого уж убили с сыном Андреем, – пояснил фон Гаден глухим голосом.
– Князь Михаил Юрьевич Долгорукий, – продолжал Гордон.
– И этот убит, и старик отец убит.
– Что за варвары! – невольно вырвалось у Лефорта.
– Читайте, генерал, – слабо вздохнул фон Гаден.
– Кирилл Полуехтович Нарышкин, Артамон Сергеевич Матвеев…
– Изрублен в куски, – снова пояснил Гаден.
– Иван Максимович Языков, Иван Кириллович Нарышкин, постельничий Алексей Лихачев, казначей Михайло Лихачев, чашник Семен Языков, думные дьяки, Ларион Иванов…
– Убит.
– Дохтур Данилка немчин…
– Это я, – глухо сказал пришедший.
– Но тут еще много, – заметил Гордон, пробегая глазами список.
– Да много что-то… Только что мне делать?
Гордон задумался. Все прочие молчали. Все ясно видели, что кровавая драма только начинается. А какой будет ее последний акт, этого никто не мог сказать. Пока только один «немчин» попал в список обреченных на смерть. А если зверь разлакомится первой кровью? Если после Кремля пойдут на Кукуй? У Гордона немного немецких рейтаров… Но, что загадывать об этом! Надо во что бы то ни стало спасти обреченного уже на заклание… Гордон выпрямился.
– Вам здесь оставаться нельзя, – сказал он, подходя к фон Гадену и кладя руку ему на плечо, – по крайней мере эти дни, пока звери не напьются крови… Похмелье скоро настанет. Вам надо спасаться вплоть до конца этого похмелья: надо уйти совсем из слободки и из Москвы.
– Но как уйти, вот вопрос! – со стоном спросил несчастный.
– Надо переодеться… Надо нарядиться русским, мужиком, нищим, надеть лапти.
– Скорее одеться странником, монахом… Они, эти варвары, уважают странников, – заметил Лефорт.
– И посох в руки, и котомку, – подсказал Монс.
В это время среди ночной тишины резко выкрикнул и затянул сильный мужской голос:
Наварю я пива пьяного,
Накурю вина зеленого…
Слышно было, что поет пьяный. Гости Монса переглянулись.
– Это поет стрелец, – сказал Гордон, – я эту песню знаю… Плохой знак…
– А что? – спросил тревожно Монс.
– Пить начали, теперь им удержу не будет.
Пьяный голос между тем пел, все более и более приближаясь:
Накурю вина зеленого,
Напою я мужа – дьявола,
Облоку его соломою,
Положу-то посередь двора,
Да зажгу его лучиною…
– А! Меня, стерва, лучиною! – сам же себе отвечал пьяный голос. – Я те покажу лучиною… меня-то соломою! Ах, ты, паскуда! А! Что выдумала…
– О, майн Готт, майн Готт! – отчаянно всплеснул руками фон Гаден. – Боже! Что за варварский народ… И зачем только я сюда приехал!..








