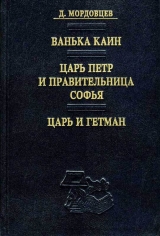
Текст книги "Царь Петр и правительница Софья"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
XIII. Прения о вере
5 июля с самого утра в Москве опять творилось что-то необыкновенное. Утро же выдалось погожее, ясное, но не жаркое: легким ветерком перегоняло по небу беловатые разрозненные тучки, которые на минуту заволакивали собой солнце, а потом снова уносились в неведомую даль.
На этот раз не было ни набатного звона, ни барабанного боя, а между тем народ валил к Кремлю неудержимыми волнами. Впереди этого моря голов идут вожаки, седые головы и бороды, словно серые гусаки впереди бесчисленного гусиного стада. Во главе выступает знакомый нам площадной оратор Никита Пустосвят. В руке у него высокий крест, какой бывало носили перед патриархом Никоном, но только истовый крест, осьмиконечный, а не «латынский крыж». За Никитою несли старинное, тоже истовое евангелие; за евангелием, на могучих плечах и раменах ревнителей двигалась, плавно колыхаясь, огромная, страшная, закоптелая икона – изображение «Страшного Суда», на которое православные взирали с ужасом. Да и как не ужасаться! Вон черти гонят в ад целые своры неверных царей, латинских архиереев, самого проклятого папежа, грешных князей, бояр, воинов… А в аду уж жарят грешников: кто в смоляном котле кипит, кто горячую сковороду лижет, кто за ребро повешен… А там кого съел зверь – зверь того тащит, кого сглотнула рыба – рыба тащит… За «Страшным Судом» несут образ Богородицы, лика почти не видать, так закоптела она от свечей и ладану… Виднеются только белки глаз величиною в добрую ложку. За Богородицею волокут вороха старых безграмотных книг, в которых немало навранного и перевранного; но это-то и дорого, это все истовое, старинное, чего Никонишко – еретик не успел испортить: тут и «во веки веком», а не еретическое «во веки веков», и матушка «сугубая аллилуия», и батюшка аз в «Верую», и киноварные заставки в косую сажень… Тут же волокут налои с Адамовою головою на покрывальном плате, подсвечники со свечами в конскую ногу…
За ними валом валит народ, ахает, крестится, дивуется…
– Экие постники, святые-то отцы! На что только и дышут!
– Да, не толсты брюха-то у них, не как у нонешних, новеньких!
Ввалившись в Кремль и затопив его почти весь своими зипунами, однорядками, рясами да подрясниками, толпа главным образом скучилась у Архангельского собора. «Отцы» – вожаки, усталые, но гордые, торжествующие – бросились расставлять свои налои, раскладывать на них закоптелые образа, захватанные и прокапанные воском истовые книги. Запылали свечи в конскую ногу. Толпа напирает. Слышатся благочестивые и неблагочестивые возгласы…
– За батюшку «аза» постоим! За перстное сложение головы положим!
– Что ты прешь, леший! Кишки выдавить, что ли, хочешь!
– Да ты не ори!
И вместо перстного сложения, тут же – кулак в морду, да под микитки, да в рожество, да за волосы…
Царевна Софья Алексеевна видит все это из окна и злится. Она посылает узнать, что патриарх? Ей докладывают: святейший патриарх в Успенском поет молебен и плачет.
– Что же никто не выходит на собор, с отцами говорить о вере?
– Страху ялися, толстобрюхие!..
– Да мы их за косы, натко-ся! – слышатся похвальбы в толпе.
Трение зипуна о зипун за версту слышно. Запах дегтя, ладана, деревянного масла, лука невыносимый. Но вот кто-то робко выходит из Успенского собора. В руках у него бумага.
– Кто это идет? Какой поп?
– Да это Василий, верхуспасский протопоп.
Дрожа всем телом, протопоп поднимает вверх бумагу.
– Православные! Отцы и братия! Меня святейший патриарх прислал… Указал вычесть вам обличение на Никиту – расстригу, на Пустосвята, как он отрекся от раскола…
Никита побагровел, и крест задрожал в его руках.
– На Никиту! Обличение! Вот же тебе! Вот! – накинулись стрельцы на протопопа.
– Каменьем его, еретика Ваську!
– В ухо! В морду!
– Стой! Стой, братцы! – вступился за своего обличителя сам Никита. – За что его бить? Он не сам собою пришел, патриархом прислан: пущай читает.
Полумертвого от страху, с подбитым глазом, протопопа поставили на скамью. Но его никто не слушал. Гам, рев, крик неизобразимые… А толпа все напирала…
– Что же собор! Для – че нейдут патриарх, цари, весь синклит?
– Оробели! – кричал Никита, видимо торжествуя. – Какие они пастыри? Наемники! Что их церкви? Хлевы свиные, еретические амбары, капища латынские!
Но вот из Успенского собора стал выходить «освященный собор», высшее духовенство – митрополиты, архиереи. Перед ними двигалась громадная процессия с книгами: это патриарх велел нести через Красное крыльцо в Грановитую палату книги греческие, еврейские, славянские, чтобы показать народу, какими сокровищами обладает церковь для борьбы с ее противниками, с мятежниками.
– Ишь похваляются! – ядовито замечал Никита, указывая на книги. – Много наплетено там от грамматики да арифметики… Нам не арифметикию подавай, а истовый крест… А то на! Плевать мы хотим на их арифметикию да грамматикию!
Но патриарха не видно было в этой процессии с книгами: боясь за свою жизнь, он прошел в Грановитую палату по Ризположенской лестнице.
Скоро раскольников позвали во дворец: посредником между ними и двором был Хованский.
Громыхая сапожищами, словно каменными ступами, кашляя и сморкаясь, по Домострою, «вежливенько, тремя персты, в руку и на пол, к сторонке», творя истовое крестное знамение ото лба до пупа и от правого плеча к левому, ввалились в Грановитую палату «отцы» и братия с ревнители, аки стадо велие. Впереди, как и по городу, выступал с крестом Никита, аки Голиаф некий. За ним «отцы» с евангелием, со «Страшным Судом», с налоями и свечами в косую сажень, разложили книги по налоям, кресты.
Как ни был смел и дерзновен о Христе Никита, но при вступлении в палату и он смутился. Ему представилось не виданное никогда зрелище: на возвышении, на державных, на чертожных местах не цари восседали, а бабы!.. Слыханное ли это дело!.. На царских тропах, кто же? Две девки! Да как после этого и земля еще держится! На первом царском месте сидела Софья – царевна, на втором ее тетка Наталья. Софья посадила тетку рядом с собой затем только, чтоб унизить ненавистную ей мачеху, «медведицу», мать младшего царя. И «медведица» сидит гораздо ниже, рядом с царевной Марьей Алексеевной и патриархом, и сидит она такая бледная, хмурая, приниженная. Но и Софья заряжена: в душе она адом дышит и на раскольников, и в особенности на старого Тараруя, который невидимо заправлял всею этою историей, этим «шумством», а теперь сидит тут в числе бояр чуть ли не первым после Васеньки Голицына. Только сердце ее и распускается немного, словно маков цвет, когда она поймает ласковый взгляд серых очей своего ненаглядного Васеньки. А он сидит, таково хорош! Плечи, что косая сажень, большая бородища расчесана волос к волосу и серебром отдает… А что Волошка в воде видела? Васенька сидит рядом с нею, высоко-высоко, и на седоватой головушке Васеньки златой венец…
– Почто пришли в царские палаты и чего требуете от нас?
Она вздрогнула. Это говорил патриарх, да так тихо-тихо.
И Никита вздрогнул, как конь, почуявший боевой призыв.
– Мы пришли к царям – государям побить челом об исправлении православной веры, чтоб дали нам свое праведное рассмотрение с вами, новыми законодавцами! – дерзко сказал фанатик.
– Вот так отрезал! – послышался шепот в задних рядах.
– Ай да Микита! В карман за словом не полезет…
Софья повела глазами на говоривших, и они прикусили языки… «У! Глазок!..» Патриарх обвел глазами все собрание и заговорил, не глядя на Никиту:
– Чада моя и братия! Это дело не ваше: не вам подобает исправлять церковные книги. Простолюдины не судят архиереев: архиереев токмо архиереи и судят, а вы должны покоряться матери нашей, святой церкви. У нас книги исправлены с греческих и наших харатейных книг по грамматике, а вы грамматического разума не коснулись и не знаете, какую он содержит в себе силу.
Это указание на невежество коновода раскольников взорвало его: Никита вспыхнул, и даже крест дрогнул в его руках.
– Мы пришли не о грамматике с тобою говорить, а о церковных догматах! – закричал он. – Вот я тебя спрошу, а ты отвечай: зачем на литургии вы берете крест в левую руку, а троичную свечу в праву? Али огонь честнее креста!
– Ну, загнул! – опять послышался шепот. – Разогни-ка!
– Ижь и язычок же! Бритва! Н-ну!
– А и впрямь: что честнее, огонь или крест?
– Вестимо крест…
Никита между тем гордо ждал ответа. Не желая говорить с грубым мужиком, патриарх перенес свой взгляд на сидевшего ближе к Никите холмогорского епископа Афанасия. Тот понял взгляд патриарха.
– Ты спрашиваешь, Никита, что честнее… – начал было он.
Но Никита бросился на него с азартом и замахнулся рукою…
– Что ты, нога, выше головы ставишься! – закричал он с поднятым кулаком. – Я не с тобою говорю, а с патриархом!
– Так его: в морду! По сусалам!
– Нога выше головы!
Но стрельцы схватили Никиту и оттащили, не дали ударить. Того и гляди, произошла бы резня. На всех напал страх. Софья вскочила с места, глаза ее сверкали гневом.
– Что это такое! В наших глазах он архиерея бьет! Без нас наверное бы убил!
И раскольников, и стрельцов испугал этот звонкий девический голос, эти глаза, метавшие искры. Она была в этот момент очень хороша.
– Нет, государыня, он не бил, только рукою отвел, – послышались робкие голоса.
– Тебе ли, – продолжала царевна, гладя сердито на фанатика, – со святейшим патриархом говорить! Не стоишь ты и на глазах быть у нас! Разве ты не помнишь, как ты отцу нашему и святейшему патриарху и всему освященному собору принес повинную, клялся великою клятвою: аще вперед стану бить челом о вере, да будет на мне клятва святых отец и семи вселенских соборов! Так говорил ты тогда, а теперь опять за то же принялся!
Но фанатик не был этим уничтожен, хоть слова царевны огнем прошли по всему его телу, по его памяти, по всему его прошлому… Да, он клялся тогда… он струсил… Один Аввакум не струсил, на костер пошел… Стыдом залились его глаза, помутились, стыдом ли, полно? Не злобой ли, вызванной краскою стыда?.. «Так и я пойду на костер!.. Со стыда, со злобы решается человек на смерть…» – Кругом мертвая тишина, Никита понял весь ужас этой тишины…
– Не запираюсь, государыня! (И мертвая бледность сменила краску на его щеках.) Не запираюсь: поднес тогда повинную, за мечом да за срубом!.. (Он оглянулся на своих, глянул на Хованского.) А на челобитную мою, что я подал на соборе, никто мне ответа не дал из архиереев… Сложил только на меня Семен Полоцкий книгу «Жезл», а в ней и пятой части против моего челобитья нет… Изволишь, я и теперь готов против «Жезла» отвечать, и если буду виноват, то делайте со мной что хотите!
– Не стать тебе с нами и говорить и на глазах наших быть! – с презрением отвернулась от него Софья. – Чтите челобитную.
Думный дьяк начал читать челобитную. По мере того, как в читаемом документе усиливались обвинения против исправителей книг, по мере перечисления нарушений святости разных «азов», да «сугубых» и «трегубых аллилуй», да «семи просвир», да «некоей проклятой ижицы», которую якобы батюшке Христу еретики подкинули[2]2
В старых книгах слово Иисус писалось: Исус – без и, т. е. без ижицы; а Никон велел печатать с ижицей. И вот из-за этой ижицы, которую будто бы еретики батюшке Христу подкинули, раскольники шли на костры. – Прим. авт.
[Закрыть], по мере нагромождения в челобитной разных оглушительных нелепостей, казавшихся важными, в глазах Никиты сверкало дикое торжество, а Софья нервно теребила золотую бахрому своего богатого сиденья. Но когда дьяк дочитал до того места, где говорилось с тем же диким азартом, что чернец Арсенька, еретик и жидовский обрезанец, вместе с проклятым патриаршишкою Никоном поколебали душою царя Алексея, Софья не выдержала и опять вскочила с места, взволнованная и пунцовая до корня волос.
– Если Арсений и Никон – патриарх еретики, то и отец наш и брат такие же еретики! – вскричала она, слезы готовы были брызнуть из ее глаз. – Выходит, что и нынешние цари не цари, патриархи не патриархи, архиереи не архиереи!
Слезы разом брызнули из ее глаз. Князь Василий Голицын схватился было за рукоятку ножа, спрятанного у него под кафтаном, и только значительно посмотрел на царевну. Она закрыла лицо ладонями и разрыдалась.
– Такой хулы мы не хотим слышать! – плакала она. – Не хотим! Наш отец и брат не еретики. Мы пойдем все из царства вон!
Она сорвалась совсем с трона и отошла в сторону тяжело дыша. Все заволновалось. Бояре схватились с мест, стрелецкие выборные тоже. Многие плакали.
– Матушка! – первым лебезил старый Тараруй. – Государыня-царевна!
– Зачем царям – государям из царства вон идти! – поддерживали другие. – Мы рады за них головы свои положить!
Но сзади, в толпе, раздались другие голоса.
– Пора, давно пора тебе, государыня, в монастырь.
– Полно-ка царством-то мутить! Ишь выискалась! Иди!
– Скатертью тебе дорожка, проваливай!
– И точно…. Нам бы здоровы были цари – осудари, а без баб пусто не будет!
Она все это слышала и, как ужаленная, путаясь в складках своего платья, опять быстро взошла на возвышение. Слез как не бывало. Она обратилась прямо к стрельцам.
– Слышите! Все это оттого, что эти мужики на вас надеются, оттого и ворвались сюда с дерзостью! Чего же вы смотрите? Хорошо ли таким мужикам – невеждам к нам бунтом приходить, творить нам всем досады и кричать? Неужто вы, верные слуги нашего деда, отца и брата, в единомыслии с раскольниками? Вы и нашими верными слугами зоветесь, зачем же таким невеждам попускаете? Уж коли мы должны быть в таком порабощении, то царям и нам здесь больше жить нельзя: пойдем в другие города и возвестим всему народу о таком непослушании и разорении.
Стрельцы струсили. А что если вся русская земля встанет за царей и пойдет на Москву и на стрельцов? Цыклеру как умнейшему не раз это приходило в голову: «Выкурят нас из Москвы, как тараканов, как поляков когда-то выкурили…»
Он поднялся с места и подошел к возвышению, к чертожному месту.
– Мы великим государям и вам, государыням, верно служить рады, – сказал он кланяясь, – за православную веру, за церковь и за ваше царское величество готовы головы свои положить и по указу вашему все сделать. Токмо сами вы, государыни, видите, что народ возмущен, и у палат ваших стоит множество людей: только бы как-нибудь этот день проводить, чтоб нам от них не пострадать… А что великим государям и вам, государыням, идти из царствующего града, сохрани Боже! Зачем это?
– Иван правду говорит, – послышались голоса.
– Что ж! Мы ничего, мы служить рады, нам что! Наплевать!
Софья опять села на чертожное место и, когда оглянулась, то поймала очень выразительный взгляд князя Голицына… «Светик Васенька придумал что-то», – подсказал ей этот взгляд, а еще более ее собственное сердце. Голицын снова повел глазами по рядам бояр и думных, поймал взгляд Сумбулова, и оба они незаметно скрылись из палаты.
«Что бы мог придумать мой сокол? – билось в сердце влюбленной царевны. – И Сумбулов с ним же вышел… Что б оно было такое?»
Никита угрюмо молчал… «В срубе сожгут али голову отсекут?»
Чтение челобитной, наконец, кончено. Патриарх берет в одну руку евангелие, писанное митрополитом Алексеем, в другую соборное деяние патриарха Иеремии с символом веры.
– Вот старые книги, – говорит Иоаким, – и мы им истинно последуем.
Все молчали. Из среды духовенства выходит священник с книгой и кланяется царевнам, патриарху и всему собору. Видно, что в руках у него старая книга. Никита даже узнает ее: она напечатана до Никона, еще при патриархе Филарете. Глаза его блеснули торжеством.
– Знаешь эту книгу, Никита? – спрашивает его священник.
– Мне ль не знать ее! – слышится гордый ответ.
– Ты ей веришь?
– Кто б ей не поверил!
– До слова ей веришь, Никита? – переспрашивает священник.
– До слова, яко Самому Господу Богу!
Священник развертывает книгу на одном месте и подает Никите.
– На, читай вслух.
– Кое место честь?
– Чти: в великий четверток и в страстную субботу…
– В великий четверток и в страстную субботу разрешение мяса и елея…
Книга вываливается из рук фанатика. Общее смятение. Никита поражен.
– Что, Никитушка? – спрашивает ехидный священник. – Теперь веришь старым книгам? Мясо в эки дни пропечатано…
Никита отчаянно махнул рукой и отвернулся.
– Такие же плуты печатали, как и вы! – мог только сказать он.
Увидев поражение «столпа» своего и апостола, раскольники заволновались. Грановитая палата наполнилась невообразимым гамом, таким гамом, какого, по тогдашнему выражению, «никакое человеческое писало описать не в состоянии». Диспут ревнителей состоял только в том, что они поднимали вверх правые руки с двумя выставленными в виде сорочьих хвостов пальцами и неистово вопили:
– Вот как, православные! Вот как!
– За батюшку аза постоим!
– За матушку сугубую аллилую головы положим!
– Вон из Христа – света проклятую ижицу!
Но Цыклер и выборные стрельцы прикрикнули на них, и они опешили.
– По вашему челобитью указ великих государей будет после! – объявила Софья. – Идите по домам.
Толпа потянулась из палаты, кресты, налои, книги, свечи, все двинулось, громыхая сапожищами и подымая с торжеством вверх два пальца.
– Победихом! Победихом! Во как веруйте, православные!
На дворе их ожидало необыкновенное зрелище, от которого они пришли было в умиление. Весь двор уставлен был столами, а на них горы калачей и саек, да громадные, как купели, медные ушаты с вином и водкой. «Отцы» вообразили, что это их хотят угостить, яко победителей, и уже стали было подбираться к ушатам и ендовам, но бывший тут со стрельцами князь Василий Голицын остановил их:
– Проходите, проходите! Святым отцам этого не полагается, им один елей, а у нас елею нетути.
Между тем Сумбулов воротился в Грановитую палату и, пробравшись незаметно к Софье, сообщил ей что-то тихонько на ухо. Царевна кивнула головой и улыбнулась. Потом она обратилась к остававшимся в палате выборным от стрельцов:
– Верная пехота наша, не променяйте нас и все российское государство на Никиту и пятерых чернецов, не дайте в поругание святейшего патриарха и всего освященного собора!
За всех стрельцов отвечал Цыклер:
– Государыня! Нам до старой веры дела нет: это дело святейшего патриарха и всего освященного собора!
Но некоторые из стрельцов оказались порядочными крикунами и буянами.
– Мы-ста еще тряхнем стариной! Мы не дадим старой веры в обиду!
– Девка всем глаза отвела, братцы! Смутьянка! Под клобук девку! – орали они, шумною толпою выходя из Грановитой.
Но тут они и рты разинули. Вид столов с горами калачей и саек, ушаты, чаны и ендовы в полтора, в полтретья и в полчетверта ведра, вид всего этого парализовал их гражданский смысл: они обо всем забыли и видели только царские ушаты с зеленым вином да калачи в доброе колесо…
И сама продувная «смутьянка» вышла на крыльцо… Так и поет соловьем!
– Милости прошу отведать хлеба-соли нашей… Устали, чаю, милые… Откушайте, не побрезгайте нами, сиротами… Пригубьте винца…
И пригубили! Иной с головой в ушат влез. От калачей животы стали точно наковальни. С зелена вина очи рогом лезли…
И досталось же после этого «отцам»! И Никита получил чаемое: ему отсекли голову… Говорят, что когда голова его отделилась от туловища, правая рука все силилась сотворить «перстное сложение».
XIV. Темный донос
Прошло два месяца со дня прений с раскольниками в Грановитой палате.
Ночью с 1 на 2 сентября к селу Коломенскому приближаются какие-то три темные фигуры. Кто они такие, в темноте ночи нельзя разобрать, да и идут они, как можно заметить, не для того, чтобы кто-нибудь их видел: пробираются сторонкой от дороги, видимо, таясь от кого-то. Вон уже во мраке виднеются ограды коломенского дворца, высится влево надворотная башня и слышно, как на шпице ее поскрипывает от ветра жестяной змей, показывающий обитателям коломенского дворца направление ветра.
Не доходя нескольких десятков сажен до ворот, неизвестные прохожие остановились и прилегли к земле, вероятно, для того чтобы прислушаться. Так они пролежали молча несколько минут.
– Кажись, ничего не слыхать, – послышался тихий шепот.
– Должно никого нету у ворот, – отвечал другой голос.
– Как нету! А часовой?
– Ну може, заснул… На Новый год, чай, поднесли ему.[3]3
В то время Новый год начинался не с 1 января, а с 1 сентября. – Прим. авт.
[Закрыть]
– Так кто ж, братцы, полезет? – спросил первый голос.
– Знамо, ты… Ты человек бывалый, ратный, под Чигирином вон бывал, турских да крымских языков добывал.
– Что ж! С Божьей помощью поползу.
– А воск у тебя? Не обронил?
– Зачем его ронять?
– Ну с Богом… Помоги, Владычица.
– А ежели что, братцы, смотри выручать.
– Знамо, за тем пришли; не забавка это, государево дело.
Одна фигура отделилась и поползла по земле. Она то и дело останавливалась, припадала ухом к земле и зорко вглядывалась вперед… Треснула какая-то щепочка.
Что это! Как будто кто сопит вблизи. Да, точно, ближе, ближе, шелестит… Ох!..
– Фу ты, нечистый! – чуть не вскрикнул тот, кто пробирался к воротам. – Еж! Ах гадина!
Еж испуганно засопел и скрылся во мраке. Вот и ворота, а часового не видать. Ползет еще ближе… А! Часовой спит, опершись на бердыш, и даже носом посвистывает. Тем лучше.
Темная фигура у самых ворот. Вот она осторожно приподнимается на ноги и торопливо прикладывает что-то белое к черным железным воротам. Должно быть, бумага. Да, бумага, это видно. Затем фигура опять припадает к земле и с быстротой уползает во мрак.
– Прилепил? Крепко?
– Крепко. Бог помог, не упадет.
– Молодец! Ну теперь давай Бог ноги. – И темные фигуры исчезли во мраке. Прошло немного времени, как у ворот что-то завозилось и зевнуло.
– Ишь, леший! Попутал-таки… вздремнул малость, – проворчал часовой, это был он.
И дворцовый страж начал шагать и позевывать.
– А все Степанидка, она поднесла. Да что ей! Дворская: от самой Родимицы в ключах ходит.
За оградой пропел петух, да так лениво, сонно, как будто бы он исполнял эту повинность неохотно или как будто и ему Степанидка поднесла. Ему отвечал другой, бодрый, свежий голос.
– Должно, третьи петухи, да, третьи… К утрею дело идет.
Он все шагал и позевывал. Но вдруг остановился.
– Кой прах! Что это белое на воротах проявилось?..
Свят-свят! Чур ему… Вот наваждение!.. Боязно и подойти… А подойти надоть, а то полусотенный увидит… Ах, прах его побери… Господи Исусе, Царь Давыд во кротости, Неопалимая Богородица!.. Ах, Степанидка! Дернуло ж тебя!
И почтенный стражник боязно приблизился к белому пятну на воротах. Но протянуть руку никак не решался.
– Ах ты, Господи, Неопалимая! А может, оно заворожено, може, на чью жисть положено, Господи! Нешто перекстясь, бердышом полыснуть?.. А ну-ка, святой Спас в Чигасах, помоги! Свят-свят!
И он хватил бердышом в ворота. Бумага свалилась на землю.
– Упала… Свят-свят… Царь Давыд во кротости…
Он поднял бумагу и со страхом вертел ее в руках.
– Кому ж я отдам ее? Полусотенному, ни в жисть! Запытает: скажет, уснул, а воры и подметнули. Ах ты, Господи! Вот напасть! Не ждал, не гадал, а въехало… А то возьму, да и порешу ее совсем, дуй ее!.. Так нет, а ежели что? Тогда не приведи Бог… Може, оно неспроста, може, подвох под меня лихой человек подвел с умыслу, а как сыщется допряма, ну и пропал.
Уже и утро на дворе, а часовой все стонет да охает, как ему быть с этой бумагой. Но, наконец, счастливая мысль озаряет его. Он вспомнил о князе Василье Васильевиче Голицыне.
– Он добрый, дюже добер, ему можно, – и часовой даже осклабился.
Он вспомнил, что на днях тоже вздремнув у ворот, он услыхал, что кто-то идет к воротам, да спросонок и крикнул: «Куда, леший, прешь!». Оказалось, что это сам князь Василий Васильевич! И он не только не рассердился, а посмеялся, похлопал часового по плечу и сказал: «Так, так, молодец! Стереги двор великих государей и всякого лешего останавливай»…
– Ему и отдам, князь Василью.
Действительно, ранним утром по дороге от Москвы показалась карета Голицына, хорошо знакомая караульному. Он заранее широко распахнул ворота, оправился, обдернул полы кафтана, поправил на голове шапку и, ощупав за пазухой предательскую бумагу, выставил вперед лезвие бердыша, чтобы отдать честь великому боярину.
Подъехав к воротам и увидав напряженную фигуру караульного и растерянное выражение его добродушного лица, Голицын улыбнулся ему из окна кареты.
– Стой, стой! Осударь, ваша милость, князь-осударь…
Он растерялся и запнулся. Кучер с удивлением остановил лошадей, а Голицын невольно рассмеялся.
– Что, милый, опять вздремнул? Опять леший…
– Нету, осударь, милость ваша, – дрожащею рукою он полез за пазуху. – Вот письмо вашей милости.
– Какое письмо? От кого?
– Не ведаю, князь-осударь. Ночью, ночным временем (он подал бумагу князю) принес, не ведаю кто, должно, нечистый…
– И отдал тебе?
– Нету, осударь, я не брал, отбивался бердышом. А он, черный с рогами, так и прет…
– А кто письмо разрубил?
– Я, осударь, моя в том вина. Я как хвачу его, лешего, бердышом по руке, да вот ненароком и прорубил письмо, ей-ей, ненароком… ни в жисть… а он, окаянный, с рогами…
Голицын между тем заглянул в письмо, и по лицу его скользнула неуловимая тень, не то улыбка, не то изумление.
– Ненароком, осударь, ей-ей… с рогами…
– Добро, добро… спасибо, милый. Трогай!
И карета тронулась. Караульный перекрестился от радости.
– Ну, теперь и полусотенный ни-ни… Ах, Степанидка, Степанидка!
Выйдя во дворе из кареты, Голицын направился во дворец через то крыльцо, которое выходило в сад, к пруду. Памятный пруд!.. Хорошая, хоть и грустная улыбка осветила благообразное лицо Василия Васильевича, когда перед ним блеснула зеркальная поверхность пруда, теперь заросшего плавучими зелеными листьями и водяными лилиями. А когда-то пруд этот не таков был: с ним у князя Голицына связаны дорогие воспоминания – воспоминания молодости… Это тот пруд, о котором «тишайший» царь писал стольнику Матюшкину: «Извещаю тебе, што тем утешаюся, што стольников купаю ежеутр в пруде, Иордан хороша сделана человека по четыре, и по пяти и по двенадцати человек, зато кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю, да после купания жалую, зову их ежеден, у меня купальщики те едят вдоволь, а иные говорят: мы-де ненароком не поспеем, так-де и нас выкупают, да и за стол посадят, многие нароком не поспевают»… В то время когда «тишайший» батюшка купал в пруде стольников, его балованный сынок, царевич Петрушенька, подражая родителю, купал, а чаще топил в этом пруду своих стольников, щенят и котят… Хорошее было времечко, тихое, не то, что теперь… И его, князя Василия Васильевича, раз в этом пруду выкупал «тишайший»: это было в пору золотой молодости. И тогда он в первый раз узнал, что его любит царевна Софьюшка. Она тогда была еще совсем молоденькой девочкой, подросточком, и «урки учила» на галерее, а как увидала, что его, князь Василья, за поздний приход на смотр поволокли к пруду, и как он со всего размаху ринулся в воду и исчез под водою, царевнушка Софьюшка вскрикнула от испуга и покатилась замертво. А он, молодой князь, вынырнул далеко-далеко. Софьюшку подняли без чувств. И узнал он тогда, что стал он зазнобою в сердце царевны, да вот и теперь они любятся. Хорошее то было времечко, золотое. Светом и теплом льется в душу князю, теперь уже седому, всякий раз, как он видит этот запущенный пруд. Да оно так и лучше: вон какие лилии поросли на нем – и в умиленной душе поседевшего князя все еще цветут такие же лилии да незабудки. «Не забудь! Не забудь!»
С грустным вздохом он входит в передние комнаты на половину царевны. Во второй комнате он находит молодую постельницу Меласю, которая сидит за пяльцами и вышивает что-то золотом. Девушка так углубилась в свою работу, а может быть, – и это вернее – в свои думы, что и не слыхала, как вошел князь, тихо ступая по коврам своими мягкими сафьянными сапогами.
– Здравствуй, Маланьюшка! – сказал он ласково.
Девушка вздрогнула и уронила иголку.
– Здравия желаю, батюшка князь, – отвечала она мягким певучим грудным голосом.
– Я, кажись, испужал тебя, милая. Ты так задумалась за работой. О чем твои девичьи думы? О Крыме, чай, как там жилось тебе у Карадаг-мурзы?
Девушка не отвечала, а только покраснела и еще ниже нагнулась к своей работе. Князь подошел к пяльцам.
– Что это ты, девынька, вышиваешь? – спросил он. – Орарь, кажись, для иподиакона?
– Точно, орарь отцу дьякону Ивану Гавриловичу… Царевна Марфа Алексеевна указала.
Голицын лукаво улыбнулся, но потом с доброю уже улыбкою проговорил:
– А я чаял, это пояс новому боярину!
– Какому новому боярину? – спросила девушка, подняв на своего собеседника черные мягкие глаза.
– А Максиму Исаичу Сумбулову…
При этом имени девушка вспыхнула так, что даже слезы показались на ее прекрасных глазах. Она нагнулась. Слезы действительно капали на шитье.
– Ах какая ты, девынька! О чем же это, глупая? Разве это грех? Сам Спаситель повелел любить. А Максим Исаич спит и видит тебя.
В этот момент в комнату вошла Родимица. На лице ее отражались и смущение, и досада.
– Грех тебе, батюшка князь, смущать молодую девку! – с сердцем сказала она.
– Ба-ба-ба, какая строгая у нас мамушка! Уж и пошутить с девкой нельзя, – улыбнулся князь.
– Шутки шутить можно, да не такие: что девке голову набивать прелестными словами!
– Ну-ну, не буду, не буду! Положи гнев на милость. Что, государыня-царевна изволила встать? – спросил он серьезно.
– Давно, батюшка, уж и Богу отмолилась.
– Можно к ней, Федорушка?
– Тебе, князь, можно. Я уж и обрядила государыню. Она изволила выйти в стеклянную светлицу, на переходы.
Князь хорошо знал расположение коломенского дворца и скоро очутился в указанной светлице, в стеклянной галерее, выходившей окнами на пруд. Софья сидела у окна и задумчиво глядела в окно. Около ее ног терся белый сибирский кот. Она услышала знакомые шаги и быстро бросилась навстречу входившему.
– Васенька! Светик мой! Соколик!.. – И она повисла на его широкой груди, обвив руками шею своего возлюбленного.
– Здравствуй, матушка государыня.
– Какая я тебе государыня! Вот, вот!
Она прижалась своими губами к его губам, так что он не мог ничего выговорить.
– Вот еще! Вот! – продолжала она. – Скажи, кто я тебе?
– Софьюшка, свет очей моих, лебедь белая…
– Нет, нет! Выговори то словечушко, то, разумеешь? То, отчего я со стыда сгорю, а слушать бы то словечушко век слушала. Ну, выговори!
– Софьюшка! Полюбовница моя! Женушка моя!
– Да, да! Полюбовница, полюбовница… Греховное это словечушко, а такое сладкое, слаще меду!
Она отошла в сторону и с любовью посмотрела на своего Васеньку.
– Уж как ты хорош у меня! Как хорош! И бородушка с серебром, а все ж ты милее мне всех. И знаешь, светик, про что я вспомнила, глядючи в это окошко?
– Про что, моя ластушка?
– А про то, как тебя батюшка во пруде этом купал, а у меня ноженьки подломились.
– И я про то же вспоминал, как к тебе шел. А знаешь ли, государыня, я тебе чтой-то принес, – меняя тон, сказал Голицын и вынул из кармана подметное письмо.
– Что это, соколик? – спросила царевна с загадочным блеском в очах.








