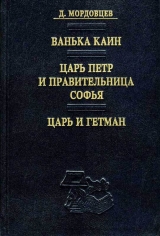
Текст книги "Царь Петр и правительница Софья"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
XIV. Не выгорело
Стрельцы, однако, все еще не думали, что дело примет кровавый оборот. Где это видано, чтобы свои, православные же, шли убивать друг друга! Еще если б в царских ратях были одни иноземцы, так эти собаки ради брошенного им царем куска готовы резать православных, а то потешные и солдаты все те ж москвичи, одному со стрельцами Богу молятся, у Иверской свечи ставят: как же они станут проливать братнюю кровь? Не каиново же они племя. И чем стрельцы провинились? Они хотят только взглянуть на родную Москву, увидеть ее золотые маковки – ведь так давно они не видали ее! А их дома, осиротевшие без хозяев? А их жены, проплакавшие глаза по своим мужьям! А покинутые отцами малые дети, о которых стрельцы вспоминали и под стенами Азова, и на бесконечных степях ногайских, и на польском рубеже!.. Мыкаясь вдали от Москвы, стрельцы обносились, некому починить им рубахи, заштопать кафтана. Сколько лет они бани не видали! И бороды, и головы их давно не знают гребня. Сами они пообросли, как колодники… за что же против них посылать войско, словно против басурман? Так думали стрельцы. Но не так сталось, как они думали.
После полудня показалось царское войско. Оно двигалось в таком порядке, к какому стрельцы не были приучены, и остановилось на возвышении, менее чем на пушечный выстрел. В воздухе трепались знамена, на древках блестели золотые кресты на таких же яблоках. По ветру доносилось ржание коней. Вскоре от царского войска отделился всадник в богатом кафтане и стал спускаться с возвышения. Стрельцы узнали в нем Гордона, с которым они выдержали и жестокую чигиринскую осаду, и двухлетнее сидение под Азовом. Гордон знал их труды, и это придало им бодрости.
– Этот не матушкин сынок, не из потешных, – говорили они промеж себя.
– Не в хлопках вырос, знавал стрелецкую нужду.
Зорин, Кирша и другие коноводы выступили вперед.
Гордон приблизился к ним и поздоровался. Ему также ответили приветом.
Гордон спросил их, зачем они ушли из войска «бунтовничьим способом».
– Мы ушли не бунтовничьим способом, – отвечал Зорин, – а не стерпя бою, ушли от напрасной смерти.
– Кто же вас бил? – снова спросил Гордон.
– Боярин и воевода князь Михайло Григорьич Ромодановский.
– За что же?
– А за то: ведомо твоей милости, что в Азове терпели мы всякую нужду, зимою и летом, денно и нощно строили город, и чаяли, что нас отпустят к Москве, а нас из Азова послали на польской рубеж к князю Ромодановскому, где мы голод, холод и всякую нужду терпели неизглаголанно: человек по полутораста стояло нас на одном дворе, месячных кормовых денег не хватало нам и на две недели, а тех из нас, которые не стерпя голоду ходили по миру, чтоб не помереть голодною смертью, тех батогами били нещадно… А потом, когда наши несколько стрельцов ходили к Москве, чтоб просить нам к женам и детям пропуску хоть на неделю, и когда их выгнали из Москвы, что псов, Ромодановский велел вывести нас на разные дороги по полку, отобрать ружья, знамена и всякую полковую казну и велел коннице, обступая нас вокруг, рубить и колоть до смерти. Для того, испугавшись смертного бою, мы и не пошли в указанные места, а идем к Москве, чтоб напрасно не помереть, а не для бунту… Попроси, твоя милость, бояр, чтоб нас пустили в Москву повидаться с женушками нашими и детушками, и тогда мы рады иттить, куды царь укажет.
Гордон молчал все время, пока говорил Зорин, и украдкой наблюдал выражение лиц других стрельцов, которое не обещало ничего доброго.
– Чтоб пустить вас к Москве, на то указу нет, – сказал он, когда Зорин кончил, – выдайте заводчиков, которые ходили к Москве, и возвращайтесь в указанные места, и тогда великий государь простит вам ваши вины и жалование будет вам выдано все сполна.
Стрельцы заволновались. Не того ожидали они от Гордона.
– Мы сами пойдем к Москве! – кричали они.
– Какие у нас заводчики! Мы все заводчики!
Гордон стал уговаривать их. Никто его не слушал.
– Мы или умрем, или к Москве будем!
– Вас к Москве не пустят, – возражал Гордон.
– Разве все помрем, тогда в Москве не будем! – кричали ему.
– Посоветуйтесь между собою, – уговаривал Гордон старейших, – обдумайте дело по полкам.
– Мы все заодно! – был ответ.
– Одумайтесь, даю вам срок четверть часа.
Гордон отъехал в сторону, а стрельцы продолжали шуметь беспорядочно. Страсти разгорались все более и более. Никакой уступки! Гордон подъехал, чтобы заговорить снова, но его встретил рев голосов. Главное, что он разобрал, было:
– Убирайся, пока цел, а то живо зажмем рот!
Гордон отъехал ни с чем. Стрельцы не знали, торжествовать ли им, или ожидать более крутых мер.
– А что же лисья челобитная? – вспомнили некоторые. – Где Патрикеевна?
– Я здесь, – отозвался Зорин.
– Что ж ты лисье челобитье не подал?
– А не подал для того, что не немцу читать лисью грамоту: я отдам ее самому воеводе, пускай перед царским войском вычитают нашу правоту и тяготу.
– Верно… Може, тогда и не вступят с нами в бой.
От царского войска опять отделилась фигура всадника и стала спускаться с возвышения.
– Кажись, сам воевода… Ну крепись, братцы!
– Нету, этот помоложе. Кто бы это был?
– Это князь Кольцо – Мосальский: посадка княжья… Что-то он скажет?
Всадник приближался. Все узнали тучную фигуру Кольца. Не здороваясь ни с кем, он прямо крикнул:
– Что, одумались? Винитесь великому государю?
Опять выступил Зорин, держа в руке челобитную.
– Перед великим государем нашей вины нету, – отвечал он за всех.
– А это что у тебя? – спросил Мосальский, указывая на бумагу.
– Челобитье великому государю… Прими его, ваша княжья милость, и вычитай перед войском его царского величества.
И Зорин подал челобитную.
– Так вы не винитесь великому государю? – снова спросил Мосальский, не развертывая челобитной. – Не выдадите заводчиков, что к Москве ходили? Не идете в указанные места?
– В челобитье все прописано, – отвечал Зорин.
– В последний раз спрашиваю, – настаивал Мосальский, – выдадите заводчиков?
– Нет у нас заводчиков! – с запальчивостью отвечали из толпы.
– Напролом, братцы! Напролом!
Мосальский видел, что ему ничего не оставалось делать, как возвратиться к своему полку, а иначе он мог только раздражить непокорных своим присутствием.
– Так пусть Бог и великий государь рассудят нас, – сказал он и поворотил своего коня.
Когда отъехал Мосальский, стрельцы собрались в круг и стали думать, что им предпринять: идти ли напролом, как некоторые советовали, или же выждать, что будет, какой ответ выйдет на их челобитную. Но они напрасно ждали: от царского войска никто не являлся, напротив, там, казалось, царствовала мертвая тишина.
Но скоро эта тишина сменилась чем-то зловещим. С возвышения, на котором стояло царское войско, послышались какие-то странные звуки, какое-то сопение. Стрельцы стали прислушиваться: ясно было, что это – церковное пение.
– Что там? Что ли хоронят кого?
– Нету, не хоронят: нас собираются хоронить.
– Что так?
– Али не слышишь? Молебен поют.
– И точно молебен… Слышишь: преподобный отце Николае, моли Бога о нас…
Стрельцы задумались: молебен поют, значит дело нешуточное, не пугать только пришли, а к смерти готовятся, не ровен час… И стрельцам надо готовиться к смерти: затем пошли – все под Богом, посейчас живы, а там кто знает… Надо служить молебен, надо помолиться Богу, может быть, в последний раз.
Приходит из заднего обоза и батюшка, отец Ириней, старый – престарый. Он со своими детками – стрельцами и Чигиринские походы делал, и азовские. Никогда не забудут стрельцы, как он, отец Ириней, стоял с крестом на валу под Азовом, блистая своею святительскою сединою, и благословлял своих деток на бой с врагами креста.
– Что, детушки, не помолиться ли и нам? – сказал он, указывая на царское войско, откуда доносилось трогательное пение.
– Надо помолиться, как же! Без этого нельзя.
– Не нехристи мы, сдается, Бога не забыли.
– Да катай, отец, во всю, загни такой молебище, чтобы…
– Знаю, знаю, детки: возглашу акафист преподобному Сергию.
И вскоре царское войско могло слышать, как и стрелецкий табор огласился молитвенным пением. Трогательно и страшно было слышать эти два молебна, в которых молящиеся, дети одной и той же земли, у одного и того же милосердного Бога просили «на враги победы и одоления».
– «Ты бо еси, Господи, – слышалось трепетное старческое возглашение, – помощь беспомощным, надежда безнадежным, плавающим пристанище, недугующим врач, – сам всем вся буди, ведый коегожде и прошение его, дом и потребу его…»
При слове «дом» стрельцы особенно жарко молились, встряхивая волосами и с особенною силою надавливая двумя пальцами на вспотевшие от усердия лбы, и плечи, и животы… А старческий голос продолжал дребезжать, разносимый ветром вместе с дымом кадильницы:
– «Избави, Господи, люди твоя от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани…»
А она-то и готовилась, о ней и молились. Ни природа во всей красе своей, ни это заволакиваемое тучами небо, ни яркая зелень леса, ни колыхающиеся нивы, ни пение жаворонка, ни умиляющиеся в молитве сердца, ничто не могло остановить того, что должно было совершиться. По окончании молебна стрельцы подходили к кресту, громко исповедывались, прощались друг с другом и клялись умереть до единого. Благословляя их правою рукою, левою старый отец Ириней утирал катившиеся из глаз его слезы.
– Детушки мои, детушки! Благослови вас Господь! Заступи вас преподобный отче Сергие!
Затем все стихло. Слышно было только пение жаворонка на небе, да иногда начинала куковать кукушка и снова умолкала.
В царском войске началось движение. Вперед были выдвинуты пушки, а конница делала боковые движения. От пушек отделилось несколько всадников, и, приблизясь к стрельцам, которые тоже строились рядами, один из подъехавших сказал:
– Его царского пресветлого величества боярин и воевода Алексей Семенович Шеин указал в последнее объявить вам: положите оружие и о винах ваших добейте челом. А буде вы того не учините, и вас, нимало медля, станут громить пушками.
– Мы того не боимся! – запальчиво отвечали стрельцы. – Громите!
– Видали-ста мы пушки и не такие!
Посланные отъехали к своему войску и снова воротились.
– Так вы не хотите добить челом?
– Не хотим! – был ответ.
Посланные молча воротились. Видно было, как пушкари задвигались около орудий, как зажигались фитили, наводились дула пушек. Стрельцы взялись за оружие, распустили знамена. Старик – священник стоял впереди с крестом, который видимо дрожал в его дряхлых руках. Бледные губы его шептали молитву. А в высоте, над пространством, разделявшим оба войска, радостно заливался жаворонок.
На возвышении послышалась команда. Белые струйки дыма взвились над пушками, и они грянули. Стрельцы невольно вздрогнули и оглянулись: далеко за их строем, у заднего обоза, перелетевшие через их головы ядра прыгали и бороздили землю.
Крики стрельцов огласили поле.
– Преподобный Сергий! Преподобный Сергий! – дико кричали они, махая шапками, и двинулись вперед сплошною лавою.
Но с возвышения пушки грянули снова, и чугунные ядра глухо застучали о тела стрельцов, которые с криками и стонами падали на землю, обагряя ее кровью и корчась в предсмертных муках… Стрельцы дрогнули.
Поражение стрельцов под Воскресенским монастырем случилось 17 июня 1698 года на Большой Московской дороге. По дороге этой 25 августа того же года, в жаркий полдень, гремя бубенцами и подымая облака белой пыли, быстро мчалась шестериком большая дорожная коляска прочной венской работы. Взмыленные кони, казалось, чувствовали, кого они везут: расширенные ноздри огнем пышут, от копыт комьями летит земля, ямщик правит ими стоя, точно Гектор на своей колеснице, и плавно поводит в воздухе рукавицею, вызывая этим движением бешеную скачку.
В коляске двое седоков. Один – молодой высокий мужчина в кафтане Преображенского сержанта, другой, гигант ростом и плечами, в одежде голландского матроса, с нервно подергивающимся лицом и с огромною суковатою дубиною в руках, словно Геркулес со своею палицею.
– Видишь, Данилыч? – указал великан рукою вперед.
– Вижу, государь, – отвечал его спутник.
– А что оно такое?
– Не разберу, государь… Кажись, повешенный.
Впереди у самой дороги на перекладине, положенной на двух столбах, качалось что-то красное. Но красного почти не видать было: его облепила стая ворон, которые дрались из-за добычи, иные садились на перекладину, другие цеплялись за повешенного и махали крыльями.
– Точно, государь, висельник и, кажись, стрелец.
– Зело добр к ним его милость, кесарь Ромодановский…
Они уселись опять. Передохнувшие кони рванулись с места и понеслись как бешеные. Ямщик плавно поводил рукавицею и подергивал плечами: он знал, кого везет…
– Эй, вы, соколики! Грабят!
По сторонам то и дело попадались виселицы с трупами. Завидя приближающийся к виселицам экипаж, птицы с криком поднимались с трупов и каркая кружились в воздухе.
– Ты считаешь, Данилыч, виселицы?
– Считаю, государь.
– Это которая будет?
– Двадцать вторая, государь.
И Данилыч заносил свои статистические наблюдения в записную книжку.
Но вот Москва.
XV. Обрезание бород
Петр возвратился в Москву в страшно возбужденном состоянии. Он даже не хотел въезжать в свою столицу, так она ему опостылела! То, что видел он в Европе, в первый раз побывав в ней, всю эту так высоко поставленную культуру, цветущие города, превосходно возделанные поля, гавани, наполненные кораблями, роскошные здания, чистоту, образцовые порядки, чистенькие домики поселян, и то, что он увидел в России и что чуть было не забыл в Европе, жалкие, ободранные селения, безобразные города, плохо засеянные нивы, оборванное голодающее население со звериным видом и звериными инстинктами, кричащая на каждом шагу бедность, грязь, тупые, одичалые от страха лица поселян, все это заливало его щеки краской стыда и злобы, на кого? На что?.. Он хочет вытащить Русь из этого гнилого омута старины, неподвижности, невежества – и стрельцы становятся ему поперек дороги!.. Он должен был воротиться с пути в Венецию, когда получил известие о их движении к столице…
Он задыхается при одном виде Москвы!..
– В Немецкую слободу! – кричит он при въезде в заставу.
И ямщик пускает взмыленных, бешеных коней туда, куда велит царь.
– Вели ехать прямо к Монцам, – приказывает он Меншикову.
Меншиков показывает, куда ехать. Кони с грохотом и звоном бубенцов мчат коляску по пыльным улицам Кукуя. Из окон высовываются изумленные лица немок и немцев… Кукуй ликует! – Он так боялся, что царь не воротится…
– Ach, Kaiser! S'ist Kaiser, Czar! Ach, mein Gott!.. Hoch! Hoch! Vivat!
Вон и знакомый домик с мезонином и с золотыми буквами на вывеске: Weinhandlung «Заморския вина»…
В крайнем окошке показывается прелестное личико и, вспыхнув яркою краскою не то стыда, не то радости, моментально скрывается.
– Стой! Осади! – нетерпеливо говорит великан.
Лошади стали как вкопанные, храпя и звеня бубенцами.
Прелестное личико уже на крыльце – все пунцовое, радостное, трепетное, в беленьком платьице…
– Здравствуй, Аннушка! Что, не чаяла гостя? Не рада? – улыбается великан.
– Ach, mein Kaiser allergnadigster Herr! – еще более вспыхивает Аннушка и делает книксен.
Великан уже на крыльце. Скрипит крыльцо под его могучими ногами. Аннушка не то робко, не то кокетливо нагибается к руке великана и целует ее.
– Что ты, Анна! Еще губки поцарапаешь о мозолистые плотничьи руки, – улыбается великан.
– Нет, государь, – вскидывает на него девушка свои ясные глаза, – твои руки золотые, об золото не поцарапаешься.
– Умница! Умеет ответ держать. А в губы не хочешь поцеловать? Не рада?
– Нет, государь, рада, только до губ не достану: вон какой ты высокий, zu gross!
И действительно, руки ее доставали только до пояса великана. Тогда он с улыбкой нагнулся и приподнял ее до себя. Девушка обвилась руками вокруг его шеи и повисла, точно на дубе, потому что ноги ее не доставали до полу аршина на полтора. Он поддерживал ее.
– Ну, Аннушка, – говорил он, – видел я и вашу немецкую землю… О, зело многому можно у вас поучиться.
– So? Да? Я же тебе говорила.
– Говорила, говорила, умница.
– Diese Schiffe, корабли, diese Kirche, diese… Ach, und alles, alles! – Да, точно все это в сказке, – задумчиво говорил он, – а наипаче эти голландцы…
– А ты не забыл там свою Аннушку, Анхен? – кокетливо рисовалась она. – Не полюбил там голаночку?
– Нет, Анна. Нам не до того было: и денно, и нощно в науке обретались.
– И скучать некогда было по своей Аннушке?
– Некогда, красавица… да и дольше бы там пробыл, если бы не эти…
– Стрельцы, государь?
– Стрельцы…
– Ах, государь! Слава Богу, что ты воротился… А уж как мы боялись… как боялись! Говорили, будто тебя, государя, на свете не стало… Уж я плакала, чуть глаз не выплакала…
Царь встал и вытянулся во весь свой гигантский рост.
– Я им покажу, как меня на свете не стало!
– Ах, государь! Там, сказывают, тебя не стало, а тут стрельцы идут на Москву, чтобы всех немцев… Ach, mein Gott, как я боялась! И вымолвить страшно: чтоб всех-де немцев побить и Немецкую слободу разорить.
– Этому не бывать! – топнул он ногою. – Скорей стрелецкую слободу в ничто обращу… Данилыч! – крикнул он.
– Я здесь, государь, – показался в дверях Меншиков.
– Беги к Франц… к Лефорту: скажи, что я скоро буду у него, и чтоб он взял розыскное дело о стрельцах: я хочу ноне его прочесть.
– Слушаю, государь.
Сорвав первый гнев на розыскном деле, он несколько успокоился.
– А тебе-то как достается в челобитной, – с улыбкой обратился он к Лефорту.
– Да, государь, – улыбнулся и Лефорт, – все на меня валят, как на бедного Макара.
– И все Францко, да Францко, Францем не хотят назвать.
– Надо же, государь, немца доехать хоть словом.
– Да это они не тебя, – серьезно заметил царь.
– Кого же, государь?
– Меня… Это кошку бьют, а невестке наметку дают: на меня они злы, потому спуску им не даю. До меня при батюшке да при сестрице Софьюшке они только бражничали да бунты учиняли, а я их в возжах держу, вот и брыкают… Да добро! Копыта себе обобьют брыкаючись. Они теперь думают, что на том суд и прикончится, что Шеин сто тридцать душ их, словно собак, перевешал. Нет! Я начну сызнова, чтоб семени Милославского и в заводе не осталось… А вы, большие бороды! – пригрозил он кому-то в пространство. – Сидите смирно! Не укосню и до вас добраться… Я насею нового семени, и из нового семени взойдет новая Россия, и вино новое и мехи новые! Я все новое заведу: скоро вы не узнаете России… Поймут Петра, да только нескоро: и во сто и в два ста лет не все поймут Петра, а поймут – спасибо скажут… Одно, Франц, горько! – сказал он задумчиво.
– Что, государь? – спросил Лефорт.
– Жизнь человеческа коротка, вот что! Аки цвет сельный, скоро отцветет и иссохнет: не доживу я, чтобы видеть плоды рук моих.
– Помилуй, государь! Тебе жить многая лета!
– Мало, Франц! Я хотел бы, чтобы в сутках было сорок восемь часов, сто часов! И то всего не переделаешь… Ты видел, как растет ветла?
– Как не видать, государь, видел.
– А как?
– Скоро растет, легко: воткнул в сырую землю кол, и растет…
– А видел, как дуб растет?
– О, государь, дуб растет туго.
– То-то же! Россия – дуб, да только еще не посаженный, одни желуди, что свиньи едят. А я хочу посадить эти желуди, чтоб дубы выросли. Когда-то их дождешься!
Прощаясь с Лефортом, он сказал:
– Приходи завтра пораньше.
– В Кремль прикажешь, государь, «на верх»? – спросил Лефорт.
– Нет, – отвечал Петр с неудовольствием, – приезжай в Преображенское.
– До света буду, государь.
– Добро… Увидишь, как я буду желуди сажать.
– Слушаю, государь.
Лефорт действительно явился чуть свет. Царь уже был на ногах. Лефорт застал его в рабочем кабинете в глубокой задумчивости стоящим перед моделью корабля.
– А это ты, Франц!
Лефорт поклонился. Царь продолжал стоять в прежней задумчивости.
– Не спалось мне сегодня, – сказал он, отходя от модели.
– Что так, государь? С дороги?
– Нет… Все облак сумнения перед глазами носится.
– В чем же сумнения, государь?
– В чем! А разве ты забыл, что мы видели там, в чужих землях, и что у нас.
– Что же, государь, будет и у нас все.
– Будет! Легко сказать! Теперь я еще больше вижу, что не дубы приходится мне сажать, а пальмы. Кто пальму сажает, тот никогда не доживет до фиников… Я это давно говорил, а теперь и пуще того: финики – это наш флот!
– Как же, государь, а не этим флотом ты добыл Азов?
– Азов! Что Азов! Моря у нас нет.
– И море, государь, будет…
Весть о приезде царя давно облетела Москву. Чуть свет все спешили в Преображенское. Раньше других явились Шеин и Ромодановский. Петр принял их ласково.
– Читал, читал ваш розыск, и челобитную о бороде читал, – сказал он после осведомления прибывших о здоровье царя.
– Это, государь, черничок челобитья, – заметил Шеин, – оно, видно, не дописано, не успели.
– А знаете, кто их соучастники? – спросил царь, косясь на стол, где лежали ножницы.
– Кто, государь? – спросили оба. – Али мы не доглядели?
– Точно, не доглядели.
И Шеин и Ромодановский смутились.
– Соучастники их вы, – продолжал царь.
– Помилуй, государь, мы не ведаем, про что ты изволишь говорить.
– Про что! А вы помните конец челобитной?
– Помним, государь: слова, может, только запамятовали.
– То-то! В словах-то и сила… Стрельцы пишут: слышно-де, что к Москве идут немцы, и то знатно последуя брадобритию и табаку во всесовершенное благочестия испровержение. Не так ли, Алексей Семенович? – обратился царь к Шеину.
– Точно, государь, это их слова.
– Видишь, бороду выставляют на своем знамени.
– Бороду, государь.
– А царь, видишь, без бороды: выходит, что и царь немец. А вот вы бородачи… Поняли?
– Что-то невдомек, государь.
– Так вот будет вдомек.
И царь подошел к столу, взял ножницы, приблизился к Шеину и моментально отхватил у него огромную прядь бороды.
– Государь! Помилуй! – взмолился старик.
– А! Тебе жаль бороды, а не жаль было тех ста тридцати голов, что ты повесил от Воскресенского вплоть до Москвы! – серьезно сказал царь. – Лучше потерять бороду, чем голову.
И седые пряди падали одна за другою на пол и на шитый золотом кафтан.
– Ах, я дурак! Ах, я ослопина! – послышался в дверях чей-то голос.
Все оглянулись. В дверях стоял дурачок Иванушка и плакал.
– Мы давно знаем, что ты дурак, – заметил Петр, – разве ты этого не знал?
– Не знал, государушка, я думал, что я и тебе умнее.
– Спасибо… Кто же тебя надоумил, что ты дурак-дураком?
– Да ты сам… Я думал, что только умные люди бриты живут, и обрил себя сам.
– И умно учинил… А ты думал, что все бородатые дураки?
– И теперь так думаю.
– О чем же плачешь?
– О том, государушка, что коли бы я сам себя не обрил, так обрил бы меня ты, как вот этих старых дураков бреешь и умными делаешь… Вот бы я тогда и хвастался на всю Москву, что у меня брадобрей – сам царь.
И, оглянувшись назад в первую переднюю, где толпились бояре, придворный дурачок заговорил:
– Идите, идите скорей, дурачки: вас царь всех умными поделает.
Действительно, у всех бояр, которые в это утро представлялись царю, Петр собственноручно пообрезывал бороды. Рука его не поднялась только на самых почтенных стариков, на князя Михайлу Алегуковича Черкасского и на Тихона Никитича Стрешнева.








