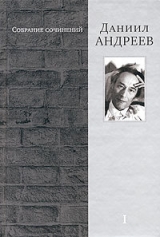
Текст книги "Андреев Д.Л. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1: Русские боги: Поэтический ансамбль."
Автор книги: Даниил Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Даниил всегда приходил в гости с тетрадкой стихов или с новой главой романа. Однажды он сказал мне: “Лучшее, что во мне есть, это мое творчество. Вот я и иду к друзьям со своим лучшим”.
Он был очень застенчив и совершенно неспособен “блистать в обществе”. Поэтому свою незаурядность мог проявить не непосредственно, а как бы отделив от себя, как это делает художник.
Война застала его за работой над “Странниками ночи”. Он зарыл рукопись в землю и вернулся к стихам. Написал цикл стихотворений “Янтари”, посвященный реальной женщине – ее образ косвенно отражен в романе. Работал над поэмой “Германцы”, но не закончил ее – в конце 1942 года его мобилизовали.
Филипп Александрович Добров скончался за два месяца до начала войны. Елизавета Михайловна – осенью 1942 года; Екатерина Михайловна – в середине войны. Даниил, вернувшись, ее уже не застал.
По состоянию здоровья он был нестроевым рядовым. Сначала состоял при штабе формирующихся в Кубинке под Москвой воинских частей; позже, зимой 1943-го, в составе 196-й стрелковой дивизии шел ледовой трассой Ладоги в осажденный, страшный Ленинград. Но об этом написана его поэма “Ленинградский Апокалипсис”, одна из глав “Русских богов”, и незачем мне ее пересказывать.
После Ленинграда были Шлиссельбург и Синявино – названия, которые незабываемы для людей, переживших войну, так же как Ельня, Ярцево и много других…
*
Служа в похоронной команде, Даниил Леонидович хоронил убитых в братских могилах, читал над ними православные заупокойные молитвы.
Подтаскивая снаряды, надорвался и попал в медсанбат. Там его и оставили санитаром; два человека постарались сохранить ему жизнь: начальник госпиталя Александр Петрович Цаплин и врач Николай Павлович Амуров.
В последние месяцы войны из действующей армии отзывали специалистов для работы в тылу. Горком графиков, членом которого он был как художник-шрифтовик, вызвал его с фронта, и последнюю военную зиму Даниил Леонидович служил в Москве, в Музее связи, художником-оформителем.
Конечно, имея возможность бывать дома, он вернулся к работе над романом. Когда рукопись романа была извлечена из земли, оказалось, что неопытный конспиратор зарыл ее очень плохо: написана она была от руки, чернилами, и чернила расплылись.
Он начал все сначала, теперь на машинке, кстати, когда-то принадлежавшей Леониду Андрееву и случайно оставшейся в Москве. Переработанное произведение на глазах, от главы к главе, становилось значительнее.
По окончании войны близкие друзья Даниила, географы Сергей Николаевич Матвеев и его жена Мария Самойловна Калецкая, обеспокоенные нашей действительно вопиющей материальной неустроенностью, нашли для него неожиданную форму заработка. (Я, член Союза художников, не могла найти никакой работы, кроме изготовления копий.) Вместе с Сергеем Николаевичем Даниил написал небольшую книгу о русских исследователях Горной Средней Азии. Со стороны Матвеева было имя уважаемого ученого и конкретный материал; со стороны Андреева – литературная обработка этого материала. Работа не была творчеством, это было честной, искренней, научно и литературно квалифицированной популяризацией.
Тоненькая книжка вышла в Географгизе, в 1946 году последовал следующий заказ: книга о русских путешественниках в Африке. Даниил работал над этой, тоже небольшой, книжкой с горячим увлечением, хотя и разрывался между ней и романом.
Материал он разыскивал в Ленинской библиотеке. Однажды пришел сияющий и сообщил мне, что нашел сведения об африканской реке, названной именем Николая Степановича Гумилева. Что Гумилев был любимейшим поэтом Даниила Андреева, рядом с Лермонтовым, Алексеем Константиновичем Толстым и Блоком, можно не писать – это ясно из стихов, да и не могло быть иначе.
Книжка о русских путешественниках в Африке была написана, набрана и набор рассыпан. Больше я о ней ничего не знаю.
*
В апреле 1947 года Даниилу Леонидовичу было сделано странное предложение: лететь в Харьков вместе с двумя-тремя спутниками и прочесть там лекцию на материале своей, еще не напечатанной книги о русских путешественниках. Что это было, мы так никогда и не узнали. Скорее всего, чекистская инсценировка с самого начала.
Рано утром 21 апреля за Даниилом приехала легковая машина, в которой сидел кто-то в штатском, безличного вида, и, тоже в штатском, любезно суетившийся “устроитель”. Я, стоя у дверей, проводила его. По дороге на аэродром его арестовали, а я получила из Харькова телеграмму, якобы за его подписью, о благополучном прибытии.
За мной пришли вечером 23 апреля. Обыск длился 14 часов. Конечно, взяли роман – его и искали – и все, что только было в доме рукописного или машинописного. Утром увезли и меня – тоже на легковой машине.
Для характеристики атмосферы того времени: из всех жильцов квартиры в переднюю, когда меня уводили, вышла одна, Анна Сергеевна Ломакина, сама, как и ее муж, отсидевшая, мать маленьких детей. Она подошла ко мне, поцеловала и дала немного черного хлеба и несколько кусочков сахара. Я благодарно запомнила это – так не поступали от страха.
Даниила много раз забирали на Лубянку на два-три дня в предвоенные годы: была такая система превентивных арестов на дни советских праздников. На фронте тоже был какой-то вызов, о котором он вскользь рассказал.
Позже по “делу Андреева” взяли многих родных, друзей, знакомых. Потом к нашей “преступной группе” прибавляли уже и незнакомых, просто “таких же”.
Героев на следствии среди нас не было. Думаю, что хуже всех была я; правда, подписывая “статью 206”, т.е. знакомясь со всеми документами в конце следствия, я не видела разницы в показаниях. Почему на фоне героических партизан, антифашистов, членов Сопротивления так слабы были многие из русских интеллигентов? Об этом не любят рассказывать.
Понятие порядочности и предательства в таких масштабах отпадают. Многие из тех, кто оговаривал на следствии себя и других (а это подчас было одно и то же), заслуживают величайшего уважения в своей остальной жизни.
Основных причин я вижу две. Страх, продолжавшийся не одно десятилетие, который заранее подтачивал волю к сопротивлению, причем именно к сопротивлению “органам”. Большая часть людей, безусловно достойных имени героев, держалась героически короткое время и в экстремальных условиях, по сравнению с их обычной жизнью. У нас же нормой был именно этот выматывающий душу страх, именно он был нашей повседневной жизнью.
А вторая причина та, что мы никогда не были политическими деятелями. Есть целый комплекс черт характера, который должен быть присущ политическому деятелю – революционеру или контрреволюционеру, это все равно, – у нас его не было.
Мы были духовным противостоянием эпохе, при всей нашей слабости и беззащитности. Этим-то пртивостоянием и были страшны для всевластной тирании. Я думаю, что те, кто пронес слабые огоньки зажженных свечей сквозь бурю и непогоду, не всегда даже осознавая это, свое дело сделали.
А у меня было еще одно. Я не могла забыть, что напротив меня сидит и допрашивает меня такой же русский, как я. Это использовали, меня много раз обманули и поймали на все провокации, какие только придумали. И все же даже теперь, поняв, как недопустимо я была не права тогда, я не могу полностью отрезать “нас” от “них”. Это – разные стороны одной огромной национальной трагедии, и да поможет Господь всем нам, кому дорога Россия, понять и преодолеть этот страшный узел.
И еще надо сказать: все, кого брали в более поздние времена, знали, что о них заговорит какой-нибудь голос, что существуют какие-то “права человека”, что родные и друзья сделают все, что будет в их силах.
В те годы брали навек. Арест значил мрак, безмолвие и муку, а мысль о близких только удесятеряла отчаяние.
Наше следствие продолжалось 19 месяцев: 13 месяцев на Лубянке, во внутренней тюрьме, и 6 – в Лефортове. Основой обвинения был антисоветский роман и стихи, которые читали или слушали несколько человек. Но этого прокурору было мало, и к обвинению была добавлена статья УК 58-8, Даниилу Леонидовичу “через 19” – подготовка террористического акта, мне и еще нескольким “через 17” – помощь в подготовке покушения. Эта галиматья – дело шло о покушении на Сталина – была основана на вполне осознанном и крайне отрицательном отношении к Сталину, которое сейчас стало почти обязательным, но было у многих всегда. Неправда, что русский народ, готовый преклоняться перед кем угодно, весь поклонился Сталину, преклонялись в основном те, кому это так или иначе было нужно.
Реалистичность романа сыграла утяжеляющую роль. О героях его допрашивали, как о живых людях, особенно об Алексее Юрьевиче Серпуховском, отличавшемся от остальной группы готовностью к действиям, а не мечтам. Именно Серпуховской не имел прообраза в окружении Андреева. Он был им почувствован, уловлен во всем трагическом мареве той жизни – его не могло не быть. Естественно, что понять процесс творчества писателя следственные органы не могли и упорно добивались – с кого списано. Тем более что, подчеркивая одновременно верную интуицию Андреева и бдительность “органов”, чуть позже нас была арестована группа людей, которые могли бы быть и героями романа и нашими знакомыми. Но не были.
Долго у нас искали оружие. Его тоже не было. Судило нас ОСО-“тройка”. Это значит, что никакого суда не было и однодельцы друг друга не видали. Нас по одиночке вызывали в кабинеты и “зачитывали” приговоры. Даниил Андреев, как основной, проходящий по делу (теперь это называется “паровоз”), получил 25 лет тюремного заключения. Я и еще несколько родных и друзей – по 25 лет лагерей строгого режима. Остальные – по 10 лет лагерей строгого режима.
Надо сказать, что 25-летний приговор в то время был высшей мерой. На короткое время в Союзе смертная казнь была заменена 25-летним заключением. Только поэтому мы и остались в живых. Немного раньше или немного позже мы были бы расстреляны.
После следствия Даниил Леонидович и я видели акт о сожжении романа, стихов, писем, дневников и писем Леонида Андреева маленькому сыну и Добровым, которых он очень любил. На этом “Акте” Даниил Леонидович написал – помню приблизительно: “Протестую против уничтожения романа и стихов. Прошу сохранить до моего освобождения. Письма отца прошу передать в Литературный музей”. Думаю, что все погибло.
Даниил Андреев отправился во Владимирскую тюрьму. Несколько человек (в том числе и я) – в Мордовские лагеря.
Сергей Николаевич Матвеев умер в лагере от прободения язвы. Александра Филипповна Доброва умерла в лагере от рака. Александр Филиппович Добров умер от туберкулеза в Зубово-Полянском инвалидном доме, уже освободившись и не имея, куда приехать в Москве.
*
Может показаться странным то, что я сейчас скажу. Когда мы встретились с Даниилом и были неразлучны уже до его смерти, мы почти ничего не рассказывали друг другу о следствии и заключении. Пути мы прошли параллельные и понимали друг друга с полуслова, а рассказывать было не нужно.
Я знаю, что условия Владимирской тюрьмы были очень тяжелы. Также знаю, что там сложились крепкие дружеские отношения у многих заключенных, очень поддерживавшие их.
В разное время с Даниилом Леонидовичем были: Василий Витальевич Шульгин; академик Василий Васильевич Парин; историк Лев Львович Раков; сын генерала Кутепова; грузинский меньшевик Симон Гогиберидзе, отсидевший во Владимире 25 лет; японский “военный преступник” Танака-сан. Искусствовед Владимир Александрович Александров, освободившийся раньше всех, помог, по просьбе Даниила, разыскать и привести в порядок могилу Александры Михайловны и ее матери на Новодевичьем кладбище.
Конечно, сокамерников было за годы, проведенные в тюрьме, гораздо больше, но я не помню их имен.
Одно время камера Владимирской тюрьмы, в которой оказались вместе некоторые из перечисленных мною, получила шуточное название “академической”. К ним подселили уголовников. Количества я не знаю, а “качество” легко себе представить: по уголовной статье тюремный приговор получают только настоящие преступники.
“Академическая” камера спокойно встретила пришельцев. В.В.Парин стал читать им лекции по физиологии; Л.Л.Раков – по военной истории, а Д.Л.Андреев написал краткое пособие по стихосложению и учил их писать стихи.
А еще эти трое заключенных – Парин, Раков и Андреев – написали двухтомный труд “Новейший Плутарх” – гротескные вымышленные биографии самых разнообразных деятелей. Л.Л.Раков снабдил это уникальное произведение чудесными рисунками.
А о плохом Даниил рассказывал, например, так: “Знаешь, носовые платки – великая вещь! Если один подстелить под себя, а другой – сверху, кажется, что не так холодно”.
*
Теперь я должна попытаться написать о самом главном, о том, что является основой творчества Даниила Андреева, в том числе и истоком книги “Русские боги”.
Сделать это трудно, потому что придется говорить о вещах недоказуемых. Те, для кого мир не исчерпывается видимым и осязаемым (в крайнем случае, логически доказуемым), для кого иная реальность – не меньшая реальность, чем окружающая материальная, поверят без доказательств. Если наш мир не единственный, а есть и другие, значит, между ними возможно взаимопроникновение – что же тут доказываь?
Те, для кого Вселенная ограничивается видимым, слышимым и осязаемым – не поверят.
Я говорила о моментах в жизни Даниила Леонидовича, когда в мир “этот” мощно врывался мир “иной”. В тюрьме эти прорывы стали частыми, и постепенно перед ним возникла система Вселенной и категорическое требование: посвятить свой поэтический дар вести об этой системе.
Иногда такие состояния посещали его во сне, иногда на грани сна, иногда наяву. Во сне по мирам иным (из того, что он понял и сказал мне) его водили Лермонтов, Достоевский и Блок – такие, каковы они сейчас.
Так родились три его основных произведения: “Роза Мира”, “Русские боги”, “Железная мистерия”. Они все – об одном и том же: о структуре мироздания и о пронизывающей эту структуру борьбе Добра и Зла.
Даниил Андреев не только в стихах и поэмах, но и прозаической “Розе Мира” – поэт, а не философ. Он поэт в древнем значении этого понятия, где мысль, слово, чувство, музыка (в его творчестве – музыкальность и ритмичность стихов) слиты в единое явление. Именно такому явлению древние культуры давали имя – поэт.
Весь строй его творчества, образный, а не логический, все его отношение к миру, как к становящемуся мифу – поэзия, а не философия.
Возможны ли искажения при передаче человеческим языком образов иноматериальных, понятий незнакомого нам ряда? Я думаю, что не только возможны, но неминуемы. Человеческое сознание не может не вносить привычных понятий, логических выводов, даже просто личных пристрастий и антипатий. Но, мне кажется, читая Андреева, убеждаешься в его стремлении быть, насколько хватает дара, чистым передатчиком увиденного и услышанного.
Никакой “техники”, никакой “системы медитаций” у него не было. Единственным духовным упражнением была православная молитва, да еще молитва “собственными словами”.
Я думаю, что инфаркт, перенесенный им в 1954 году и приведший к ранней смерти (в 1959-м), был следствием этих состояний, был платой человеческой плоти за те знания, которые ему открылись. И как ни чудовищно прозвучат мои слова, как ни бесконечно жаль, что не отпустила ему Судьба еще хоть несколько лет для работы, все же смерть – не слишком большая и, может быть, самая чистая расплата за погружение в те миры, которое выпало на его долю.
В “Розе Мира” он вводит понятие “вестник” – художник, осуществляющий в своем творчестве связь между мирами. Таким он и был.
Василий Васильевич Парин, советский академик, физиолог, атеист, очень подружившийся в тюрьме с Даниилом, с удивлением рассказывал мне: “Было такое впечатление, что он не пишет, в смысле “сочиняет”, а едва успевает записывать то, что потоком на него льется”.
Не писать Даниил не мог. Он говорил мне, что два года фронта были для него тяжелее десяти лет тюрьмы. Не из страха смерти – смерть в тюрьме была вполне реальна и могла оказаться более мучительной, чем на войне, – а из-за невозможности творчества.
Сначала он писал в камере на случайных клочках бумаги. При “шмонах” эти листки отбирали. Он писал снова. Вся камера участвовала в сохранении написанного, включая “военных преступников”, немцев и японцев, которые, не зная языка, не знали, что помогают прятать – это была солидарность узников.
После смерти Сталина и Берии было заменено тюремное начальство. Начальником режима стал Давид Иванович Крот, облегчивший режим, разрешивший переписку, разрешивший свидание с родными. Во Владимирскую тюрьму на свидания, продолжавшиеся час или два, стала ездить моя мать, а я в Мордовском лагере стала получать открытки и письма, исписанные стихами, мельчайшим почерком, который, вероятно, вконец измучил лагерного цензора. Но письма он отдавал.
Вот тогда и были написаны черновики “Розы Мира”, “Русских богов” и “Железной мистерии”; восстановлены написанные до ареста “Янтари”, “Древняя память”, “Лесная кровь”, “Предгорья”, “Лунные камни”; написан цикл стихотворений “Устье жизни”. Отрывки из поэмы “Германцы”, которые он вспомнил, вошли в главу “Из маленькой комнаты” книги “Русские боги”.
*
Время шло. В 1956 году начала работу хрущевская Комиссия по пересмотру дел политзаключенных.Эти комиссии работали по всем лагерям и тюрьмам. На волю вышли, я думаю, миллоны заключенных. На том лагпункте, где была я, из двух тысяч женщин к концу работы Комиссии осталось всего одиннадцать. Один из “Великих арестантских путей”, железная дорога Москва – Караганда через Потьму летом 1956 года всеми поездами везла освобожденных, а вдоль путей стояли люди и приветственно махали руками этим поездам.
Меня освободили в самом конце работы и очень буднично: надзиратель вошел в барак и сказал: “Андреева, собирайся с вещами, завтра выходишь на волю”.
Я и вышла, в золотеющий мордовский лес. 15 августа была в Москве, 25 августа 1956 года – на первом свидании с мужем во Владимире.
Мы увиделись в малюсенькой комнате. Он уже ждал меня, его привели раньше. Очень худой, седой, голова не была обрита, как полагалось заключенным. О радости нечего и говорить – поднял меня на руки.
Надзирательница смотрела на нас, полная искренних сентиментальных чувств, и не видела, как Даниил под столиком, нас разделявшим, передал мне четвертушку тетради со стихами, а я ее спрятала в платье.
Комиссия снизила ему срок с 25 до 10 лет. Оставалось еще восемь месяцев, но не это было страшно, а то, что при освобождении по концу срока не снималась судимость, а это значило – отказ в прописке в Москве. А он умирал, и это знали все. И он знал.
Такое решение Комиссии было вызвано его собственным заявлением, на эту Комиссию поданным. По смыслу оно было таким: “Я никого не собирался убивать, в этой части прошу мое дело пересмотреть. Но, пока в Советском Союзе не будет свободы совести, свободы слова и свободы печати, прошу не считать меня полностью советским человеком”. Было ясно, что надо хлопотать об еще одном пересмотре дела, но прежде всего надо было спасти черновые рукописи, созданные в тюрьме. Поняв, что для пересмотра его привезут в Москву, мы договорились, что все рукописи он оставит в тюрьме. Узнав, что его привезли на Лубянку, я поехала во Владимир как бы на свидание. Меня привели к начальнику режима, Давиду Ивановичу, о котором я упоминала. Он сказал мне, что Даниила Леонидовича увезли в Москву, а потом отдал мне мешок с вещами, оставленный Даниилом. В автобусе, по дороге в Москву, я уже выхватывала из мешка тетради с черновиками стихов и “Розы Мира”. Там была нарочитая путаница: тапочки, книжки, тетрадки, рубашка и т.д.
Но Давид Иванович знал, что отдает мне, и сделал это сознательно.
А начавшееся в Москве переследствие совсем не обещало благополучного конца.
Даниил Леонидович рассказывал, что допросы были только днем и запись вела стенографистка. Очень скоро, по характеру задаваемых вопросов, он понял, что следователь собирает материал для нового срока, “шьет дело”.
Я пробилась на прием к этому следователю – передо мной был персонаж сталинского времени: крупный, тяжелый, большелицый, с ледяными выпуклыми глазами.
Я не помню короткого и ничего не значащего разговора с ним. Было ясно: безнадежно. Новый срок.
В лагере на очень короткое время скрестилась моя дорога с 14-летней дорогой по лагерям одной женщины – надеюсь, что она жива; ее имя – Валентина Пикина. В 1956 и 1957 годах она, реабилитированная, работала в ЦК, занимаясь восстановлением в партии реабилитированных коммунистов. С ней меня и свели реабилитированные старые коммунистки, отбывавшие срок в Мордовии. По ее совету я написала отчаянное заявление о том, что моего мужа, смертельно больного, допрашивают, и я прошу – как странно это сейчас прозвучит! – психиатрической экспертизы. Как В.П. все сделала, я не знаю, но Даниила перевели в Институт им. Сербского, который не был тогда тем черным местом, каким стал позже. Через три-четыре месяца последовало заключение: “лабильная психика”. Это значило, что роковое заявление, из-за которого ему оставили срок, хотя и уменьшенный, он мог написать в состоянии депрессии. А она может наступать и проходить.
Вот как это выглядело для него по его рассказу; он не знал о моих хлопотах, связи между нами не было никакой, кроме передач.
На одном из допросов его спросили об отношении к Сталину.
“Ты знаешь, как плохо я говорю”.
Это была правда, он был из тех, кто пишет, но не любит и не умеет говорить – из застенчивости.
“Так вот, я не знаю, что со мной произошло, но это было настоящее вдохновение. Я говорил прекрасно, умно, логично и совершенно убийственно – как для “отца народов”, так и для себя самого. Вдруг я почувствовал, что происходит что-то необычное. Следователь сидел неподвижно, стиснув зубы, а стенографистка не записывала – конечно, по его знаку”.
После этого, не зафиксированного, допроса его увезли к Сербскому.
Утром 21 апреля 1957 года он вышел на свободу из двери огромной крепости на Лубянке в залитую солнцем Москву и пришел на Кузнецкий мост 24, в приемную, где я его ждала, застыв от волнения. Мы взялись за руки и пошли в Подсосенский переулок к моим родителям, потому что ничего своего у нас не было.
*
Началась последняя глава жизни Даниила Андреева.
Жили мы с ним где попало: у моих родителей, у друзей на даче, в Доме творчества в Малеевке (это сделал Союз писателей), в деревне за Переславлем-Залесским, в деревне на Оке, в Доме творчества художников на Северном Кавказе. Даже снимали крошечную квартирку в Ащеуловом переулке в Москве.
Первый год мы просто нищенствовали: друзья собирали и приносили нам деньги, стараясь, чтобы мы не знали, от кого. Через год Даниилу Леонидовичу заплатили по специальному ходатайству Союза писателей за самую маленькую из книг Леонида Андреева, к тому времени изданных, и дали персональную пенсию – 1200 рублей старыми деньгами, т.е. 120 новыми. Можно было платить за квартиру, снятую сначала за деньги моих родителей и друзей, и окружить умирающего всем, что только могло облегчить его болезнь. Я искать работу не могла, от него нельзя было отойти, да и сама я, как оказалось, была очень серьезно больна.
В.В.Парин сделал все, что мог, для спасения жизни друга: его лечили в кардиологическом отделении Института им. Вишневского, где он, за последние два года жизни, несколько раз лежал. А меня медсестры научили оказывать первую помощь вместо “неотложки”.
Едва кончался очередной сердечный приступ, он брался за работу.
Удивительные были эти два года! Когда я сейчас смотрю на то, что называется “Литературным наследием Даниила Андреева”, я не понимаю, как мог смертельно больной, только что вышедший из десятилетнего заключения, бездомный, ничего не имеющий человек столько сделать! (Да еще и перевести по подстрочнику несколько японских рассказов Фумико Хаяси, изданных уже после его смерти.) Мы жили как бы внутри его мироздания, только по необходимости соприкасаясь с реальным миром. Настоящей реальностью было то, что он писал, а он читал мне каждую страницу, каждое стихотворение.
Одним из праздников, отметивших возвращение, было посещение Большого зала Консерватории. Исполнялась одна из симфоний Шостаковича – я не помню какая, и не помню, кто дирижировал, хотя, мне кажется, это был Мравинский – для нас перекличка с тем, таким памятным, исполнением Пятой симфонии.
Даниил отказался от предложения подняться на лифте, даже рассердился: “Как ты не понимаешь, что для меня важно именно подняться по этой лестнице! Эта лестница – один из самых драгоценных символов возвращения в Москву!” И поднялся. Медленно, с остановками, но по той широкой белой лестнице, которая так дорога настоящим москвичам.
*
Даниил Леонидович требовал, чтобы никто, кроме меня, не знал о его работе над “Розой Мира”. Требовал, чтобы я уничтожала все письма, приходящие на его имя, – для того, чтобы, если арестуют еще раз, ни один человек не был крепко связан с нами. У него совершенно не было чувства безопасности. Наборот, он считал, что слежка за нами идет по-прежнему. А “мы” – это было его творчество.
Я же, подчиняясь его требованиям, считала такое состояние результатом тюремного шока, зная, что никто не возвращается из заключения с неповрежденной психикой. Оказалось, что поврежденная психика была у меня, неизлечимо доверчивой и легкомысленной. А он был прав.
Освободившись, мы были встречены любящими друзьями Даниила. Были и новые друзья. Одной из таких была молоденькая племянница сокамерника Даниила, очень о нас заботившаяся. Она была на заметке в ГБ, потому что ездила на свидание с дядей. Когда она стала часто бывать у нас, ее вызвали и предложили сообщать о том, кто у нас бывает, а главное – что Андреев пишет. На ее слова о ставших известными ужасах и несправедливостях, которым подвергались такие люди, как мы, ответ был прост и выразителен: “Что-то было напрасно, а что-то нет. Некоторым людям самое место там, откуда их выпустили”.
Абсолютно порядочная и умная девушка поступила просто: мягко отдалилась от нас, чтобы иметь возможность не отвечать ни на какие вопросы. Рассказала она мне все уже через несколько лет после смерти Даниила. Это был 1958 год.
*
Стенокардия Даниила Леонидовича имела ярко выраженный эмоциональный характер. Естественно, что никаких физических нагрузок нельзя было допускать; их и не было. Но любое волнение, любое сильное впечатление, даже радостное, вызывало сердечный приступ.
Работа подвигалась. Болезнь тоже. Наперегонки.
Осенью 1958 года мы поехали в Дом творчества художников, в Горячий Ключ на Северном Кавказе. В самом Доме творчества, в долине, жить, как оказалось, Даниилу было нельзя из-за испарений самого Горячего Ключа. Мы сняли маленький белый домик на горе, и наступила последняя – слава Богу, прекрасная осень его жизни.
Золотели огромные чинары, уходившие в совершенно синее небо, внизу огнем горел подлесок азалий; в крохотной кухне я по вечерам топила печку, и был наш любимый живой огонь. За печкой свиристели сверчки, а ночью перед порогом ложился хозяйский пес, дворняга, трогательно подружившийся с нами.
Я даже уходила писать пейзажи, чему радовались мы оба: это было похоже на нормальную жизнь.
К сильным приступам загрудинных болей добавились приступы удушья.
12 октября 1958 года он закончил “Розу Мира”. Я вернулась домой с этюдником и подошла к нему – он работал в саду. Дописав последнюю строчку, он сказал мне очень серьезно и печально: “Я кончил книгу. Но знаешь, не рад. Как у Пушкина: Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?” А это был конец. С этого момента болезнь пошла все быстрее и быстрее. Было такое чувство, будто ангел, поддерживавший его все время, с последней строчкой этой книги тихо разжал руки – и все понеслось навстречу смерти.
В начале ноября 1958 года я с трудом довезла его до Москвы.
Не перечислить, даже не вспомнить всех чужих людей, которые помогали нам в эти два года. Я была одна непосредственно около него и постоянно обращалась к первым встречным за помощью, никогда не встречая отказа.
В конце февраля 1959 года мы, наконец, получили 15-метровую комнату в двухкомнатной коммуналке, и друзья, взяв его из больницы, на руках внесли на второй этаж дома N 82 по Ленинскому проспекту – тогда это был последний дом города, дальше начинались пустыри.
Наступили последние сорок дней жизни. Они были совсем нереальны. Умирал он тяжело. Мистически эта душа, видно, должна была что-то еще искупить на Земле. А реально – я не давала умереть: не отходила от него, вцеплялась во врачей, требуя еще что-то сделать, по существу, продлевала агонию. А в промежутках был его мир, потому что рукописи он не выпускал из рук и погружался в них, едва становилось чуть легче.
Друзья, сменяя друг друга, приезжали каждый день, привозили все необходимое и сидели на кухне, ненадолго заходя в комнату – больше он не выдерживал. Соседка, совсем чужая и совсем простая женщина, с утра забирала двоих детей и уезжала к родственникам до вечера.
Ни с кем не хотел он говорить о своей болезни, удивлял тем, что помнил и расспрашивал о том, что было важно для вошедшего.
Однажды продиктовал мне список тех, кого хотел бы видеть на своих похоронах – это он так выразился… Список я передала Борису Чукову, верному молодому другу, и тот постарался выполнить волю Даниила. Он же сделал прекрасные фотографии за месяц до смерти.
Совсем незадолго до конца попросил меня прочесть ему сборник “Зеленою поймой”. Я прочла и посмотрела на него. На глазах у него были слезы. Он сказал, как о чужом: “Хорошие стихи”.
Он умер 30 марта 1959 года, в день Алексея Божьего человека. Похоронен на Новодевичьем, рядом с матерью и бабушкой, на месте, купленном в 1906 году Леонидом Андреевым для себя.
*
В 1958 году нас познакомили с замечательным московским священником, протоиереем Николаем Голубцовым. Отец Николай исповедовал и причащал нас, а 4 июня 1958 года он обвенчал нас в Ризположенском храме на Шаболовке. В пустом храме, без хора, с двумя друзьями-свидетелями и двумя храмовыми прислужницами.
Через четыре дня мы отправились на пароходе Москва – Уфа в наше свадебное путешествие. Было прекрасно, и чувствовал он себя тогда еще сносно. А рукописи были с нами. Однажды он, сидевший на палубе, позвал меня. Я выбежала из каюты: мы подходили к Ярославлю, было раннее утро, и сквозь редеющий туман сияли ярославские храмы. Это – образ той поэмы, “Плаванье к Небесному Кремлю”, которую он “не успел написать”.
*
С черного хода, с помощью нянечек отец Николай прошел в палату, где последний раз лежал Даниил, чтобы исповедовать и причастить его. И дома, совсем перед смертью, тоже исповедовал и причащал. А потом отпевал, сначала дома, потом – в Ризположенском храме. Гроб стоял на том же месте, в приделе св. Екатерины, где за восемь месяцев до этого нас венчали.








