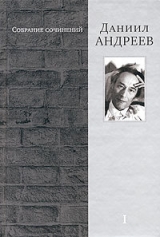
Текст книги "Андреев Д.Л. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1: Русские боги: Поэтический ансамбль."
Автор книги: Даниил Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Пять сажон летит стремглав.
На коне въезжает Шуйский
В Кремль, сарынью окружен:
Крест горит в подъятой шуйце,
Меч – в деснице, без ножон.
Топот толп по доскам пола,
Будто всплески полых вод:
– Бей! ищи!!
иль все пропало!!
– Где он? где он?
– Вот! вот!
– Он, угретый в папском Риме!
Слатель бед!..
– Кто ты, падаль? Имя! имя! –
И в ответ
Из предсмертного тумана
Шепот, слышимый едва:
– Я – от рода Иоанна…
Твой законный царь, Москва!
Так владелец части Грозного в груди
Исповедовался, Бог его суди;
Так, в загробное страдалище влеком,
Еле вымолвил косневшим языком.
Потащили его – по горючим
Злым кремлевским камням,
По кровавым, по мстительным, жгучим
Сорока ступеням.
Одолел он весь путь без усилий –
Все царево крыльцо;
В зубы втиснули дудку; укрыли
Черной маской лицо;
Жгут стянули на горле… И прямо
У порогов Кремля
Распростерли, для горшего срама
Белый труп оголя.
Над развенчанным призраком в маске
Измывался народ
Целый день – меж Никольских и Спасских,
Двух великих ворот.
И вершитель безумств и насилий,
Новый призрак кромешных времен,
Был у Лобного места Василий
В тяжесть барм облачен.
Вот, смеркается. Отблески зарев
Кремль и Красную тускло багрят,
Кровеня белый столп государев
И церквей беззащитный наряд.
Над качнувшейся русской твердыней
Уицраор вчерашних годин
Битву с хищной сестрой и врагиней
Начинает – один на один.
И над трупом ночные дозоры
Ставит царский указ:
“Не сводить с богохульника-вора
Зорких глаз!”
Сумрак площади пуст.
Голк бУнта
Смолк в посадах. Ночной
град –
нем.
Поздний отсвет зари
лег
лентой…
Чу, вверху-голоса…
кто?
с кем?..
Взад-вперед, взад-вперед
бдит
стража,
Чуть белеет в сырой
мгле
труп…
Синеватый огонь –
знак
вражий
Вдруг под маской мелькнул,
у губ.
И откуда невесть –
гром
рога
Разметал
будкий сон
Москвы,
Будто с ветром ночным
рать Гога
И Магога пришла,
Как львы.
Зарыдала сопель,
взвыл
бубен,
Чей-то, выше крестов,
взмыл
визг…
Разухабистый пляс –
дик,
дробен –
Вверх и вниз загудел,
Вверх-вниз.
Понеслись, гогоча,
вскачь
бесы
Через площадь –
из ям,
из рвов,
И на миг разошлась
завеса
Вековая
меж двух
миров.
И, подхвачен смерчем
в край
Велги,
В край гасительницы
Всех душ.
Он понесся к ней вдаль,
в дождь
мелкий,
В дождь нездешний,
вдоль ям
и луж.
Но такой
Мрак
веял оттуда,
Что, завыв, закричав, моля,
Вновь рванулось
в мертвую груду
И забилось к ней в щели
“я”.
Пусть его, приказом царевым,
На туманной, мутной заре
Волны черни
с похмельным ревом
Провлачили к смрадной дыре.
Но едва
царь утром из храма
Шаг ступил – уж гремела весть,
Что, ожив,
труп вышел из ямы
И что синих огней – не счесть!
Доводя до безумств
немилость,
Свирепея, как дух чумы,
Жгучим гневом воспламенилось
В уицраоре
семя тьмы.
Страхом, ненавистью и злобой,
Той, что всё сокрушает зря,
Преисполнил он
узколобый,
Едко-мстительный
ум царя.
Еще рдел меж зубцов
край
солнца,
Еще издали в Кремль
шла
ночь,
А приказ уж был – самозванца
Сжечь,
кромсать,
истерзать,
толочь.
И когда многоногий топот,
Довершив это дело, стих –
Пушка ухнула в мрак
на запад,
У ворот
у Серпуховских.
Залп развеялся, пепел сея,
Лжевоскресшего,
лжецаря…
Залп развеялся.
Плачь, Россия,
Плачь, безумную казнь творя!
И под лунным знаком двурогим
Он понесся,
быстрей совы,
По дорогам,
хмурым дорогам,
На безмолвный
рубеж
Литвы.
Часть третья
Велги бедный скоморох,
Горстка пепла,
Рыщет, ищет вдоль дорог
Души-дупла:
В кабаке под гам и крик
С бранью райкой,
В сердце праздное проник,
Вьется струйкой;
Льется, в дьявольской алчбе,
С током крови,
Плоть горячую себе
Холит внове.
– Ой, царя Димитрия хранил,
знать,
бес:
Спас уловкой хитрою, укрыл
в яр,
в лес;
Жив, здоров, целехонек, – тучней,
чем
встарь,
Сатанин помазанник, упырь!
бич!
царь!
Скрыл ли бес его меж сов,
Спрятал ли средь чащ его –
Только вышел из лесов
Образ шни гулящего.
Сам забыл вчерашний тать,
Плут без племени,
Как дерзнул вождем он стать
В этой темени;
Сам не знал, пургой гоним –
Кто он, где он,
Только чует, будто с ним
Чей-то демон
Веет вкруг калужских стен,
Кличет вольных –
Рать сметает в его стан
С троп крамольных.
Ох ты, Ох ты,
эх ты, эх ты,
Сын боярского раба,
Судьбокрутень! скоморох ты!
В пальцах беса тарнаба!
Эх ты, эх ты – ах ты, ах ты,
Ух! горлан ватаг и свор!
Царь татар, казаков, шляхты
И дворян – Тушинский вор!
Нечто лютое вошло
В сердце каждое:
Обнажает дно и тло,
Бесит жаждою;
Колобродит напролом
В сонмах душ оно,
И боярство – бить челом
Едет в Тушино.
Что грозишься, Русь-земля,
Волчье зарево,
В щуры смолкшего Кремля
Государева?
Иль под нудный звяк цепей
Жизнь наскучила?
Иль вольней –
взамен царей
Холить чучела?..
Вьюга-матушка! закрой
Даль безлицую:
Вон, сереет кремль второй
Под столицею:
Весь в палатках – город-стан,
Город-марево, –
Там с Мариной атаман –
Бражный царь его.
От дракона, от колосса
Умирающей державы
Тени детищ стоголосных
Рвутся вширь:
Каждый – алчный, многоглавый,
Каждый – хочет, жаждет, нудит
Пить – упав к народной груди,
Как упырь.
– Отпочковываются…
– Отклочковываются…
И все явственней
в тучах восстаний
Эти ядра вихрящейся тьмы,
Все безумней
их схватки, их танец
И мелькание
их бахромы.
И уже не понять: то ли Велга
Грает в небе, черней воронья,
То ль по руслам, широким как Волга,
Льются призраки
небытия;
То ли к нивам земли скудоплодной
С поля Дикого мчит суховей,
То ли
Матери многонародной
Плач
о гибели
сыновей.
Взвыла осень.
Крепчает кручина,
Оторочится сумраком день,
И в поля замигает лучина
Из-под низкого лба деревень.
Ах, сырые поля! дождевые!
Голос баб
на юру:
Это – мать; не поднять головы ей
С трав сырых
ввечеру.
– Уходил ты за Черную Рамень,
Пал от ран –
я жива –
Размозжись о горюч-белый-камень,
Голова!
Ах, сырые поля, дождевые!
Прель и прах…
Горький дух…
Ворот шитый растерзан на вые
Молодух.
– Где могилка твоя неукрашенная,
Далека ли? близка ли?
Сбились с ног ребятеночки наши,
Твое тело искали.
Лег в степи ли потоптанной, помер ли
Под секирой, в тюрьме ли –
Только вышла жена твоя по миру,
Куда очи глядели.
Ах, сырые поля, грозовые поля,
Да полынь, да бурьян, да репей,
Вероломство чарус, да лихая земля
Неумилостивленных
степей!
Ах, сырые поля, дождевые!
Вопли баб…
Хохот баб:
Уж кругом – кудеса вихревые,
Смерд и поп –
дьяк и раб –
То зипун, то юшман, то бродяжья милоть,
Чмур и чад полюбовных забав, –
Кто-то наземь швыряет, внедряется в плоть,
Перегаром лицо одышав.
Вижу мутный разлив половодный,
Слышу древние, лютые сны –
Плач защитницы плоти народной
О погибели
всей страны.
Уж не демону бурной России –
Нет, любому исчадью его
Расточает она огневые
Ласки, жалобы – все существо:
Лишь восполнить страшную убыль,
Лишь народную плоть умножать, –
Отогнать всероссийскую гибель,
Как от детищ – безумная мать!..
Не в Кремле, на царственном ложе –
Но в оврагах, во рву, в грязи,
С незнакомым, злым, мимохожим
Ее скрещиваются
стези.
И уже не поймешь: то ль – в блеске
От костров,
она мчится
в пляс,
То ль – другая, без черт,
лишь
в маске,
Торжествует свой день,
свой час.
В пламенеющих тканях –
в тучах
От развеиваемых
городов,
Две богини борются, муча
Матерей,
и невест,
и вдов.
Две богини – два существа,
А под ними – страна,
Москва.
И последней судорогой воли
Уицраор творит слугу,
Кто б сумел на древнем престоле
Русь поднять
на отпор врагу.
Светлонравен, могуч, дороден,
Мудр и храбр Михаил Скопин:
Ток любви народной восходит
К искупителю древних вин.
Взмах на юг – и рваною мглою
Расточится кромешник Вор;
Взмах на запад – и мощь удалая
Бьет об панцири польских свор…
Богатырь!..
Золотым трезвонам
Всех московских соборов внемль!
Уж гудит хвалой по амвонам
И на стогнах широких
Кремль.
Только – поздно!
Белые пурги
Все укроют
бронею
льда,
Но вовек не вернут демиурги,
Раз отняв уже,
свое ДА.
Стужей, изморосью, в ростепель, росой
Бродит бебенем бездомный да босой,
Слышит смехи в завихрившейся пыли,
Ловит хохоты во рвах из-под земли –
Вот – поймал:
пересвистом,
перегромом
Кычит Велга над судьбой богатыря:
Не спасут его бояре по хоромам,
Ни – святители
в стенах
алтаря!
Пир. Пылающие свечи. Смех и гам.
Мнится – близок упокой
всем врагам.
Лишь боярыня-хозяйка
бледна,
На подносе поднося
ковш вина.
Взор змеиный, а как пава
плывет,
Гостю-витязю,
склонясь,
подает:
– Выпей зелена-вина, сударь-князь! –
И он кубок берет, не хранясь.
Взвыла горькая Москва – сирота.
Плачем плачут города
всей Руси.
В топких улицах
от толп
чернота,
А от Велги чернота
в небеси.
От Успенских святынь
до застав –
Вопль, рыданья,
топот ног,
визг колес;
Царь Василий, перед троном упав,
Рвет кафтан,
задыхаясь от слез.
Не ввели вас ангелы благие
Под святой покров,
Вы, надежда, светочи России,
Скопин-Шуйский! Федор Годунов!
Ибо кубок смерти и бесславья
Осужден был выпить в этот час
Первый Демон Великодержавья,
Перед смертью пестовавший вас.
Там, за гробом,
вам – всё море света,
В жизни ж – яд, петля, да в ближний ров.
Не прибудет помощь Яросвета:
Рок суров.
В круг последнего мытарства,
Всё дымясь, клубясь, горя,
Распадаясь, никнет царство
Всероссийского царя.
Уицраоров подкидыш,
Буйных бесов бедный кум,
Всё ты, Шуйский, черту выдашь,
Бесталанный узкодум!..
День за днем пустей в палатах…
Ветер крышей дребезжит…
С красных век подслеповатых
Сон бежит.
Звездочет, взревев на дыбе,
Видно, злую правду рек:
Знаки звезд вещают гибель,
Близкий мрак…
Адский брег…
Дряхлым ртом, в чаду моленной
Пол целуя, в блеске свеч
Молит царь Судью вселенной
Жизнь сберечь.
Но суров закон созвездий,
Прав их путь,
И железное возмездье
Изменяет вид – не суть:
Да, не казнь. Не смерть. Но скоро
Вступит он на путь ко дну –
В дни, позорней всех позоров,
В польской крепости, в плену.
Как: в плену?!
Да, в плену;
Но и там не снять вину:
Там, коленопреклоненно,
Срам с холопом разделя.
Он приникнет в зале тронной
К белым
пальцам
короля.
В города, в скиты глухие –
Шепот уст:
– Совершилось! Трон России
Пуст.
И еще – страшней всех страхов
И измен:
В башне пыточной, у ляхов
Гермоген.
Патриарх, надежда мира,
Столп Руси…
Господи! От злой секиры
Света-пастыря спаси…
А на воле – ветер, ветер,
А на воле ропщет люд;
Запад, юг, восток и север
Самозванцев новых шлют.
Уж в очах рябит… и тяжко
Явь колышется, как сон:
Царь Ерошка… царь Ивашка…
Тришка… Тишка… Агафон…
В поле дикое
Мчатся, гикая,
Чехардой,
за бесом бес,
Лают оборотни,
Кувыркнулся – и исчез,
Сгинул опрометью;
Сдох один на правеже –
Встречай горшего!
Не орлы уже –
Только коршуны;
Ни добра, ни зла,
Ни отечества,
Не щадят ни ремесла,
Ни купечества…
Орды ханские!
Морды хамские!
Только слышно: – Й-их!! –
В хмельной удали…
То ли Каин в них?
Сам Иуда ли?..
Ржанье конское!
Степь задонская!
С дьяком, смердом, стражником
в гульбе
слив
чернь,
Вьются судьбы страшные,
крутясь,
Как зернь.
В буйные снеговища,
сквозь рев,
всхлип,
плач,
Конники-чудовища
во мгле
мчат
вскачь.
Ветер с ледоходов…
Слеза…
Резь
глаз…
Черти с непогодою
длят
свой
пляс:
Сивой снегокрутицей
шуршат
вдоль
троп,
Черною распутицей
глушат
Галоп.
Хмель туманит головы.
В метель
И в таль
Вскачь!.. Пылают головни…
В кострах
вся
даль…
У костров – шумиголовы.
Вкруг –
ни зги.
– Не ковшами – пригоршнями:
– Пой!
– Режь!
– Жги!
Не понять: ночь? день? вечер ли?..
Что за год? век?.. Из ума
Взмахи битв, бурь, бед
вытерли
Все, что Бог…
что не есть
тьма.
Не персты
рук
в рот
вложены,
Не лихой
встал
вверх
свист:
Сам собой
смерк
свет
в хижинах
И с дубов
пал
в грязь
лист.
Звук крепчал,
рос,
выл
в сумерках,
Как буран,
как
злой
рух,
Как ночной
рог,
вопль
умерших,
И пред ним
луч
звезд
тух.
Трепетал
нимб
свеч
в храмах,
По домам
люд
тряс
зноб;
У кладбищ,
рвов,
пней,
в ямах
Мелкой дрожью
дрожал
гроб.
Так встречал свой конец
смертный
Уицраор – сам раб
тьмы;
Так кричал он –
слепой
жертвой
Сил, которых не зрим
мы.
Раздираем на рой
дымов
Сворой детищ своих,
к тлу
Он низвергся, удел
вынув
Тот, что вечно сужден
Злу.
И толпа его чад
свищущих,
Улюлюкая вновь,
вновь,
Устремилась – пожрать
хищное
Сердце отчее, и пить
кровь.
Так обрушились
врозь
плиты,
Возраставшие семь веков;
Захлестнула Речь Посполита
И Москву,
и ее богов.
И слились – пурговой
Яик,
Волга, Волхов – в один
шквал
Вольниц Велги, ватаг,
шаек,
Где сам дьявол
рать волн
гнал.
А над ними, к небосводу,
Из твердынь былого царства,
Дальним блеском тьму России
С туч надмирных пороша,
Светлой мглою воспаряла,
Чашей света возносилась,
Отрываясь от народа,
Ввысь, Соборная Душа.
Струны смутные звучали,
Струи капали святые,
И, не смея досверкать
До земли,
В поднебесьи меркли, тая:
То ли – плач самой печали,
То ль – прощанье Навны с миром
Там, вдали.
Часть четвертая
Хмелея – в дни счастья,
плача – в разлуку
И чувства влагая в размер,
в звон
строф,
Что ведать мы властны про боль,
страсть,
муку
Гигантов – не наших,
смежных
миров?
Превысив безмерно наш жар,
наш холод,
Знакомых нам бурь
размах и разбег,
Их гнев сокрушает
бут царств,
как молот,
Их скорбь необъятна, как шум
ста
рек.
И если бы в камне словесном высечь
Сумел я подобья тех слов,
тех чувств –
Расплавился б разум
тысяч и тысяч
От прикосновенья
к чуду искусств.
Но не с чем сравнить мне жар состраданья,
Тоску за народ,
порыв к высоте,
Что сам демиург
бушующей данью
Принес перед Богом
в годины те.
Взыскуемый храм Вселенского Братства
Едва различался вдали,
в дыму;
Излучины бедствий, подмен, святотатства,
Столетья соблазнов
вели к нему.
– И пал Яросвет, и коленосклоненно
Лобзал кровавую персть
страны,
Себя наказуя
мукой бездонной
За плод своей давней, жгучей вины.
И, чтоб охранить
от развоплощенья
Соборную Душу,
на старый престол
Он нового демона
царство-строенья
Избрал,
благословил
и возвел.
Полночь ударила в тучах. И звук
Смолк, зачиная невиданный круг:
Новые тропы и новую кровь
Дню народившемуся приготовь!
Вот, в средоточьи
церкви Востока,
Строгое сердце горит за страну.
Отче святой! К благодатным истокам
Творчеством,
думой
и верой льну.
Серые своды.
Серая плесень.
В близком грядущем – смерть за народ.
И Яросветом
Посланный Вестник
Над патриархом России встает.
Стража у двери. Стужа. Зима.
Голоду-брату –
сестра-тюрьма.
Солнце не обольет на заре
Келейку в Чудовом монастыре.
Но непреклонный пленник привык
К лютым угрозам польских владык,
И безответно здесь замирал
Месс католических мерный хорал.
Грозные очи.
Скорбь и нужда
Лик сей ваяли года и года.
Тихая речь
тверда, как гранит.
Взор обжигает – и леденит.
Чуждые помыслы в облике том
Вытравлены беспощадным постом,
И полыхание странной зари
Светится в дряхлых чертах изнутри.
В четком ли бденьи вечернем,
В зыби ли тонкого сна,
Пурпуром, синью и чернью
Плещет над ним вышина:
В разум по лестнице узкой
Властно спускаясь во мгле,
Правит Синклит святорусский
Узником в пленном Кремле.
Быстро, в чуть скошенных строках,
Буквы рябят на бегу:
Северу, югу, востоку,
Градам в золе и в снегу,
Селам в отребьях убогих,
Хатам без крыш и без стен –
Клич единящий: – За Бога! –
Подпись одна: Гермоген.
А в поле дикое
Мчатся, гикая,
Мчатся все еще
Волны воль,
Рвань побоищ,
Пустая голь.
Но в ночи зимние
Тихие пазори
Встали по многострадальной земле:
Молятся схимники,
Молятся пастыри
Потом кровавым
за мир во зле:
– О, Матере Пренепорочная!
Заступница землям гонимым!
Ты светишь звездой полуночною,
Хранишь омофором незримым.
Утиши единством неложным
И буйство, и злое горение,
Конец положи непреложный
Конечному
разорению!
И над свечами
Духовных ковчегов
Тихо яснеет сходящий покров –
Кров от печали,
От ярых набегов,
От преисподних вьюг и ветров.
Звон
медный,
Звон
дальний,
Зов
медленный
В мир
дольний,
Всем
алчущим –
Клад
тайный,
Всем
плачущим –
Лад
стройный,
Чуть
брезжущий
В мрак
мира
С бесплотных вершин
дней,
Плывет по полям
сирым
Вдоль пустошей,
нив,
пней.
Наездник уронит поводья
В урочищах, сгибших дотла,
Заслышав сквозь гул половодья
Неспешные
колокола.
Рука поднимается,
Чело обнажается,
Во взоре затепливается
тихая боль,
И встречным молчанием,
И вечным знамением
Себя осеняет пропащая голь.
И скорбно, и тонко, и сладко
Поют перезвоны вдали
От Троицкой лавры, от Вятки,
От скал Соловецкой земли.
И зов к покаянию,
К забвенью розни,
Ни расстояния,
Ни шумы жизни
Не властны в плачущих
Сердцах ослабить, –
О, белый благовест!
Небесный лебедь!
Он тих был везде: по украйнам
У хаток, прижатых к бугру,
По жестким уральским арайнам,
В нехоженом Брынском бору,
По стогнам, дымящимся кровью,
Смолкала на миг у костра
Лихая сарынь Понизовья,
Казань, Запорожье, Югра.
Бродяга в избитой кольчуге
Задумывался
до зари
На торжищах пьяной Калуги,
На пепле скорбящей Твери.
Юдоль порывалась к сиянью,
Сквозь церковь сходившему в ад,
И огненный клич – К покаянью! –
Пошел по стране, как набат.
Келейно, народно, соборно,
Под кровом любого жилья,
Лен духа затепливая,
Воск воли растапливая,
Заискрились свечи, как зерна
Светящихся нив бытия.
Детища демона
тысячеглавого
Борются в схватках
орд и дружин;
Темные ядра грядущей державы
Щерятся в каждом,
Русь закружив.
Но обращается взор демиурга
Солнцеподобным лучом
в глубину:
Не к атаманам,
в чьих распрях и торгах
Исчадья геенны
рвут
страну;
Не к вольницам, чья удалая свобода
Закатывается
под карк воронья, –
Но к вечным устоям,
к корню народа,
К первичным пластам его бытия.
Туда, где лампаду веры и долга,
Тихо зажегшуюся в ответ,
Не угасят –
ни хищная Велга,
Ни те, кому знаков словесных нет.
В глубь сверхнарода, из пыточных стен
Зов демиурга шлет Гермоген.
Кличут на площади,
Кличут на паперти,
Кличут с амвонов, с камней пепелищ,
И толпы все гуще,
И новою мощью
Народ исполняется, темен и нищ.
Зверин по-медвежьему,
Голоден, – где ж ему
Ратью босой опрокинуть врага?
С бесовского Тушина
Царство разрушено
И разнизались
все жемчуга.
Виновен – как русский,
но волей – невинен,
Подвигнут на бой
набатом души,
Выходит в народ
родомысл
Минин
Из Волжской богосохранной глуши.
Саженные плечи,
выя бычачья,
Лоб шишковат и бел, а глаза –
Озера в дремучей керженской чаще,
Где пляшет на солнышке стрекоза.
Истово и размеренно
годы
В набожном скопидомстве текли
У щедрых и горьких сосцов природы,
В суровом безбурье черной земли.
Но колокол потрясающей Правды
Ударил по совести,
и жена
Уже причитаньями красит проводы,
В сердце покорное поражена.
Он говорит на горланящем рынке –
Чудо: народ глядит, не дыша,
В смерде, в купце, в белодворце, в иноке
Настежь распахивается душа,
И золотые сокровища льются
В чашу восторга,
в один порыв,
Будни вседневной купли и торга
Праздником мученичества
покрыв.
Дедами купленное,
Годами копленное,
Лалы, парча, соболя, жемчуга –
К площади сносятся,
Грудою высятся, –
Отроки просятся
На врага.
В тесной усадьбе
К смерти готовится
Военачальник, – ранен в бою;
Но полководцу
Участь – прославиться
И довершить победу свою.
Раны залечиваются,
Мысли просвечиваются
Солнцем премудрости и добра,
И к многотрудному
Подвигу ратному
Избранный свыше
встает с одра.
Мир в тумане. Еле брезжится
День на дальнем берегу.
Рать безмолвной тучей движется
Чрез Оку.
Час священный пробил. Вот уже
Враг скудеет в естестве,
Боронясь сверх сил наотмашь
В обесчещенной Москве.
Изогнулся град драконий,
Не забыв и не простя, –
Казней, узней, беззаконий
И святых молитв дитя!
Размозжен, разбит, распорот,
Весь в крови, в золе, в поту,
Грозный город! Страшный город!
С жалом аспида во рту!
То ли древних темноверий,
То ли странной правды полн,
Кликнул он – и вот, у двери,
Гул и гром народных волн.
Рог гремит немолчной трелью.
А внизу – не пыль, не прах:
Будто женственные крылья
Плещут стягами в полках.
Высь развернута, как книга.
Жизни топятся, как воск.
Дышит страсть Архистратига
В рвеньи войск.
И, огромней правды царской
Правду выстрадав свою,
Родомысл ведет – Пожарский –
Рать к венчанию в бою.
И, окрестясь над родомыслом,
Блещут явно два луча,
Разнозначным, странным смыслом
В поднебесьи трепеща.
Слышно Господа. Но где Он?
Слит с ним чей суровый клич?
Царству избран новый демон,
Страж и бич.
Он рожден в круговороте,
В бурных, хлещущих ночах –
Кровь от крови, плоть от плоти
Двух начал.
Он отрубит в бранном поле
Велге правое крыло,
Чтоб чудовище, от боли
Взвыв,
в расщелье уползло;
Лучше он, чем смерть народа,
Лучше он;
Но темна его природа,
Лют закон.
И не он таит ответы
Стонам скорбной старины –
Внук невольный Яросвета
И исчадье сатаны.
Он грядет, бренча доспехом,
Он растет,
Он ведет победам – вехам –
Властный счет;
Зван на помощь демиургом,
Весь он – воля к власти, весь,
Он, кто богом Петербурга
Чрез столетье станет здесь.
И, покорство разрывая,
Волю к мощи разнуздав,
Плоть и жизнь родного края
Стиснет, стиснет, как удав.
Жестока его природа.
Лют закон,
Но не он – так смерть народа.
Лучше – он!
Вот зачем скрестились снова
Два луча: из них второй –
Уицраора Второго
Бурный, чермный, вихревой.
Звон
мерный,
Звон
медный
раскатывается,
как пурпур
Небесного коронования,
над родиной рокоча,
Всем слышащим возвещая
победу над Велгой бурной
Владыки двух ипостасей –
героя
и палача.
К Успенскому от Грановитой
пурпуровая дорога
Ложится, как память крови,
живая и в торжестве,
И выстраданная династия
смиренным слугою Бога
Таинственно помазуется
в склоняющейся
Москве.
О призванном ко владычеству
над миром огня и крови,
О праведнейшем,
христолюбивейшем,
самодержавнейшем
всей Руси
Вздымаются, веют, плещутся
молитвенные славословия
И тают златыми волнами
в Кремле, что на Небеси.
И вновь на родовых холодных пепелищах
Отстаивает жизнь исконные права:
Сквозь голый шум дерев и причитанья нищих –
Удары топоров и лай собак у рва.
Так Апокалипсис великой смуты духа
Дочитывает Русь, как свой начальный миф,
Небесный благовест прияв сквозь звоны руха
И адским пламенем свой образ опалив.
Меж четырех морей – урманов хмурых марево,
Мир шепчущих трущоб да волчьих пустырей…
Дымится кровью жертв притихший Кремль – алтарь
его,
Алтарь его богов меж четырех морей.
И, превзойдя венцом все башни монастырские,
Недвижен до небес весь белый исполин…
О, избранной страны просторы богатырские!
О, высота высот! О, глубина глубин!
1952
Владимир
ГЛАВА 14
АЛЕКСАНДР
Должна была быть поэма в прозе о том, кто был Всероссийским
самодержцем и, поняв трагическую нерасторжимость греховного узла своей
власти, ушел на свершение духовного подвига под именем старца Федора
Кузьмича. Ушел – во искупление греха – своего, и династического, и всех,
имевших власть над Россией, но не умевших освободить ее от оков Демона.
Теперь Александр блистающим Всадником, могучим Императором-Искупителем
сражается среди светлого воинства по ту сторону нашего мира против сил
тьмы.
ГЛАВА 15
У ДЕМОНОВ ВОЗМЕЗДИЯ
Поэма
1.
Тускнел мой взор… власа редели…
Но путь был четок, хоть не нов:
Он вел меня в Наркомвнуделе
По твердой лестнице чинов.
– Ваш дух был строг, а руки – чисты, –
Нарком промолвил, мне вруча
Значок Почетного Чекиста
В футляре, блестком как парча.
Я бодро поднимался лифтом
В этаж “Особо важных дел”,
С врагами сух был и глумлив там,
Иль чертом в душу к ним глядел.
Фамилия… знакомый звук вам
К чему теперь?.. Но в годы те
С партийной четкостью, по буквам,
Ее писал я на листе.
Из них любой – путевкой смерти
Или путевкой в лагерь был,
Но я так верил, – и, поверьте,
Вливал в работу честный пыл.
Я стал размеренной машиной
И гнал сомненья. Довод прост:
Ведь – шутка ль? – сам непогрешимый
Нам доверяет этот пост.
К тому ж работа мне дарила
Порой конфетку: в этот час
Я невозбранно, как горилла,
Мог бить подследственных меж глаз;
Тех, кто вчера кичился рангом,
Упрятать в каменный мешок,
Хлестать по телу гибким шлангом
Иль просто взглядом вызвать шок.
Ценя и отдых, я в футболе
Весь шик ударов понимал,
И сын мой был в кремлевской школе
Весьма “продвинут”, хоть и мал.
Я ждал – и сердце замирало,
Что буду завтра, как герой,
Блистать лампасом генерала,
А после – маршальской звездой.
…Утяжеляя злодеяниями эфирную ткань собственного существа, этим он
обрекает себя катастрофическому срыву в глубь миров, как только
прекратится существование физического тела, позволявшего удерживаться на
поверхности.
2.
Списывать душу за душами “в нети” –
Это был мой
Долг.
Я то молчал, то рычал в кабинете,
Как матерой
Волк.
“Пом” говорил, подытожив таблицей
Груду бумаг,
Что
Явных врагов арестовано тридцать,
А просто так –
Сто.
…Чем-то острее когтей леопарда
Стиснулась грудь
Вдруг.
Молния мысли – “Инфаркт миокарда!!” –
Канула в муть
Мук.
Дальше – провал. Мимолетные кадры:
Алый венок…
Гроб…
Пышная речь… Министерские кадры…
Множества ног
Топ, –
Траурный марш, – и в отчаяньи, злобе,
Ярость кругом
Лья,
Еду куда-то на собственном гробе,
Точно верхом,
Я.
Мглистый, туманный, разутый, раздетый,
Я среди дня
Дрог…
Хоть бы один из процессии этой
Видеть меня
Смог!..
Помнится острый озноб от догадок:
– Умер!.. погиб!..
Влип!..
И самому мне был тошен и гадок
Собственный мой
Всхлип.
…В первые часы посмертия он теряет всякий ориентир. Уясняется, что,
веруя прежде в смертность души, он убаюкивал самого себя.
3.
Не знаю где, за часом час,
Я падал в ночь свою начальную…
Себя я помню в первый раз –
Заброшенным в толпу печальную.
Казалось, тут я жил века –
Под этой неподвижной сферою…
Свет был щемящим, как тоска,
И серый свод, и море серое.
Тут море делало дугу,
Всегда свинцово, неколышимо,
И на бесцветном берегу
Сновали в мусоре, как мыши, мы.
Откос покатый с трех сторон
Наш котлован замкнул барьерами,
Чтоб серым был наш труд и сон,
И даже звезды мнились серыми.
Невидимый – он был могуч –
Размеренно, с бесстрастной силою,
Швырял нам с этих скользких круч
Работу нудную и хилую.
Матрацы рваные, тряпье,
Опорки, лифчики подержанные
Скользили плавно к нам в жилье,
Упругим воздухом поддержанные.
Являлись с быстротою пуль –
В аду разбиты, на небе ли –
Бутылки, склянки, ржа кастрюль,
Осколки ваз, обломки мебели.
Порой пять-шесть гигантских морд
Из-за откоса к нам заглядывали:
Торчали уши… взгляд был тверд…
И мы, на цыпочках, отпрядывали.
Мы терли, драяли, скребли,
И вся душа была в пыли моя,
И время реяло в пыли,
На дни и ночи не делимое.
Лет нескончаемых черед
Был схож с тупо-гудящим примусом;
И этот блеклый, точно лед,
Промозглый мир мы звали Скривнусом.
Порой я узнавал в чертах
Размытый облик прежде встреченных,
Изведавших великий страх,
Машиной кары искалеченных.
Я видел люд моей земли –
Тех, что росли так звонко, молодо,
И в ямы смрадные легли
От истязаний, вшей и голода.
Но здесь, в провалах бытия,
Мы все трудились, обезличены,
Забыв о счетах, – и друзья,
И жертвы сталинской опричнины.
Все стало мутно… Я забыл,
Как жил в Москве, учился в Орше я…
Взвыть? Шевелить бунтарский пыл?
Но бунтаря ждало бы горшее.
А так – жить можно… И живут…
Уж четверть Скривнуса освоили…
На зуд похожий, нудный труд –
Зовется муками такое ли?!
…В Скривнусе он чувствует подлинное лицо обезбоженного мира.
Сознание души озаряется мыслью: стоило ли громоздить горы жертв – ради
этого?
4.
Но иногда… (я помню один
Час среди этих ровных годин) –
В нас поднимался утробный страх:
Будто в кромешных,
смежных мирах
Срок наступал, чтобы враг наш мог
Нас залучить в подземный чертог.
С этого часа, нашей тюрьмы
Не проклиная более, мы
Робко теснились на берегу,
Дать не умея отпор врагу.
Море, как прежде,
блюло покой.
Только над цинковой гладью морской
В тучах холодных вспыхивал знак:
Нет, не комета, не зодиак –
Знак инструментов неведомых вис
То – остриями кверху,
то вниз.
Это – просвечивал мир другой
В слой наш – пылающею дугой.
И появлялось тихим пятном
Нечто, пугающее, как гром,
К нам устремляя скользящий бег:
Черный,
без окон,
черный ковчег.
В панике мы бросались в барак…
Но подошедший к берегу враг
Молча умел магнитами глаз
Выцарапать из убежища нас.
И, кому пробил час роковой,
Крались с опущенною головой
Кроликами
в змеиную пасть:
В десятиярусный трюм упасть.
А он уже мчал нас – плавучий гроб –
Глубже Америк, глубже Европ.
Омутами мальстрема – туда,
Где трансфизическая вода
Моет пустынный берег – покров
Следующего
из нисходящих миров.
5. МОРОД
Я брошен был на берегу.
Шла с трех сторон громада горная…
Тут море делало дугу,
Но было совершенно черное.
Свод неба, черного как тушь,
Стыл рядом, тут, совсем поблизости,
И ощущалась топкость луж
По жирной, вяжущей осклизкости.
Фосфорецируя, кусты
По гиблым рвам мерцали почками,
Да грунт серел из темноты
Чуть талыми, как в тундре, почвами.
Надзора не было. И грунт
Мог без конца служить мне пищею.
Никто здесь не считал секунд
И не томил работой нищею.
Но, мир обследовав кругом,
Не отыскал нигде ни звука я:
Во мне – лишь мыслей вязкий ком,
Во мне – лишь темень многорукая.
И жгучий смысл судьбы земной,
Горя, наполнил мрак загробности;
Деянья встали предо мной;
И, в странный образ слив подробности,
Открылся целостный итог –
Быть может, синтез жизни прожитой…
Знобящий ужас кровь зажег,
Ум леденел и гас от дрожи той.
На помощь!.. Разве я готов
Обнять масштабы преступления?!
Мелькал оскал скривленных ртов,
Застенки, вопль, а в отдалении –
Те судьбы, что калечил я
Бессмысленней, чем воля случая,
Рывком из честного жилья,
Из мирного благополучия.
Я, наконец, постиг испод
Всех дел моих – нагих, без ретуши…
И тошный, ядовитый пот
Разъел у плеч остатки ветоши.
Хоть поделиться! испросить
Совета тех, кто выше, опытней,
Чья помощь смела б оросить
Бесплодно гибельные тропы дней!..
Узнал потом я, что Мород
Прозванье этого чистилища;
Что миллионный здесь народ
Томится, к выходу ключи ища;
Но из страдающих никто
Не видит рядом – тут – товарища:
Все тишью смертной залито
И ты б устал, живую тварь ища.
Один! один! навек один!
Бок о бок лишь с воспоминанием!..
Что проку в том, что крохи льдин
Я, как подачку темной длани, ем?
Жизнь догоревшая, светясь,
В мозгу маячила гнилушками,
И я, крича, бросался в грязь –
Лицо в ней прятать, как подушками.
Да где ж я, Господи?! на дне?
В загробном, черном отражении?..
И Скривнус раем мнился мне:
Там люди были, речь, движение…
Отдать бы все за ровный стук,
За рабий труд, за скуку драянья…
О, этот дьявольский досуг!
О, первые шаги раскаянья! –
Ни с чего другого, как с ужаса перед объемом совершенного зла,
начинается возмездие для душ этого рода.
6.
Так, порываясь из крепких лап,
Духов возмездья бесправный раб,
Трижды, четырежды жизнь былую
Я протвердил здесь, как аллилуйю.
Может быть, и Мород чудесам
Настежь бывает порой. Но сам
Я не видал их
ни в чьей судьбе там,
Слыша себя лишь во мраке этом.
Счастлив, кто не осязал никогда,
Как вероломна эта вода.
Как пузырями
дышит порода
В черных засасывалищах
Морода.
Чудом спасался я раза два,
Чахлую ногу вырвав едва
Прочь из ловилища, скрытого ловко,
Приторно-липкого,
как мухоловка.
И представлялось: двадцатый год
Здесь я блуждаю:
“предел невзгод”…
Так рассуждал я до той минуты
Зноба,
когда оказались круты
Выгибы гор,
и, сорвавшись в ил,
Тщетно взвывал я, напрасно выл.
Булькая, как болотная жижа,
Ил увлекал меня ниже, ниже…








