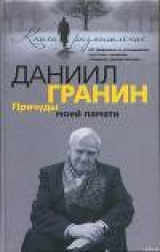
Текст книги "Причуды моей памяти"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Для меня всегда было непонятно, что на самом деле произошло под Ленинградом.
17 сентября 1941 года, надеюсь, что память мне не изменяет, я с остатками своего полка I ДНО отступил из г. Пушкина в Ленинград. Мы вышли на рассвете где-то в 5 часов утра, получив приказ отойти из района расположения дворца. Штаб полка находился в Камероновой галерее. К тому времени немецкие автоматчики уже занимали парк, они обстреливали галерею, расположения всех рот. Одна за другой роты покидали свои позиции, отступая к дворцу. С правого и с левого фланга, вероятно, никаких частей наших уже не было. Во всяком случае, получив приказ, мы эвакуировали раненых и организованно отходили по шоссе в направлении Шушар. Дойдя до Пулково, мы подверглись налету немецкой авиации. Спустились в низину Шушар, и я увидел, как немецкие эскадрильи одна за другой обстреливали людей, которые отходили к городу. Это были беженцы из пригородов и остатки частей вроде нас.
Фронт рухнул.
Над нами одна за другой, волнами, непрерывно сменялись эскадрильи штурмовиков. На бреющем полете они расстреливали людей. Огромное поле от Шушар до города представляло собой тысячи бегущих в беспорядке бойцов и штатских. Все наши попытки сохранить организованность ни к чему не привели, остатки нашего полка также были развеяны.
Перебежками, а потом уже просто пешим образом я дошел до Средней Рогатки, до трамвайного кольца, сел на трамвай и поехал к дому. Все было ясно, немцы на наших спинах войдут в город.
Меня поразило, что на всем пути не было никаких заградотрядов, никаких наших воинских частей, никто не останавливал отступающих, впечатление было такое, что город настежь открыт. Через день, придя в штаб народного ополчения, я получил направление в отдельный артпульбат укрепрайона, он занимал позицию перед Пушкиным в Шушарах. Там я и воевал вплоть до конца зимы 42-г года (292-й артпульбат 2-го укрепрайона).
Но с тех пор меня томит загадка: день 17 сентября, город был абсолютно не защищен со стороны Шушар, и немцы спокойно могли войти в него. Пустые доты, покинутые баррикады.
Только позже, уже пребывая в укрепрайоне, мы увидели, что налаживается оборона, какие-то подразделения стали на пути на участке Пулково – Шушары.
После войны, много позже, я пытался выяснить, что же происходило в сентябре, и почему немцы в город не вошли. Почему они не воспользовались этими сентябрьскими возможностями войти в Ленинград, не встречая никакого сопротивления?
18 сентября Лееб, командующий 18-й армией, записывает: «Павловск взят нашими войсками. Таким образом, весь район включая сегодняшний дальний рубеж окружения, находится в наших руках». Павловск, значит, и Пушкин. А дальше к городу никакой серьезной обороны не было, и это было, очевидно, ясно и командованию 18-й армии.
Что же произошло? Что мешало немцам продолжить наступление?
Как ни странно, ответы на это стали появляться лишь спустя 60 лет и в Германии, а затем и в России. В нашей историографии считалось, что сентябрьское противостояние завершилось истощением немецких войск, большими потерями благодаря героизму частей Красной Армии и частей народного ополчения. Советские историки впервые привлекли неизвестные нам до этого документы Халпта и Польмана (бывший офицер вермахта) – книга «900 дней боев за Ленинград».
У нас что писали? В книге, изданной в 2004 году, «Блокада Ленинграда»: «В результате ожесточенных боев и сражений осенне-летней кампании 1941 года гитлеровский план молниеносного захвата Ленинграда был сорван». И в других трудах повторяется: «немцы были остановлены».
Где? Когда? Кем? Я этого не видел. И что бы я ни читал, я не могу отделаться от той картины, которая предстала передо мной 17 сентября 1941 года.
Только в самые последние 2-3 года удалось мне узнать, что в дневниках фон Лееба и начальника генштаба Гальдера говорится о том, что препятствовал к вторжению в город немецких войск прежде всего сам Гитлер. Инициатором был Гальдер, ему, очевидно, удалось уговорить Гитлера, и, несмотря на сопротивление фронтовых генералов, приказ о вхождении в город немецких подразделений отдан не был, потом наступление было запрещено, а затем 4-я танковая группа была с Ленинградского фронта отправлена под Москву. Лееб не получил команды войти в город, и осаждающие войска перешли к осаде, к удушению Ленинграда голодом. Очевидно, рассчитывали на то, что город сам должен сдаться. Но даже и эта процедура не рассматривалась: что делать с населением? Отпустить? Добить голодом?
В результате дело свелось для немцев не к воинской неудаче наступления, а к бесчеловечным планам удушения города голодом, не собирались даже принимать капитуляцию города.
Чисто нацистская операция уничтожения горожан огромного города с помощью голода была противна воинскому достоинству кадровых генералов, таких, как Лееб и Манштейн, неслучайно они подавали в отставку из-за этой отвратной для солдата ситуации.
Почему Гитлер принял такое решение?
Какие у него были мотивировки?
Что творилось в генштабе? – Неизвестно.
До сих пор немецкие историки не дают полного ответа на эти вопросы.
ХОЧУ СПРОСИТЬ
В конце 1987 – начале 1988 года у меня было несколько выступлений в больших аудиториях – в Политехническом музее, в Центральном доме работников искусств – в Москве, в Центральном лектории, в Доме ученых, в Концертном зале – в Ленинграде, еще в некоторых институтах. Вечера прозаиков – это вечера вопросов и ответов. Довольно-таки сложное нынче занятие, потому как вопросы сейчас задают не только литературные, даже, признаюсь, не столько литературные, сколько нравственно-политические, про нынешнюю нашу взбудораженную жизнь с ее надеждами, опасениями. Круг этих вопросов безмерно широк. Тут история и экономика, перестройка и суд, журналы и экология… В конце концов, однажды я, рассер-дясь, сказал в зал: почему бы вам не пригласить лектора – специалиста по праву или, допустим, по экономике, по внутренней политике, они лучше меня ответят, я же писатель. Из зала мне крикнули в ответ: «А мы им не верим!»
И тогда я обратил внимание на характер записок-вопросов: «Ваше мнение о перестройке, не кончится ли она, подобно другим компаниям?», «Считаете ли вы моральным установление государственного догмата атеизма?» и т. д., то есть от меня требовали не сведений, не фактов, не информации, а мнения, интересовало, что я думаю по таким-то вопросам. Откуда такой интерес? Полагаю, что литература вдруг оказалась на главном перекрестке событий. Никто другой не философствует – ни история, ни экономика, а литература. Вернее писатели. Произошло это, мне кажется, после того, как писатели первыми столь активно вступились за наши реки, за охрану природы. И выиграли хотя бы частично этот бой. Кроме того, выяснилось и то, что литература наша все эти годы довольно мужественно рассказывала о вещах, которые ныне раскрылись во всей неприглядности. Прежде всего публицисты наши. По телевидению, в газетах мужественно и смело выступали писатели, литераторы, вспомним выступления Д. С. Лихачева, Ю. Д. Черниченко, А. М. Адамовича, В. Быкова, Е. А. Евтушенко, С. П. Залыгина. Преобразились журналы, редактируемые Баклановым, Коротичем, Залыгиным, Баруздиным, Ананьевым. Словом, гласность, демократизация показали писателей как активных сторонников перестройки и подняли престиж советского писателя.
Событие это не просто приятное, оно важный факт в истории нашей литературы, это совершенно своеобразный момент, ничего подобного не было, литература вдруг стала ответчиком, ответственной. «Почему вы прекратили борьбу за чистоту Ладоги?», «Можно ли надеяться, что вам удастся ускорить строительство в Ленинграде очистных сооружений?» Спрос с писателя, может быть, и почетный, но роль эта не совсем свойственна литературе.
«Не считаете ли Вы, что надо поставить памятники жертвам репрессий 1937 года, всем невинно погибшим, тем более что это был цвет народа?»
«Почему мы не делаем открытых процессов над теми, кто линчевал лучших наших ученых, режиссеров, писателей. Даже поименно назвать их не хотим?»
«Почему в печати не называют организаторов травли А. Твардовского»
Возмездие! Вот мотив, наиболее часто встречающийся в записках, в вопросах. Требование возмездия. Что это? Мстительность, желание отыграться на ком-то за долгую цепь беззаконий, несправедливостей?
«Какая может быть история литературы, если скрывают имена писателей и критиков, которые требовали исключить из Союза писателей Пастернака, доносили на Бабеля, на Мандельштама, на Ахматову?»
Может быть, люди хотят полноту правды, истории, хотят знать, как это было, что за люди занимались доносами, травлей.
В требовании возмездия сильнее всего здоровый довод народный – безнаказанность учит потворству. После XX съезда, вскрывшего беззакония вопиющие, ведь не было ни одного открытого процесса над следователями, судьями, прокурорами – нарушителями правопорядка. Ни разу я не слыхал, чтобы судили доносчика, по вине которого погибали люди, чтобы судили истязателя. Берию, Абакумова и еще нескольких отпетых судили закрытыми судами. Остальная сталинская… благополучно ушла в отставку, доживала, получая пенсии, а то и почетные привилегии, и никто не думал привлекать их к ответственности за бесчисленные убийства и беззакония. На глазах у всего народа жили-поживали и Маленков, и Каганович, и Булганин, Шкирятов и прочие деятели той поры. Никого не привлекли к ответственности, чтобы было назидание другим. В этом смысле огромная роль XX съезда не имела поучительных, воспитательных последствий. Правовое самосознание народа разрушилось и не было восстановлено. Оказалось, что есть преступления, за которые не наказывают.
ИМЯ ЕГО…
Наше путешествие напомнило мне Данте, мы посещали мир усопших. Кладбище за кладбищем. Кладбища в Германии, во Франции, в Голландии, Бельгии. Мы – это деятели немецкого Союза военных захоронений, а кладбища – это воинские кладбища. Союз пригласил в эту поездку меня. Как участника войны. Еще потому, что я пытался помогать немецким ветеранам, тем, кто приезжал сюда в поисках солдатских захоронений своих близких, однополчан.
Вообще-то я люблю кладбища. За их покой, за отключение от будней. Туда приходишь на свидание с вечностью. Кладбища сельские, городские, кладбища заброшенные, некрополи, эпитафии – трогательные, смешные. Памятники, где вкус родных подавляет личность покойного.
Мысли о смерти, о бренности жизни необходимы человеку. Посещая мертвых, иначе видишь живых, да и самого себя.
Данте беседовал с душами усопших. Наши усопшие молчали. Но безмолвие их рассказывало о многом.
Воинские кладбища – особые. Шеренга за шеренгой тянутся кресты. Они выстроились как на параде. Только без командиров впереди. Командиры тут же, в общих рядах. Эти кладбища стройные, однообразные. Они впечатляют своей единостью, словно отряд за отрядом чеканным строем сходили в небытие.
Когда посещаешь их подряд, кажется, что Европа усеяна кладбищами. В сущности это почти единственные следы войны, которые сохранились. К моему удивлению, следы не только Второй мировой войны, но и Первой. Европа бережно сохраняет воинские захоронения Первой мировой войны.
У нас в России, по-моему, не осталось ни одного воинского кладбища Первой мировой войны, или, как ее называли, «империалистической». Хотя русских солдат погибло на ней два миллиона. А в Германии я был на кладбище русских воинов, погибших в Первую мировую войну. Оно содержится в том же идеальном порядке, как и все военные кладбища: трава подстрижена, надгробия вычищены, так что все имена прочитываются, дорожки посыпаны песком, ограды в порядке.
Раньше на крестах и могильных плитах указывали воинское звание. Теперь нет. Только имя, фамилия, год рождения и смерти. Перед лицом смерти все равны, и офицеры, и рядовые. У всех одинаковый крест, как одинакова была пуля. Кладбища американских солдат побогаче – кресты белого мрамора, кругом цветники. Мы проходим через часовню – мемориал. Стоянка для автомашин, туалеты, только что нет ресторана. Это кладбище содержат США, так же как Англия содержит кладбища своих солдат во Франции. Большое английское кладбище среди полей и пашен благодатной земли. Огромный тяжеловесный мемориал, темно-серый мрачный камень, тысячи и тысячи высеченных на стенах фамилий.
Французское кладбище Нотр-Дам де Лоретте, где 30 тысяч могил. Солдаты, солдаты первой войны, второй. Сюда же подзахоронены погибшие в Алжире, Индонезии. Большая пышная капелла. Играет музыка, дежурят капралы в традиционной французской форме. Театрально, торжественно и без чувства. Это все во славу героев. На Британском кладбище возле Арраса надпись: «Эти имена живут для вечности». На другом кладбище: «Они погибли во славу Родины».
По тому же парадному образцу строились и наши мемориалы. Богатые памятники, начиная от Сталинграда до Поклонной горы в Москве. На Пискаревском (Ленинградском) кладбище тоже стоит каменная, упитанная Мать-Родина, но кладбище это отличается от прочих чувством скорби.
Для меня все явственнее обозначалась разница между кладбищами Первой и Второй войны. Кладбища Первой войны и в Германии и во Франции сооружались в память героев. Кладбища Второй мировой и у победителей, и у побежденных пронизаны памятью о жертвах. Это очень важно, что погибшие на войне и американские, и немецкие, и французские воины ныне становятся не героями, а жертвами.
В Голландии мы посетили немецкое воинское кладбище в Иссельстейне. Кладбище огромное. Во все стороны света тянутся отряды, нет, не отряды – целые полки крестов. Я долго бродил между ними, читая незнакомые немецкие имена, а впрочем, почему незнакомые? Это были солдаты, с которыми я воевал, в которых стрелял, которые убивали меня, но не успели. Мои враги, мои бывшие враги. Бродил по кладбищу советских воинов в Гамбурге. Серые плиты надгробий заменяли кресты, надгробия были в полном порядке. Ни одно не поросло мхом. Я читал имена, надеясь найти своих однополчан.
Я бы тоже мог лежать здесь, под одним из этих камней, я попадал в окружение. Наш полк попал в окружение, лагеря военнопленных. Они все здесь были из лагерей и госпиталей. Но странное дело, к концу путешествия на этом немецком кладбище в Голландии все эти Отто, Гансы, Фрицы предстали предо мною 20-летними, такими же молодыми солдатиками, как и наши. Они все лежали здесь под датами 1943,1944,1945 годов. На фронте они вызывали ненависть. Ныне я стоял перед их могилами с тоской и печалью.
В Голландии земли не хватает. Каждый клочок ее отвоевывается у моря, достается с трудом. Зачем сохранять это огромное кладбище? Наверное, потому, что оно впечатляет сильнее любого памятника. Смотритель этого кладбища показал нам выставку. Она расположена тут же, в доме при мемориале. На фотографиях показано, как немецкие школьники ухаживают за могилами. Они приезжают сюда каждое лето. Поначалу голландцы встречали их неприязненно. В голландцах сохраняется тяжелая память о фашистской оккупации, о гитлеровцах. Однако постепенно, год за годом к ним относились терпимее. Ныне, как сказал смотритель, их даже привечают. Дело не в том, что эти дети не имеют никакого отношения к прошлому, что это совсем не те немцы. Дело в другом, в том, что они, ухаживая за этими могилами, понимают ужас и трагедию кровавой бойни, которая называются войной. Гибель тысяч и тысяч лежащих здесь юношей предстает ныне бессмысленной. Они, школьники, видят, как нелепа война, затеянная Германией. Тысячи немецких детей уже прошли через кладбищенские работы. Заслуга Германского народного союза по уходу за воинскими захоронениями состоит не только в уходе за этими воинскими кладбищами, но и в том, что они стали средством воспитания мира. Ныне создаются международные лагеря, школьники разных стран ухаживают за воинскими захоронениями, без различия национальностей… Французские, канадские солдаты, английские, американские, немецкие, советские – для детей они все одинаковые жертвы мирового безумия 1939-1945 годов.
Интересная эта организация – Германский народный союз по уходу за воинскими захоронениями. Я был в их главном офисе, в Касселе. Кроме того, что они содержат эти кладбища, причем не только за счет государства, но и за счет пожертвований, они воспитывают уважение к памяти погибших. Воспитывают сочувствие к жертвам войны с обеих сторон, без различия национальностей. И третье. Кладбища солдат – это средство осознать ценность мира. Эта работа против войны.
Для меня несколько неожиданно было посещение Музея Первой мировой войны 1914-1918 годов в Перроне (Франция). Музей и научно-исследовательский центр. Это музей рассказывает ход Первой мировой войны, историю крупных сражений. Музей, я бы сказал, архисовременный. В каждом зале видеокамеры, где непрерывно идут фильмы времен той войны, чем-то милые, чем-то смешные. Они показывают первые военные самолеты, дирижабли, как с них стреляли, бомбили. В другом зале показывают пушки, танки той войны. Она кажется почти игрушечной. Смешные винтовки, скачут кавалеристы. Они еще с саблями. В холле музея – выставка детских рисунков о Первой мировой войне, как они ее себе представляют, посетив музей. Дерутся солдаты в касках, окопы, стреляют пушечки. Для детей это все равно, что римские войны Цезаря. Я не сразу понял, откуда такое внимание к той, казалось бы, позабытой всеми войне. И вдруг догадался – все же это была победа для Франции. Это украшение ее военной истории. Особенно после горького поражения в войне 1870-1871 годов. Они, французы, тоже не свободны от культа победы, столь хорошо знакомого нам. Увы, та победа не сослужила им своей службы в следующей войне с Германией. Я не стал воспринимать этот музей всерьез, да он и не располагал к этому. За стеклянными стенами – парк, пруды, лебеди. Но музей – подробный, и научно-исследовательский центр при нем ведет большую работу: разыскивают безвестные захоронения на полях сражений Первой мировой войны. Находят останки солдат, идентифицируют их, устраивают захоронения, а те, чьи имена остались неизвестными, – им пишут на кресте «имя его известно Богу». Трогательная эта надпись часто встречалась мне на разных кладбищах.
90 лет прошло с окончания Первой мировой войны, а французы не успокаиваются, стараются похоронить каждого ее солдата. Вроде неблагодарная, тяжелая работа по розыску останков идет и будет идти дальше, потому что ни один солдат не должен остаться не похороненным.
Мне не хотелось сравнивать наши военные кладбища с европейскими, не хотелось вспоминать о миллионах наших солдат, чьи останки рассеяны по лесам и болотам, по дорогам наших отступлений, да и наступлений тоже. Даже те кладбища, которые мы сооружали, кое-как долбя мерзлую землю, водружая в головах латунную снарядную гильзу с выцарапанной на ней фамилией, даже они с годами куда-то исчезли.
В Германии есть закон, по которому воинские кладбища охраняются навечно. Могилы их – забота и попечение государства. В Петербурге на Марсовом поле сооружены братские могилы. Когда-то для меня «братская могила» звучала как нечто почетное. Сейчас она мне кажется понятием варварским. Почему «братская»? Почему сваливали в одну кучу тех, кого считали героями? На Марсовом поле похоронены жертвы Февральской, а затем и Октябрьской революций. Впрочем, на камнях надгробия высечены слова Луначарского: «Не жертвы, а герои лежат под этой могилой». Слова, которыми мы когда-то восхищались, как странно и сомнительно они звучат сейчас. Может быть все-таки жертвы, а не герои…
ЗАПРЕТНАЯ ГЛАВА
Случилось это в 1978 году. Мы с Алексеем Адамовичем работали над второй частью «Блокадной книги». Не помню уж, через кого вышли мы на Б-ва. Блокадники, которых мы записывали, передавали нас друг другу. О Б-ве мы были наслышаны от многих и давно добирались до него, однако получилось это не сразу, он жил в Москве, был человек занятой: первый зам союзного министра. Во время блокады Б-ов работал помощником Алексея Николаевича Косыгина, направленного представителем Государственного комитета обороны в Ленинград. Услышать Б-ва нам было важно, чтобы обозреть блокадное время как бы с иной стороны – государственных усилий по снабжению осажденного города, по эвакуации населения и ценностей. До этого нас занимали частные судьбы, бытовые истории, но мы чувствовали, что читателю надо приподняться и окинуть разом всю картину, увидеть то, о чем не знал никто из блокадников, замерзавших в своих ледяных норах.
Б-ов отнекивался, как мог, наконец, сдался и щедро потратил на нас несколько вечеров. С трогательной добросовестностью уточнял каждую цифру, факт, а когда речь заходила о самом Косыгине, щепетильно проверял по каким-то источникам даты, маршруты поездок, названия предприятий. Чувствовались глубочайшее почтение к Косыгину и школа. Но эта же школа исключала проявление всякого живого чувства. Требовался точный доклад, отчет, пояснительная записка. При чем тут личные переживания? Эмоции мешали. И никаких самостоятельных рассуждений, впечатлений, догадок.
Добиться от Б-ва рассказа о том, как прожил в блокадном городе семь отчаянных месяцев среди обстрелов, пожаров, трупов нам не удалось. Он выступал лишь как функция, как помощник Косыгина, не более того. Не считал возможным фигурировать отдельно, сам по себе. Он помощник Косыгина, все они были помощниками Косыгина. Ну а сам Косыгин? Сам-то как? Волновался, боялся, страдал? Что для него значила блокада? Ведь жизнь его ленинградская, казарменная, проходила на ваших глазах.
Он смотрел на нас с недоумением. Такие вопросы в голову не приходили, да и вообще… Он был несколько смущен, не представлял себе, как такие переживания отзовутся на репутации шефа. Речь шла о нынешнем председателе Совета министров страны. Да и в ту блокадную пору Косыгин был тоже заместителем председателя Совнаркома. О людях такого ранга не принято… Да и нельзя за другого. И вот тогда нас осенило: а если спросить у самого Косыгина? Взять и записать его рассказ! Точно так же, как мы записывали рассказы других блокадников. Он для нас в данном случае такой же блокадник, как и все другие. Мысль, что Предсовмина можно расспрашивать и записывать как обыкновенного блокадника, явно ошарашила Б-ва. Сперва он высмеял нас. Это было легче, чем возразить. Мы настаивали, и воистину – «толцыте и отверзится»; вскоре он призадумался, закряхтел и разродился туманно-осторожным: «Попробуем узнать».
По своей провинциальной простоте мы полагали, что Б-ву для этого стоит снять трубку и по ихней кремлевской вертушке позвонить своему бывшему шефу: так, мол, и так. Все же почти фронтовые кореши, да и по должности своей Б-ов тоже не жук на палочке. На это Б-ов зажмурился от невозможности слушать такую дичь.
Как там далее блуждал наш проект в лабиринтах власти, неизвестно. Время от времени Б-ов сообщал нам: «выясняется», «рассматривают», «надо кое-что уточнить», «дело движется…» Потом оно перестало двигаться. А потом двинулось вспять. Почему, отчего – нам не сообщалось, фамилии Косыгина в телефонных разговорах не упоминалось. Текст применялся иносказательный. Мы решили, что вступаем в особую зону правительственных контактов, шут его знает, может у них положена такая таинственность и постоянная опаска – «это не телефонный разговор».
Уж не рады были, что втянули Б-ва в эту историю. Сказал бы: да – да, нет – нет, что там мудрить. Но, оказывается, чего-то там зацепилось, и назад ходу не было.
Однажды Б-ов позвонил мне в Ленинград и попросил назавтра быть в Москве. Достать билет в тот же день было непросто, но я понимал, что с такими мелочами Б-ов считаться не может, тем более лицо, которое он представлял.
В Москву я прибыл. К вечеру Б-ов заехал за мной, и мы отправились в Кремль. По дороге он пояснил, что согласились принять меня одного, тут ничего не поделаешь.
Бесшумные коридоры, охрана, лесенки, переходы, все блестит, начищено. Приемная… Минута в минуту, нас уже ждали, сразу провели в кабинет.
Косыгин существовал для меня издавна. На портретах, которые мы носили во время демонстрации, на портретах, которые вывешивали шеренгами по улицам: все в одинаково черных костюмах, одинаковых галстуках, разница была в золотых звездочках Героев – были с одной, были с двумя. Годами десятилетиями они пребывали, не старея. На экранах телевизоров, неизменно благожелательные и строгие, они тоже шеренгой появлялись в президиуме, вместе начинали аплодировать, вместе кончали. Что мы знали о них, об их характерах, взглядах, пристрастиях? Да ничего. Ни про их жен, ни про друзей, ни про детей. Не было слышно, чтобы кто-то из них когда-нибудь покупал что-то в магазине, ехал в троллейбусе, беседовал с прохожими, ходил в кино, на концерт, сам по себе, просто так. Индивидуальность скрывалась тщательно. Впрочем, Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям скорых успехов. Из мельчайших черточек, смутных ощущений мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали симпатию к этому озабоченному работяге, который силится и так и этак вытащить воз на дорогу.
…Под коротким седым ежиком лицо узловатое, давно усталое, безулыбчивое. Никаких предисловий, деловитость человека, привыкшего быстро решать, а не просто беседовать. Но мне надо было именно беседовать, заняться воспоминаниями, мне надо было сбить его деловитость. Поэтому вместо вопросов я принялся осматривать кабинет. Нарочито глазел, как бы по-писательски, не скрывая любопытства. Дубовые панели вдоль стен, могучий старомодный письменный стол в глубине, ковровые дорожки, тяжелые кресла. Чем-то этот просторный кабинет, и высокие окна, и вид из них оказались знакомыми. Как будто я видел все это, но когда? Он уловил мое замешательство. «Да это же кабинет Сталина», – подсказал мне Косыгин.
Вот оно что! Тогда ясно. Сколько навидались мы фотографий, кинофильмов, где Сталин, попыхивая трубочкой, прохаживался по этой дорожке, вдоль этого стола. Годами он работал здесь.
Все во мне насторожилось, напряглось, словно бы шерсть вздыбилась.
– М-м-да-а, – протянул я с чувством, где вместо восторга было то, в чем я сам не мог разобраться. Косыгин бросил на меня взгляд, линялые его глазки похолодели.
Мы сели за маленький столик поблизости от входа, подальше от того рабочего письменного стола. Втроем. Косыгин, Б-ов и я. На столике стоял белый телефон. Ни разу за весь вечер никто не отвлек нас звонком, никто не вошел.
Я достал магнитофон, небольшой испытанный магнитофон, который безотказно послужил нам уже в сотне встреч. Но Косыгин отвергающе помотал головой. «Нельзя!» «Почему?» – я недоуменно уставился на него. «Нельзя», – повторил он именно это слово. «А от руки записывать карандашом?» «Это можно». И предупредил, что когда запись будет обработана, прежде чем включать в книгу, он просит обязательно дать ее ему прочесть. И еще: поменьше упоминать его личные заслуги, не выпячивать его роль. Все мероприятия проводились совместно с Военным советом и городскими организациями.
Все это было изложено сухо, бесстрастно и без каких бы то ни было пояснений. С самого начала мне давали понять: все это не так просто, извольте соблюдать.
Он испытующе подождал, не откажусь ли я?..
Итак, что меня интересует? Я перечислил вопросы. Известно, что в Ленинграде к зиме 1941 года скопилось на Сортировочной станции две тысячи вагонов с ценным оборудованием, цветными металлами для военных заводов. Почему это произошло? Можно ли было отправить их до того, как блокада замкнулась? Почему ГКО пришлось послать в Ленинград своего представителя, то есть Косыгина? Как можно было наладить эвакуацию по Дороге жизни всякого рода приборов, инструмента, наиболее дефицитных вещей? Одновременно срочно вывозить голодающих детей, женщин, мастеров, ученых. Как приходилось выбирать?..
Б-ов сидел прямо, отстраненно-молчаливый. Свидетель, что ли? Похоже, что совершалась какая-то процедура, как бы ритуал, предназначенный неизвестно для кого.
Отвечать Косыгин начал издалека. Но вскоре я понял, что он не отвечал, а рассказывал лишь то, что собирался рассказать, независимо от моих вопросов. Блокадники тоже рассказывали не то, что я спрашивал, а то, что было им интересно.
Это меня устраивало. Тем более что это действительно было интересно. И рассказывал он хорошо – предметно, лаконично.
В конце августа в Ленинград из Москвы была направлена комиссия: Молотов В. М. (председатель), Маленков Г. М., Берия Л. П., Косыгин А. Н., Кузнецов Н. Г. (нарком военно-морских сил), Жигарев П. Ф. (командующий военно-воздушными силами), Воронов Н. Н. (начальник артиллерии).
…Летели самолетом до Череповца. Дальше нельзя – шли воздушные бои. В Череповце взяли паровоз с вагоном. Недалеко от Мги попали под бомбежку. Вышли из вагона, укрылись в кювете, впереди зарево: горят станция, склады, поселок. Пути разбиты. Сидим. Я говорю Кузнецову: «Пойдем посмотрим, что делается впереди». Пошли. Кое-где ремонтники появились, еле шевелятся. Стоит какой-то состав. Часовые. Мы к ним: что за эшелон? Красноармеец матом нас шуганул. Представляете – наркома и меня, заместителя Председателя Совнаркома! – Он благодушно удивился. – Мы потребовали вызвать командира эшелона. Он явился. Попросил извинить. Оказывается, сибирская дивизия следует на фронт. Через них кое-как связались с Ленинградом, с Ворошиловым. Он прислал за нами бронепоезд – два вагона плюс зенитки.
Этот рассказ я записал буквально. Картина была впечатляющая: в мокрой канаве, ночью, приткнулись в сущности все высшие чины правительства и армии. Воют бомбардировщики. Грохочут зенитки. Полыхают пожары. Впервые в жизни попали они в такую передрягу. Вжались в землю, съежились… По себе знаю, какой это страх – первая фронтовая бомбежка. Любопытно, конечно, кто там как себя вел – всемогущий Берия, и Маленков, и Молотов. Как они держались, хлебнув на несколько минут хотя такой войны?
Под утро добрались до Ленинграда. Прибыли в Смольный, собрали командование. О положении на фронте докладывал Ворошилов – главком Северо-Западного направления. Наступление немецких войск удержать не удалось. Немецкие армии двигались на город с нескольких сторон. Обстановка была запутанной, нарушалось управление фронтами. Вечером комиссия подвела итоги. Несколько военных советов – Северо-Западного направления, города, красногвардейского укрепрайона и других – создавали неразбериху. Решено было создать единый Военный совет, выделить самостоятельный Карельский фронт, передать ему такие-то части.
Уже тогда стало ясно, что руководство города, не понимая опасности, угрожающей Ленинграду, не заботилось обеспечить эвакуацию жителей и промышленности.








