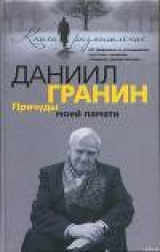
Текст книги "Причуды моей памяти"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Петр I был великим мечтателем. Каким-то образом в мальчишеской его голове зародилась мечта о плавании на корабле. Она росла по мере того, как он поплыл по озеру на шлюпке, с парусом против ветра! А когда увидел море, попал в бурю, то мечта его населялась кораблями, большими и мелкими. Они образовали флот, он хотел, чтобы мечта эта охватила страну, эту сухопутную Россию. Оснастить ее парусами и отправить в море. Воображение генерировало в Петре яростную энергию. Замыслы без промедления воплощались на верфях. Он видел Россию морской державой. Это была его собственная, неведомая еще никому страна, обставленная только ему известными подробностями, ежедневно пополняемая, исправляемая: порты, верфи, каналы. Мечта была грандиозной, но еще грандиозней то, что стало, когда он принялся ее осуществлять, во всем размахе российских морей, от Севера до Балтики, от Балтики до Каспия.
ИЗ ЖИЗНИ ПОВЕШЕННЫХ
Жена не дала мужу на водку. Категорически – раз и навсегда. Он скандалил, скандалил, умолял, он пил в долг, теперь его черед «поставить», для него это вопрос чести, иначе остается только покончить собой, он повесится!
– Да ради бога! – сказала жена и ушла из дома, заявив, что не хочет мешать ему.
Он взял веревку, соорудил петлю, не затяжную, встал в ванной на табурет, ждет, дверь на лестницу оставил открытой, чтобы жена значит, всполошилась, когда вернется. «Висит». В это время приходит давным-давно вызванный водопроводчик. Входит в ванную, видит покойника, шарахнулся, выбежал. Постоял на лестнице, подумал, вернулся, стал снимать с покойника часы.
Тот дал ему ногой в челюсть. Водопроводчик побежал и грохнулся в передней с инфарктом. Когда вскорости вернулась жена, она нашла лежащего водопроводчика, который безудержно стонал, поэтому «висевший» в ванной муж не произвел на нее нужного эффекта, тем более что он был совершенно живым.
РЕЧЬ НА СВОЕМ ЮБИЛЕЕ
Когда я сидел на чужих юбилеях, я ждал, что скажут сами юбиляры, это было самое интересное, потому что я надеялся узнать: как надо жить правильно, как живут красиво, деятельно, ибо все, кому отмечают юбилеи, конечно, достойны восхищения, то есть достойны или не достойны, я не знаю, но говорят о них обязательно с восхищением.
Однако юбиляры своих секретов почему-то не открывают.
И вот, так ничего не узнав, я добрался наконец до своего юбилея. Кто-то сидит в зале и опять ждет, что я что-то им открою.
Попробую открыть. Я, например, понял, что заслуживаю похвал прежде всего потому, что дожил до нынешних лет, это удается не каждому, и, естественно, те, кому удается, считают себя достойными похвал и достойными того, чтобы учить других, как надо дожить, тем более что, не дойдя до этого юбилея, невозможно будет справить следующий.
Пожарных хвалят за потушенные пожары, писателей – за написанные книги. Конечно, каждый труд уважаем и почетен, однако насчет писательского у меня есть некоторые сомнения: поскольку писать – это удовольствие, а если человек получает удовольствие, то надо платить за это удовольствие, а тут ему деньги платят за то, что он получает удовольствие, так в чем же тут его заслуга?
Почему лично я стал писателем? Потому что с детства мечтал поздно ложиться спать, а еще больше мечтал о том, чтобы поздно вставать.
Иногда писать неохота, но потом вспоминаешь, что, оказывается, это удовольствие, и садишься. Чем больше пишешь, тем меньше понимаешь, как это делается и тем меньше получаешь удовольствия.
Моя заслуга состоит в том, что я избавил всех от торжественного заседания, прежде чем сесть за банкетный стол, пришлось бы слушать адреса, телеграммы и художественное чтение. Юбилей – дело отнюдь не серьезное и не повод для размышления о жизни, раньше надо было размышлять, юбилей нужен для того, чтобы вас всех собрать: и не тех, кто зачем-то нужен, а только тех, кто необходим…
N. признался мне, что давно уже не хочет с ней спать. Неинтересно. Он наперед знает каждое ее слово, как она вскрикнет, потянется, вплоть до той минуты, когда она притянет его голову к себе и быстро уснет. «Все мои действия – притворство, и удовольствие мое только притворство. Может, и у нее тоже. Мы в этом никогда не признаемся друг другу. Если она спросит – может, мне не хочется, так ведь я буду разуверять изо всех сил. Никакого желания у меня нет, она его добивается известным способом, и я тоже добиваюсь, пробуждая фантазию, воспоминания, тут и жалость, и вина, чего только нет. Стыдно. И грустно. Все израсходовано».
ИГРА В ПРЯТКИ
Среди питерских писателей одним из моих любимцев был и Геннадий Гор. Каждое лето в Комарово мы с ним гуляли по вечерам, обменивались книгами. Гор был книгочей. При встрече первой его фразой было не «Как поживаете?», а «Что читаете?». Сам он предпочитал философскую литературу. Читал Гуссереля, Ницше, Шеллинга, Канта, обдумывал, наслаждался изгибами человеческой мысли. Любил поэзию, историю искусств. Обо всем прочитанном горячо рассказывал, отбирая самое вкусное, осмеливался критично подходить к мировым авторитетам, вступал с ними, так сказать, в дискуссию.
С виду он был типичный книжник – толстые очки, за ними добрые выпученные глаза, большая лысая голова, держался стеснительно. Я не помню, чтобы он повышал голос. От него исходила мягкая деликатность. Невысокий, сутулый, с робкой полуулыбкой, он охотно уступал в спорах, но это не означало согласия. Доброта не позволяла добиваться ему победы, его дело было высказать свое мнение, а там уж – воля ваша, другой человек не сразу усвоит, надо дать ему время. Скромность у него соседствовала со страхом. Страхов было много, прежде всего – «госстрах»: хронический, неизлечимый страх советской интеллигенции перед властью, непредсказуемой, лишенной всяких нравственных правил.

С возрастом страх прибывал и прибывал, не давая распрямиться. Кроме всеобщих страхов Гора преследовал и свой, личный, сокровенный страх. Сперва я полагал, что это последствие побоища космополитов. А может, когда-то ему досталось за формализм его ранних книг. Но вроде Гора никто не поносил. Его фамилия не упоминалась ни в каких постановлениях. Войну он прошел благополучно. Уцелел. Правда, про свою войну он не рассказывал и не писал про нее, но ведь далеко не все стали военными писателями.
Когда война кончилась, все полагали, что наступит умиротворение. Долгожданное всеобщее счастье. Казалось бы, советский народ отстоял Родину, а с нею и советскую власть, спас жизнь горячо любимому Сталину и всем его верным соратникам. Ни один из вождей не погиб на войне. Народ, включая интеллигенцию, партия были едины в годы войны и, стало быть, заслужили доверие от своих правителей. К чему отныне искать врагов. Так виделось Гору и его друзьям.
Не тут-то было. Сразу же стали прочищать мозги. Преодолевать «низкопоклонство перед Западом». Появилось постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», о кинофильме «Большая жизнь», и пошло-поехало. Появился новый враг советского строя – космополиты. Когда с них срывали маску, там большей частью оказывались евреи, а обличать евреев – это дело безошибочное, никогда не помешает. Но и эти страсти его счастливо обошли.
Общение с Геннадием Гором было удовольствием. Ходили мы с ним в комаровский Дом творчества писателей, навещали литературоведа Н. Я. Берковского, его Гор чтил как мудреца, эрудита. Заходили к Леониду Рахманову, Владимиру Адмони. Летнее Комарово было праздником общения.
Еще одной слабостью Гора была живопись. Первая его книга вышла в 1933 году, так и называлась – «Живопись», маленькая, бедно изданная книжечка. Там было несколько рассказов о художниках. Странные рассказы. Чем-то они были похожи на выдумки обэриутов. У обэриутов более отчетливо звучали ирония, смех, их абсурд был резче, в нем всегда мелькал как подмигивание знак соумышленника, насмешка над пошлостью жизни, общепринятой глупостью.
Геннадий Гор, домосед, каким-то образом умудрялся знакомиться со многими молодыми ленинградскими художниками, выискивал наиболее талантливых, покупал их работы из своих скудных гонораров. Безошибочный его вкус привлекал авангардистов, к нему на дачу постоянно приезжали, привозили свои картины Зверев, Михнов, Арефьев, Кулаков, Эндер… Он внушал молодым уверенность в будущем успехе. Приглашал своих друзей писателей полюбоваться их работами.
Особой любовью пользовались у него художники народов Севера. Он открыл и преподнес широкой публике мир замечательного художника – ненца Валентина Панкова, написал о нем книгу.
Романы, повести Г. Гора о науке, о Дальнем Востоке успехом не пользовались. Куда удачнее было его обращение к научной фантастике. Там хороши были его поэтичность, сказочность его выдумки. Но все время меня не покидало ощущение иных, скрытых возможностей автора. Что-то было в нем непроявленное, недосказанное. Посредственностью он не был. Когда-то от него ждали взлета, но взлета не получалось, Гор превращался в одного из тех, кого числят региональным, местным литератором. Выходили у него книга за книгой, были свои читатели, появлялись рецензии, можно было считать себя не хуже других, таких писателей сотни, наверное, большинство. Но все же я продолжал ждать от него необыкновенного. Все разрешилось трагически. Геннадия Самойловича отвезли в психоневрологическую больницу, где он и скончался в 1981 году.
А через некоторое время подобное же заболевание настигло и его жену Наталью Акимовну, что поразило меня, потому как была она абсолютно земная женщина, физически могучая, рослая, поглощенная дачей, огородом, детьми, не вникала в произведения супруга, живопись ее также не занимала, ее дело было кормить голодных художников, ухаживать за мужем. В гостях, в застолье она молча слушала высокоумные рассуждения и восхищалась своим супругом. Невозможно было понять, как сошлись эти двое, как прожили десятки лет в любви и согласии, что находили друг в друге. С виду – противоположности и внешне, и внутренне, а вот поди ж ты, даже психическое расстройство Гора передалось этой, казалось, такой трезвой, практической женщине. Следовательно, есть что-то в любви помимо общих интересов, сердечной привязанности, появляется, что ли, физическая общность организмов.
Неожиданности начались после смерти Гора. Одна за другой стали выясняться удивительные истории о его, казалось бы, обыкновенной книжной жизни писателя, среднего, не очень известного, быстро забываемого. Многое рассказал Юра Гор, сын писателя, а затем его внук.
Прежде всего я узнал, что Гор воевал с первых дней войны в составе известного ленинградского взвода писателей. Почему-то никогда Гор не упоминал об этом. Да и о дальнейшем участии в войне не рассказывал. Для того времени странно. Солдат чтили, они любили травить фронтовые байки. В справочнике «Ленинградские писатели-фронтовики» Гор не упомянут. Все там есть, а его нет. А между прочим, он был капитан, командовал пулеметным взводом. Воевал он отважно. Вместе с Глебом Алехиным взяли они языка, были в окружении. Про это я знал. Долго выбирались, еле живые добрались до Ленинграда. Его пристрастно допрашивали особисты: где ваши пулеметы? Обратили внимание – почему у всех автоматы, а Гор вышел с японским карабином. Он объяснил, что раздобыл, карабин ему привычнее с молодых охотничьих лет, на Алтае он считался отличным стрелком. Особисты проверили его в стрельбе по цели и отпустили. В армию вернуть не могли – до того он был изможден. Эвакуировали в Пермь, куда он прибыл в середине 1942 года дистрофиком.
Не был ни ранен, ни контужен, тем не менее война глубоко травмировала его. Чем? Он вдруг осознал себя убийцей. В августе 1941 года, когда ополченцы держали оборону, он залег в кустарниках, подстерегал немцев и стрелял. Клал с одного выстрела. Сколько он перестрелял немцев за эти дни, он никогда не вспоминал, хотя в то время геройство мерилось именно числом убитых солдат противника.
Всю зиму 1941 года, весну 1942-го на Ленфронте шло «движение снайперов». Появлялись герои, на счету у которых было 50-100 «фрицев». Феодосий Смолячков уничтожил 125 немцев. Искусных снайперов награждали орденами, Золотыми Звездами Героя. Никто не принимал стрельбу на войне за убийство, человек на той стороне был всего лишь мишенью.
В Баргузине дед брал маленького Гора на охоту. Они стреляли соболей, Гор стал хорошим охотником. Немудрено, что в армии на полковых стрельбищах он занимал первые места. В картонные фигуры безошибочно всаживал в сердце пулю за пулей. На расстоянии пятисот метров.
В армию он попал потому, что его исключили из университета. Исключен с последнего курса в 1930 году за формализм:
Сон соболю приснился не соболий,
И тополю не топал тополь.
И плакала волна в Тоболе
О Ермаке, что не увидит боле…
Стихи у него получались не такие, как положено, рассказы малопонятные, их абсурдность раздражала, они нарушали все литературные традиции, там было нечто, напоминавшее обэриутов.
В армии он выглядел Швейком. Детские глаза навыкате, усиленные толстыми линзами очков, круглая физиономия чудака-добряка, взгляд, плывущий прочь от казарменных порядков. Он не годился ни для какой должности, его неряшливый штатский вид нарушал строй, однако он был первоклассным стрелком, занимал призовые места, так что его терпели. На этого непоправимо штатского типа обратил внимание командарм Тухачевский, когда на него налетел Гор с кастрюлей щей, несомых ротному. Рядовой облил гимнастерку командарма. Струхнув, рядовой озадачил командарма цитатой из Шопенгауэра, пролепетав: «У многих людей зрение всецело заменяет мышление, а у меня наоборот». Мало того, со страху он блеснул еще французским: «Все революции происходят от желудка», слова, приписываемые Наполеону. Бывший поручик Тухачевский знал французский, чем ответно щегольнул. Вместо разноса командарм отряхнулся, взял этого чудика под руку, и они прошлись по двору. Разговор на равных замызганного очкарика в обмотках и легендарного командарма в сиянии орденов и больших золотых звезд произвел впечатление на свиту.
Личность Тухачевского была овеяна романтикой Гражданской войны, позже добавился еще ореол великомученика, расстрелянного «врага народа», талантливого полководца; потом, уже много позже, образ этот стал покрываться пятнами жестоких обличений. Выяснилось то, что на самом деле в единоборстве Пилсудского и командира Западного фронта Тухачевского польский маршал сумел отстоять Варшаву, а красноармейские части потерпели поражение и бежали. Красный командарм был слишком самонадеян, тщеславен, несмотря на трагическую судьбу, его называют то авантюристом, то жертвой. Кроваво, безжалостно он расправлялся с восставшими крестьянами Тамбовщины. Много грехов тянется за ним. Но когда Гор встретил его на полковом плацу, молодой командарм был для него богоподобным, напоминал Наполеона.
Ничего не поделаешь, сперва они все вызывали у нас восхищение, сочувствие – военные, оппозиционеры и прочие герои хоть и слабого, но все же Сопротивления. Когда стали публиковать их покаянные письма вождю, их униженные мольбы о пощаде, кумиры стали рушиться один за другим, пожалуй, ни один не уцелел.
Еще до того, как Гора исключили из университета, он редактировал университетскую газету. Охотник, поэт, снайпер, да к тому же общественник.
Ректором университета был Лазуркин. Однажды его и весь совет университета пригласил к себе руководитель Петросовета Зиновьев. В числе прочих Лазуркин взял с собою Г. Гора. Что там обсуждали, в дальнейшем никого не интересовало, после убийства Кирова важно стало участие в той встрече с «врагом народа», «замаскированным троцкистом», «шпионом», завербованным иностранной разведкой, организатором убийства Кирова.
Забирали одного за другим тех, кто был на той встрече, Геннадия Гора упустили, поскольку он был уже исключен из университета. Вроде, повезло, но с той поры началось мучительное ожидание ареста, рано или поздно до него доберутся…
После казни Зиновьева поспело «Дело военных» во главе с маршалом Тухачевским. К тому времени солдата Гора произвели в командиры не без участия маршала. В армии разразилась невиданная чистка. Тысячи, десятки тысяч командиров всех рангов арестовывали, судили, отправляли в лагеря, расстреливали. И опять Г. Гора проглядели. Кошмар ожидания усиливался. Рано или поздно его должны были обнаружить. Органы его упустили, но страх не упустил, вцепился и не покидал. Прошлое, недавно удачливое, превратилось в смертельную угрозу. Между тем писатель в нем не давал покоя. Появилась многообещающая, ни на что не похожая проза обэриутов: Хармс, Олейников, Введенский, Заболоцкий. Появился Леонид Добычин. То, что они делали, было близко Гору, его рассказам, стихам. Обэриуты, в сущности, занимались игрой, их забавляли словесно-смысловые возможности обнажения, абсурды мещанской жизни тридцатых годов. Они издевались над нелепостями общепринятых устоев, которые тут же соскальзывали в буффонаду.
На вечере в Доме писателя в 1936 году обсуждали книжную новинку – повесть Леонида Добычина «Город Эн». Необычная проза вызвала критику, и грубую. После обсуждения Добычин пропал. Ушел и пропал. Как, где, что случилось – так и не выяснили. То было время исчезновений. Люди исчезали без следа.
Обэриутов сперва «выслали» на страницы детского журнала «Еж». Потом они были разгромлены, репрессированы, высланы на самом деле.
В 1937 году Даниил Хармс написал стихи, как бы вслед исчезновению Леонида Добычина. На мотив детской песенки:
Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шел все прямо и вперед
И все вперед глядел.
Не спал, не пил,
Не пил, не спал,
Не спал, не пил, не ел.
И вот однажды на заре
Вошел он в темный лес.
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.
И если как-нибудь его
Случится встретить вам,
Тогда скорей,
Тогда скорей, °
Скорей скажите нам.
Но оттуда, из темного леса, не возвращались.
Перегруженная машина уничтожений то и дело давала сбои. Как обычно, гнались прежде всего за количеством. Гора опять проворонили.
Для иностранцев империя, может, и выглядела Империей Зла, для ее обитателей она стала Империей Страха.
Воображая картины предстоящих допросов, Гор все отрицал – свои симпатии к Тухачевскому, отвергал обэриутов, Добычина, Вагинова, всех, кого любил, отрекался от своих вкусов, надежд, мечтаний. Будущее было заполнено мерзостью предательства.
Хармса арестовали в 1941 году за то, что он осуществлял «вредительскую деятельность» в журнале «Сверчок» для дошкольников.
Эйфория классовой борьбы перешла в массовый идиотизм. Трудно представить, чем бы это кончилось, если бы не грянула война.
В феврале 1942 года Хармс умер в тюремной больнице. Геннадия Гора блокада привела к дистрофии. Его отправили в госпиталь и эвакуировали из Ленинграда.
Фронтовая жизнь не прошла даром, она принесла Гору отчаянность. Когда терять нечего, на переднем крае живешь случайностью; дальше фронта не пошлют… больше пули не дадут. Он стал прорываться к себе молодому, к своим безумным стихам.
И в нас текла река, внутри нас,
но голос утренний угас,
И детство высохло как куст.
И стало пусто как в соломе…
Мы жизнь свою сухую сломим,
Чтобы прозрачнее стекла
Внутри нас мысль рекой текла.
В рассказе «Вмешательство живописи» один из героев говорит: «Я – за импровизацию слов против напряжения всякой мысли. Я – за неожиданность искусства против логики науки».
Стихи Гора не привлекают ни музыкой, ни формой, но есть в них упорная попытка уловить поток сознания, передать блуждание мысли. Я прочитывал в них последнюю отчаянную попытку вернуться к тому молодому, автору книг «Факультеты чудаков», «Живопись».
Может быть, что-то и получилось бы, но после Победы партия принялась наводить порядок в мозгах победителей. Не кончилось еще гулянье-похмелье, как в 1946 году (!) ударили по Зощенко, Ахматовой, может, наиболее популярным писателям, да так ударили, чтобы выбить из голов всякие вольности. Сталин провел многочасовое заседание Оргбюро ЦК, лично вправляя мозги ленинградским писателям. И пошло-поехало. Борьба с низкопоклонством перед Западом (насмотрелись в Прибалтике, в Германии!). Борьба с космополитами – новое пугало – разоблачить, изгнать! Не надейтесь на ослабление порядка, на вольнодумство. Одно постановление следовало за другим: «антинародный формализм» в музыке – это о Шостаковиче, Прокофьеве, Хачатуряне.
Давным-давно его должны были арестовать, сослать, а то и расстрелять, как зиновьевца или как «ставленника Тухачевского», почему-то не получалось. Фортуна спасала его, опять давала отсрочку. Никому не давала, кругом его друзья, однокашники были уничтожены. Заболоцкого посадили, Гнедич, Гуковский, Медведев, Леонид Соловьев, Лебеденко – ссылали, сажали, разоблачали. Всех не вспомнить. Почему судьба обходила Геннадия Гора, может, надеялась, что он преодолеет свои страхи?
Он боялся даже заглядывать в свои молодые стихи, где открывалось нагромождение порой чудовищных картин:
С веревкой на шее человек в огороде,
Он ноги согнул и висит,
И вошь ползет по его бороде.
И жалость в раскрытых настежь глазах
В закрытых ладонях зажата.
Жалость к весне, что убита,
К жене, что распята,
И к дочке, что с собой увели.
Он выбирался из всех переделок, уцелел и на войне. Счастливчик. Цепи счастливых случайностей, которые редко приходятся на одного человека.
Не знаю, как глубоко его травмировала война. В рассказах о нем много белых пятен. Если б я знал, как он воевал, я бы кое-что у него выведал, у фронтовиков существовало особое братство доверия. Думаю, что даже Юре, единственному сыну, он не все рассказывал. Умение прятать и прятаться стало привычкой, лучшим средством спасения, каким он располагал.
Прятался от самого себя. Ничего подобного ни у кого из солдат Великой Отечественной я не встречал. Тем более у военных писателей.
Истовая его любовь к авангардной живописи молодых художников сублимировала его собственные устремления. Когда-то и он порывался сам уйти подальше от соцреализма. Теперь он завидовал и радовался бунтующим полотнам молодых. Время от времени он выискивал среди прозы нечто близкое ему, необычное, вызов обыденности, прелесть абсурда. Так его обрадовала повесть Александра Житинского «Лестница».
В 2005 году в «Звезде» появился роман Гора «Корова». Написан он был 75 лет назад. Я читал его в рукописи. Роман сумбурный, странный, но впечатление было ясное – еще один своеобычный талант утерян. Если бы не кошмары 1920-1930-х годов, если бы ему не мешали страхи… Один за другим, никакой передышки, они настигали повсюду, куда бы он ни прятался… Однажды он выбрался из Комарово поехать в город, в Эрмитаж, на выставку французских импрессионистов. Вернулся оттуда пришибленный, испуганный, он там позволил себе публично восхититься живописью, и на него накинулись, доказывали превосходство русских передвижников, выставку называли мазней, его – космополитом. Я знал эту публику, агрессивную, грубую, в те годы спорили ожесточенно, доказывали, что западное не может быть лучше нашего искусства, потому что мировоззрение у них гнилое.
– Или мы лучше всех, или хуже всех, – недоумевал Гор, – почему мы не хотим быть как все.
Недавно среди старых бумаг попалась мне папка его стихов – «июнь—июль 1942 года». Кажется, кто-то из родных подарил мне на память о нем. Лето 1942 он находился уже в эвакуации. Стихов было много – сотня, может, больше. Почти все воспаленные, если не вчитываться – заумные, некоторые для меня бессмысленные или зашифрованные. Но какие-то отгадки там были, отгадки его припрятанных чувств:
Сезан, с природы не слезая,
Дома и ветви свежевал,
Вот в озере с волны снял кожу,
И дуб тут, умирая, ожил,
Трава зеленая в слезах…
С домов на камни боль текла,
И в окнах не было стекла,
А в рамах вечно ночь застряла.
В стихах почти не было войны. Он не пускал ее. Лишь однажды она прорвалась:
…И вот мы в окопах сидим, '
На небо глядим
и видим: летят
То ближе, то дальше
И бомбы кидают.
Любино поле расколото вдрызг
И Луга-реченька поднята к самому небу.
Ах, небо! Ах, Ад! Ах, подушка-жена!
Ах, детство! Ах, Пушкин! Ах, Ляля!
Та Ляля, с которой гулял,
Которой ты все поверял.
Ах, сказки! Ах, море и все!
Все поднято, разодрано к черту,
И нет уже ничего.
Деревья трещат. Дома догорели.
Коровы бредут и бабы хохочут от горя.
Он умер в 1981 году в психиатрической больнице. Уже потеплело, страна распевала песни Высоцкого, Галича; Сахаров выступил против войны в Афганистане, ничего этого Гор не воспринимал, его прятки привели его по ту сторону разума, где он сам себя не мог найти, ни страхи, ни оттепель его уже не доставали. Он уходил бесшумно, на цыпочках, стараясь не будить демонов своей жизни. В Комарово без него что-то исчезло.
Его страхи напоминали мои собственные. В те годы многие из нас отступали, изменяли себе, кто-то сумел вернуться к собственной сущности, кто-то навсегда смирился. Недаром время от времени я вспоминаю угрожающую судьбу этого человека.
Как ни удивительно, понадобились годы, чтобы я понял трагедию его личности, его судьбы, да и того проклятого режима, который все же настиг его.
Слабак, не смог осуществить себя, но не предавал других, только свой собственный талант предал, но не запятнал свою совесть, по тем страшным временам это немало. Ломались, уродовались куда более сильные. Известно, что судить человека надо по законам его времени, но как трудно узнать и прочувствовать те законы. Талант, чем он неповторимей, тем он был опасней, слабость была губительна, хотя кто знает, может, она бывает неотделима от таланта.
—
В Великую Отечественную на разных фронтах погибли двадцать писателей Ленинграда, пятьдесят умерли в блокаду, за годы репрессий расстреляли семьдесят, всего репрессированных писателей в Ленинграде было сто шестьдесят, по стране – около двух тысяч, из них погибли полторы тысячи.
ЖИЗНЬ КРЕПОСТНЫХ
Интересные материалы попались мне в районной газете «Красный Октябрь» за 2007 год (Волоконовский район Белгородской области). Из записок польского управляющего Карла Красовского, подготовленных к печати в январе 1861 года.
Опубликовал их краевед Петренко.
Красовский описывает вотчину по реке Оскол, саму реку, полноводную, густонаселенную разнопородной рыбой – сомы, лещи, язь, линь, плотва, налимы, бирючек. По реке стояли мельницы, было их до 50, водяных, ветряных. В революцию сносили их заодно с церквями, «бессмысленно и беспощадно», словно нечто чуждое, а ведь они на Руси работали со времен IX века.
Мололи зерно, земля давала до 100 пудов с десятины. Десятая доля шла на храмы, три дня крепостные работали на помещика, пресловутая барщина, три дня на себя. 102 семьи имели от 3 до 6 лошадей, свиней 1200, коров, волов 3600. 72 семьи имели пасеки от 10 до 80 ульев. В селе жило 229 семей, в среднем по 10,5 человека в семье. Так что было многолюдное село. Разводили овец, тысячи.
Хаты были липовые: «всегда там сухо, воздух в доме особенно чист и здоров… внутренние стены выглажены, всегда чисты и необыкновенно опрятны».
Хороших работников отпускали на рыбалку, в отход.
Конечно, перекупщики «бессовестно обманывали, наживались, перепродавая хлеб, шерсть, это как водится».
«Лесная стража состоит из 21 лесничего и старшего над ними. Лес был чистый, ухоженный, трухлявые и больные деревья спиливались и увозились… В каждой деревне по атаману, в помощь им восемь десятских и один полицейский».
Массового пьянства и драк даже по праздникам не наблюдалось. На мельнице – особый смотритель. На гумне – гуменный и три ключника. Что меня тронуло – был особый надзор за рекой и прудами, за нерестом, за зверьем и птицами. Интересно знать, в чем он выражался, этот надзор. В дневное время избы практически не замыкались.
Медицину творили знахарки, они лечили травами, снадобьями и «на воде» (не знаю, что это).
Может, и приукрашено, основные же цифры наверняка истинны. Вообще в районных газетах краеведы печатают много любопытного.
—
«Благодеяния приятны только тогда, когда можешь за них отплатить. Если же они непомерны, то вместо благодарности воздаешь за них ненавистью», так писал Тацит. То же относится и к подаркам, и к помощи, за которую нечем отплатить. Сенатор Фулбрайт сказал мне в Пакистане:
– Вы спрашиваете, почему нас, американцев, здесь так не любят. Отвечаю. Вы, СССР, сколько им даете? Не знаете, а я знаю. Около ста миллионов долларов, а мы – десять миллиардов. Поэтому они нас ненавидят.
МЕДВЕДЬ
Австрийский миллионер купил лицензию на отстрел медведя. Приехал в Болгарию, встречали его по высшему классу, особняки, машины, свита, а тут выяснилось, что медведя нет. Был и ушел куда-то. Искали-искали, миллионеру невтерпеж, решили взять из цирка, старого, можно сказать, списанного. Привезли, отпустили в лес. Медведь походил, вышел на дорогу, тянет к людям. На дороге лесник оставил свой велосипед. Австриец сидит в засаде, вдруг видит: на него мчится медведь на велосипеде. Дальше рассказывать я не в силах.
Однажды я выслушал такой монолог одного строителя: «Природу надо уничтожать, она занимает слишком много места. На самом деле она украшение, а не необходимость. Современные технологии вполне могут заменить ее: поля, луга. Можно выращивать нужные овощи в структурах, теплицах. Нужных животных содержать в стойлах, вместо лесов выращивать древесину. Для удовольствий иметь парки, их можно сделать из синтетики, чтобы они выдерживали большие потоки людей, натуральные леса их не выдерживают. Рыбу выращивать в водоемах. Сократить штат животных, остальных сохранять в зоопарках. Природа ведь гуляет вхолостую, в сущности она живет для себя. Это недопустимо. Обычный трудовой человек треть времени проводит в кровати, треть на работе, большую часть по дороге к работе и обратно, оставшееся время сидит, читает, смотрит телевизор и ест. И только 5-10 % жизни – это пребывание на природе. Ради этого содержать столько лесов, озер, медведей, птиц – непозволительная роскошь. Разворовать природу, конечно, нельзя, а вот убрать ее, как старую мебель, необходимо».
И что вы думаете, он был убежден, что так и будет.
ЛИХАЧЕВ

Он рассказал мне, как, сидя в Академии наук на заседании, разговорился с писателем Леоновым о некоем Ковалеве, сотруднике Пушкинского Дома, авторе книги о Леонове. «Он же бездарен, – сказал Лихачев, – зачем вы его поддерживаете?»
На что тот стал его защищать и всерьез сказал: «Он у нас ведущий ученый по леоноведению».
Они слушали доклад о соцреализме. Леонов сказал Лихачеву: «Почему меня не упоминают? Соцреализм – ведь это я».
Рассказывая, Лихачев добавил: «Жаль, что он не сказал „Людовик XIV – это я”», – и тогда всем стало бы ясно.
Недавно я нашел одно любопытное письмо ко мне Д. С. Лихачева. Переписка наша была скудной, мы общались лично, и это имеет свои потери, ибо я ничего из его рассказов и размышлений не записывал, в письмах же все сохраняется, тем более что писал он без нынешней нашей поспешности, он любил этот эпистолярный жанр, старомодный, уходящий в прошлое. А ведь его, в сущности, ничего не заменяет. Ничего не остается от «эсэмесок», телеграмм, факсовых сообщений, мы теряем свою прошедшую жизнь, встречи, сердечные потрясения, жизнь духа. Дневников не ведем и писем не пишем, если и пишем, то короткую, бедную информацию. Посмотрите, какая пришла скудость выражений «Уважаемый…» – типично начинается бумага, и «С уважением» – кончается.








