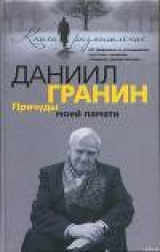
Текст книги "Причуды моей памяти"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Как-то на пляже, в Дубултах, я прочел в «Известиях» письмо академиков против А. Д. Сахарова, за его осуждение войны в Афганистане. 72 члена Академии наук СССР подписали это постыдное письмо, осуждая Сахарова, не стесняясь в выражениях. Академия надолго опозорила себя. Впоследствии академики оправдывались так: «нам выкручивали руки», «о, если б вы знали, чем они угрожали». Действительно, «насиловали», прессовали, на себе испытал, но ведь далеко не все поддавались. Отказались подписывать, например, П. Капица, Д. Лихачев, Зельдович, Гинзбург, Канторович. Никого из них за это не заточили в тюрьму, не выслали, не уволили. Грустно, что среди подписантов были хорошие ученые – Прохоров, Дородницын, Тихонов, Скрябин. Называю этих четверых, потому как они специально выступили в зарубежной печати, назвав Сахарова клеветником.
В Краснодаре собрал в День Красной Армии командующий корпусом всех ветеранов-офицеров, устроил им прием. Спрашивает – как жизнь? Встает ветеран генерал-лейтенант, Герой Советского Союза: «Что это за жизнь, если я, генерал, с голой задницей хожу?» «Как это понять?» – спрашивает командующий. «А прикрыть жопу нечем. Трусов нет».
Комкор вызывает начальника военторга. «В течение трех суток обеспечить всех ветеранов трусами!»
Изловчился. Обеспечил. Вот это был настоящий праздник.
(Рассказал мне генерал-лейтенант Е. Майоров.)
Лопатников Виктор Алексеевич:
– Наша работа партаппарата требовала унификации мысли, языка. Лучшие свои годы я потратил на эту деятельность. Зачем?
Вот и сейчас сидит во мне партаппаратчик, сумею ли я его одолеть, не знаю. Принимаем фильм Сергея Микаэляна «Вдовы». Там в финале две старушки провожают на вокзал приехавших на похороны неизвестного солдата гостей. Старушки опекали его могилу. Теперь там торжественно открыли памятник. Оркестр. Начальство. Проводы. Все разъехались, старухи остались. Их забыли. Им двадцать километров домой идти. Пускаются в путь, распевая песню. Конец.
– Кто у нас может оставить старых людей без машины? – спросил секретарь обкома при приеме картины. – Этого не может быть. Поклеп.
Заставили режиссера переделать. А меня помалкивать.
ЛИХАЧЕВ
У Лихачева есть замечательное определение ученого: «Не тот, кто знает, а тот, кто понимает».
Он был мастер дефиниции, это куда важнее, чем искусство афоризмов, краткое определение открывает суть, самое существенное в явлении, в предмете, помогает отделить внутреннее от внешнего.
Можем ли мы обойтись без врага? Нашему обществу всегда навязывали врага, это была важная часть советской идеологии. Враг внешний. Враг внутренний, враг скрытый, замаскированный, еще не разоблаченный. В научных работах, особенно гуманитарных науках, борьба была обязательной. Лихачев счастливо избежал этого. Была ли это его установка? Думается, да. Выглядит это сопротивлением политике ненадежного мира, повально злокозненного – излюбленного понимания Сталиным окружающей жизни.
Тот, кто побывал в лагере, навсегда становится предметом внимания органов, его отпускают как бы условно.
Игорь Смирнов приводит знаменательный факт – через два часа после того, как на Лихачева напали в подъезде его дома, сломали ему два ребра, он выступает с докладом на конференции по «Слову о полку Игореве», которую организовал.
Один из руководителей Ленинградского КГБ, Калугин, писал в печати о том, что Д. С. Лихачева подслушивали. Три человека в городе удостаивались этой «чести», в том числе Дмитрий Сергеевич.
—
Ленинград – город наших страданий, они начинаются с первых лет революции.
Восьмого марта поручили мне составить программу концерта. Дело простое, зачем-то я решил проявить инициативу, оживить программу смехом. Пригласил Карцева и Ильченко исполнить миниатюру М. Жванецкого «Туристы на ликеро-водочном заводе». Все задыхались от смеха, только члены бюро обкома и горкома в первом ряду сидели с каменными лицами. Мы тоже перестали смеяться. Нам из ложи они были видны. Кто не мог удержаться, так те прятались в тени, чтобы первый их не увидел.
Потом мне сказали: «Зачем ты этих дал? Не следовало. Дешевый смех». (Рассказ Виктора Лопатникова.)
Поэт Сергей Орлов подарил Михаилу Светлову свою книгу стихов. Называлась она «Колесо».
Светлов повертел ее в руках и сказал со своей прелестной интонацией:
– Старик, еще три колеса, и машина.
Я вспомнил об этом, потому что меня убеждали, что у Светлова его «мо» заранее заготовлены.
Еще помню, зашел разговор о детском писателе А. Алексине, Светлов повел губами, сказал:
– Когда Гоголь пишет: «в избу вошел черт», – я верю. Когда Алексин пишет: «в класс вошла учительница», – я не верю.
Комбат говорил нам: «Надо иметь смелость быть трусом», – это когда он заставлял нас ползать по окопам, их завалило снегом и не стало укрытия.
Света можно прибавить, тьмы не прибавишь.
Скольких может любить одно сердце. Сердце не однолюб. Оно может влюбляться вновь и вновь, ему кажется – наконец-то, вот оно настоящее. Если б оно знало, что оно хочет.
Ты меня не знаешь, потому что любишь.
Ботаник так увлекся, что говорил: «Мы – растения».
Мы его терпеть не могли за то, что он всегда оказывался прав. Советам его, тем не менее, приходилось следовать. Из-за этого нам не нравилась его безукоризненная вежливость, и то, что от него пахло мятой. Однажды я подсмотрел у него бесовскую ухмылку, и это меня примирило с ним.
Его заставили каяться, хотели снять с него маску, а сняли скальп.
В 1990 году я получил от читателя стихи, подписи не было. Не знаю, его ли это, или он где-то списал:
Нам часто говорили:
– Даешь!
И мы давали.
– Тяни!
И мы тянули.
– Нажми!
Мы нажимали.
– Терпи!
И мы терпели.
Сквозь зубы мы стонали,
Теперь не все нам верят,
Что, в горе захлебнувшись,
Мы счастливы бывали.
Ведь что-то мы смогли,
Нам много обещали,
Нам больше говорили,
Так мало нам давали.
К чему же мы пришли?
ПОМИНКИ
Сохранился у меня среди блокадных записей рассказ Маруси. Ни фамилии, ни адреса, просто Маруся.
«У подруги ее, Каряниной, умер муж. Карянина сама не могла похоронить, сил не было. Маруся и Ляля взялись довезти его до братской могилы. Мужчина был большой, тяжелый, везли его вдвоем на двух связанных детских санках, они все время разъезжались. Мы очень устали, довезли его до кладбищенского морга и там сдали. Карякина очень просила, чтобы подруги сами поглядели, дождались, как его предадут земле. „А я в это время поминальный обед сделаю”. Она была вся захвачена именно этим – сделать поминальный обед, поминки… Обед был из трех блюд. На первое суп из ремней. У них было куплено метров двадцать привозных ремней, и они эти ремни ели. Ремни-то ведь были из свиной кожи, жирные. С варева можно было снимать жир – он горчил, и все кушанья из ремней горчили, но есть было можно. Итак, на первое был суп из ремней, на второе – лепешки из пропущенных через мясорубку ремней, на жиру, вытопленном из них же. Лепешки тоже горчили. А на третье было желе из сахарной земли. Это была действительно земля. Земля из-под бадаевских складов, сожженных немцами в первые дни бомбежек Ленинграда. Они горели, картина была совершенно библейская: дым багровый, круглый, поднимался до самого зенита.
Расплавленный сахар просочился глубоко в землю, метра на четыре. Ленинградцы эту землю копали и ели. Ее даже на рынке продавали, и говорили: „Хорошая земля, первый метр». Шла она по 50 рублей за стакан. Эту землю как-то вываривали, процеживали, получалась сладковатая жижица, но с привкусом горечи.
Вот такой был поминальный обед. Ели его с удовольствием, она вспоминала мужа, любила его».
Из всей блокады ей (автору письма) больше всего запомнились эти поминки, там есть еще комментарии, почти веселые, с удивлением к той своей блокадной жизни.
Когда наступили годы первого после революции террора, единственный, кто в полный голос обратился к правительству с протестом, был Владимир Галактионович Короленко. Затем, если не ошибаюсь, Иван Петрович Павлов.
Страшно, пока кол над головой, ударили – и страх прошел.
Если боишься – не говори, сказал – не бойся.
– Личные интересы нельзя ставить выше общественных. Интересы общества выше. Интересы общества, то есть народа, знает ЦК, а интересы государственные тем более, они выше всего, и знает их только ЦК, то есть самая высшая власть.
– А откуда им известны интересы народа? И почему государственные интересы выше их? И почему все это выше моих личных? Например, у меня есть интерес жениться на Варе. Для меня выше ничего нет.
– Это тебе кажется. А если мобилизация?
– То закон, я его должен выполнять. Все остальное перед Варей отодвигаю.
Эпитафия: «Может быть, теперь я пойму, зачем все это было».
Любой атеист знает, что у него есть душа. Не понимает, отрицает, но знает, и наверняка, и при этом будет опровергать свое знание.
Голова круглая потому, что шар обладает наибольшей вместимостью. Так хочется думать.
Самое интересное в жизни – я сам.
Один мидовец рассказал, как Подгорный (он тогда был председатель Президиума Верховного Совета, как бы наш Президент), встречался в США с Бушем. Подгорный спросил его:
– Господин Буш, у вас растет капуста?
Тот заметался, не понимая, что значит этот вопрос.
– У меня было одно имущество – красота, – повторяла Лиля Б.
Наш ротный уверял нас (в 1942 г.):
– Когда я сплю на левом боку, мне снятся девки, когда на правом – пироги.
Удобно устроился.
ЛИВЕНЬ
Лес, темный, как грузная туча, лежит у озера. Плывешь на лодке, позади от весел воронки и гладкий след на шершавой воде. Виден долго. День серый, теплый. Где-то гремит сухая гроза, длинные, нестрашные молнии падают в леса. Лиловый блеск гаснет в воде.
Последние месяцы я занимаюсь в лаборатории молниями – разряды в газах, атмосферное электричество и всякое такое. Но вот смотрю на грозу и, слава богу, обо всем этом забыл, а вижу ее, как раньше, ее красоту, таинственность; наука ничего не прибавила, не отняла все это.
Вдруг нас нагнал дождь. Он рухнул на озеро всей массой, невесть откуда взявшийся. Лупит озеро, бьет с такой силой, что вверх поднимаются водяные пальчики, шишечки. И так же внезапно умчался.
Мы мокрые насквозь, в лодке вода, а небо очистилось, невинно-голубое.
Сосенки по берегам разом поседели. В длинных иглах завязли капли.
Лес отряхивается. Листва шевелится от падающих капель. Мы тоже выжимаем из маек, штанов дождь.
Мы идем по берегу, слышно, как повсюду стучат капли. Дождь продолжается, это лесной дождь. Лес тоже выжимает… На траве капли сворачиваются в шарики.
Мой приятель занимается каплями. Как она формируется, как набухает, как отрывается. Это целая наука, и важная.
После дождя в помутневшей воде играет рыба. Выскакивает, то там, то тут взблескивает уклейка.
Допрашивали пленного ефрейтора в землянке комбата. Это вообще-то не рекомендовалось, просили сразу отправлять в штаб. Но комбат хотел узнать про огневые точки, что донимали нас, где, какие… На допросе я не был, но Володя Лаврентьев нам рассказал, что из ответов немца стало ясно – перед нами часть, которая запросто может нас раздавить. Был конец января 1942 года, народу в батальоне осталось всего ничего, подкрепление не присылали, три человека перешло к немцам, мучил не только голод, еще и цинга, зубы выпадали.
Комбат не понимал, почему немцы не наступают. Получалось из ответов ефрейтора – то ли не хотят, то ли боятся. Немец без приказа не войдет, тогда мы можем так, для виду, оставить тут половину, а другую отправить в город помыться, отогреться, отдохнуть. И вообще, раз так, нечего нам вылазки устраивать. Послушали мы его и посоветовали помалкивать. Но запомнилось. Рассуждали потихоньку, не прилюдно: чего ради немцы стоят перед нами, чего они блокировали город, если входить не хотят? Чего ж они добиваются? А у нашего командования какая такая стратегия?
РОМОВЫЕ БАБЫ
Сюда, наверное, следует добавить рассказ о том, как нам во время работы над «Блокадной книгой» принесли фотографии 1942 года. На них был кондитерский цех какой-то ленинградской фабрики. Работницы и рабочие в белых халатах. Лица у них тронутые блокадой, не так голодом, как именно блокадной жизнью, куда входили морозы, бомбежки, пожары, обстрелы, смерть близких… Круги под глазами, потухшие глаза, усталые лица.
На двух снимках ромовые бабы, их макают в чан, укладывают в ящики, подсчитывают. На последнем снимке – большой противень, уставленный этой продукцией. На нем примерно две сотни свежих ромовых баб.
Шел 1978 год, советская власть была еще в силе и думать не думала о своем конце. Гость пояснил наспех, что снимки подлинные, изделия пекли для Смольного, о происхождении снимков ничего не сказал, ничего о фотографе, ничего о себе. Отдал и ушел.
Нам не раз рассказывали о том, как сытно, даже роскошно питалось начальство, но никаких доказательств у нас не было, возможно, голодное воображение приукрашивало, раздувало эти слухи.
Фотографии, чем дольше мы их рассматривали, тем убедительнее они выглядели. Если бы то были колбасные изделия, сосиски, но тут ромовые бабы, в разгар блокадных смертей (начало 1942 года), именно эта невероятность почему-то подтверждала факт. «Верю, потому что абсурдно», – как говорил древнеримский христианский философ Тертуллиан.
Опубликовать в то время эти снимки и думать было нельзя. Но спустя почти двадцать лет они появились в немецкой публицистике. И мне преподнесли не две, а еще третью, где шел какой-то этап производства этих баб.
Никогда я не уважал наше советское начальство, но все же не хочется смириться с тем, что блокадным городом командовала бессовестная каста, лишенная стыда и сострадания. Я столько насмотрелся, столько узнал о муках голода, что готов простить несчастным людям даже людоедство, но ромовые бабы простить не могу. Эти фотографии нанесли удар моей вере в человека, напрасно я придумывал какие-то оправдания – может, их готовили к празднику, может, то был единичный случай. Нет, не помогало. В городе люди падали на улицах, не в силах дойти до дому. В булочных дети вырывали у взрослых полученные жалкие пайки. Можно ли было готовить не то чтобы булочки, пирожки, нет – пропитанные ромом, облитые глазурью ромовые бабы? Ничего более подлого я не мог представить. Это было как предательство.
…Уже некому возмущаться, негодовать, проклинать, не с кем поделиться своим гневом.
Кроме общеизвестной, самой древней профессии, на это звание претендуют еще сикофанты. С древнегреческого – доносчик. Доносительство стало профессией уже в V веке до нашей эры.
Тундра в октябре была яично-желтая. Лиственница плоская, как итальянская пиния. Кочки. Брусника здесь с маленькими листочками. Много голубики, черники, и все это по разноцветным мхам. Красиво. Вода торфяная. Пусто. Тихо. Плывем. И такой покой от безлюдия, настоенного годами, от непуганности.
Северная природа вовсе не бедная, она скромная, если присмотреться – в ней красота не напоказ, а интимная, с отличным вкусом.
Плывем и слушаем, как Кирилл Ф. хвалится своей деревней, ее песнями, рушниками, наличниками и при этом едко поддевает городских. Очкарик гидростроитель Альберт И. почему-то виновато ему уступает, не спорит, ведет себя как-то непривычно робко. Вечером я спрашиваю его: чего он вдруг так покладист? Оказывается, он участвует в проекте, где будет затоплена эта местность: и деревушка Кирилла, и весь край этой долины.
На юбилее Юрия Ивановича Полянского, которому больно досталось в годы лысенковщины, выступил Владимир Яковлевич Александров. Начал он так:
– Ныне историкам говорят: «Не будем ворошить прошлое, сколько можно». Представляете себе, что будет с историей, если они исполнят эту просьбу?..
В начале всего была тишина. Почему-то кажется, что она черного цвета.
После тишины наступило молчание. Оно отличается от тишины тем, что обрело смысл. То было раздумье или ожидание. Космос состоит из тишины. Внутри зерна тоже тишина, тишина созревания. Или ожидания.
– Не в свои сани не садись.
– А где мои санки? Где они? Никогда не видел их.
Лев Толстой писал Леониду Андрееву: «Значение всякого словесного произведения в том, что оно открывает людям нечто новое, и большей частью противоположное тому, что считается несомненным».
Меня давно занимала достоверность в романах Достоевского. Достоверность адресов, обстановки. Точность доходила до странного. Он поселял своих героев в реальные дома, в существующие квартиры. Придерживался топографии города и насчет трактиров, дворов, полицейских участков. Я пытался так объяснить, для чего Достоевскому нужна была подобная реальность: «Он начинал жить, воплощаясь в своих героев. Со всей предметностью. Подобно режиссеру, он ставил спектакль…» Встречается подобное и у других писателей, но Достоевский буквален топографически. Андрей Федорович Достоевский водил меня по адресам героев «Преступления и наказания», показывая точность текста романа и обстановки. Я даже написал об этом очерк. И вдруг спустя десятилетия приходит письмо от читателя: вы, мол, утверждали в своей книге, что дом на углу ул. Пржевальского и Гражданской тот самый, что описан у Достоевского, как дом, где жил Раскольников. Однако это не так. В романе сказано, что дом пятиэтажный, на самом деле он четырехэтажный.
Я удивился, поехал на Гражданскую. Действительно, четыре этажа. Мы с Андреем Федоровичем не обращали внимания на эту деталь. Все остальное сходилось, а это… Андрея Федоровича уже не было в живых, справиться не у кого, да что справляться – вот он, дом, в натуре. Четыре этажа.
Зашел во двор. И со двора четыре. Никаких мансард. Вся моя теория треснула. Конечно, Достоевский мог не доглядеть, ничего особенного, четыре этажа, пять – что это меняет в образе Раскольникова, это же роман, сочинение, а не историческое исследование. Могло вообще не быть никакого адреса, нет же адресов ни у Чехова, ни у Льва Толстого.
Но не хотел смириться с поражением. Продолжал бродить возле дома № 19, опять зашел в подворотню и вдруг увидел табличку – этажи и квартиры – 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й – этаж! 5-й этаж, квартира 34! Поднялся по лестнице. Увидел, что на пятом этаже мансарда, полукруглое окно, снаружи оно выглядит обычным чердачным. Вот оно что. Фактически этот дом пятиэтажный. Значит, Достоевский знал этот дом изнутри, знал не по наружному виду. Поселил Раскольникова именно на верхотуре, на пятом этаже.
Это письмо читателя еще раз показало мне, какая потребность была у Достоевского вжиться в бытование своего героя.
«Сообщаю, что мост у нас противоречит подвозке молока. Уже полгода как мы проявляем небеспокойство».
– При научных спорах прошу возражать деликатно, например: «Наконец мы услышали доклад, где сформулированы положения, опубликованные за последние годы в разных учебниках». Это действует сильнее.
В США, в конгрессе нам рассказали, что за 200 лет сменилось в стране 40 президентов, 16 верховных судей – всего, и 160 членов Верховного суда.
В Ватикане есть мозаичные портреты 242 пап.
Вообразите площадь, где выстроились былые кумиры – Гинденбург, Гитлер, Ленин, Наполеон, Сталин…
Мир был полон – родных, двоюродных, дяди, племянники, тетки, школьные друзья, и вот опустело, позвонить некому, на улице давно не встречаю знакомых.
Птица – та живет в трех измерениях, человек – он ходит по земле, движется по плоскости.
Пожить своей собственной жизнью не успел, разве что в последние годы, когда лишился всех установок, программ, генеральной линии, остался на собственном усмотрении, нет ни обозначенной цели, ни идеи.
Физик Петр Лукирский с 1934 года начал работать с медленными нейтронами. Двигался он параллельно итальянцу Ферми, но в конце 1937 года его арестовали. Работы прервались. В 1938 году Ферми дают Нобелевскую премию, Лукирскому – концлагерь. Сослали на Север, на гидростроительство. Потом перевели на Колыму. Там уже, умирающего, его устроили аптекарем. Затем банщиком. Выжил. Вернули в 1943-м, выбрали в Академию наук.
– Понимаешь, до чего дошел человек? Получил взятку тысячу рублей, а хвастается, что получил десять тысяч; угнал «Жигули», а хвалится, что угнал «Мерседес». Престижно. Сейчас мы, мелкие воры, стесняемся своей честности.
КАПРИЗ
Мне рассказала это Майя Кавтарадзе, дочь Сергея Кавтарадзе, довольно известного и в России, и в Грузии революционера. В 1915 году он окончил юридический факультет Петербургского университета, что выгодно отличало его от других деятелей партии. Выгодно, а может, и невыгодно для него. Был наркомом юстиции Грузии, потом участвовал в троцкистской оппозиции и далее, конечно, был арестован.
Отсюда начинается рассказ Майи. Мы сидели на даче у Товстоноговых в Комарово и слушали эту странную историю из сказок 1001 ночи.
– Мой отец Сергей Кавтарадзе в 1940 году в очередной раз вышел из тюрьмы. Его сажали часто, то царское правительство, то при меньшевиках в Грузии, то советская власть, это уже Сталин за участие в троцкистской оппозиции. Работы не было, его приятель, переводчик, занимался «Витязем в тигровой шкуре», устроил его редактором этого перевода. Однажды вечером за отцом приезжают двое, молчаливые такие, ничего не объясняют, увозят. Но мать сказала, что это не арест. Она заметила какие-то признаки, у нее был опыт. Однако проходит час за часом – нет его. Мать ждет, не ложится. Наконец в шесть утра появляется хорошо подвыпивший.
Жили мы в коммунальной квартире. Две комнаты у нас и соседи. Одна из соседок открыла дверь – увидела отца, а за ним Сталина. Подумала, портрет. Надо же, с утра пораньше такую большую картину приволок. Но когда портрет сам по себе вошел, она тихо осела и потеряла сознание. Внизу, во дворе, где были магазины, грузчики выгружали хлеб и молоко. Увидев Сталина, а за ним Берию, они застыли.
Вошел отец, говорит матери: оденься, выйди, к нам Сталин приехал. Мать ему – ты пьян. Нет, говорит, выйди. Мать слышит, в той комнате ходят, разговаривают. Она оделась, вышла.
Мать Майи София была замечательная личность, это потом мне Нателла Товстоногова рассказала. Она была любимой фрейлиной при дворе Марии Федоровны, смолянка. Знала языки. Была и аристократичней, и образованней мужа.
– Мама возвращается и говорит мне: «Встань, пойди поздоровайся». Я не хотела. Мать сказала: «Все же историческая личность, выйди». Я оделась, вышла. Слыхала, как Сталин сказал матери: «Замучали мы вас». Мать моя тоже сидела, вернулась вся седая. Я писала в те годы каждую неделю письма Сталину и подписывалась «пионерка Майя Кавтарадзе». Кое-что, наверное, дошло, потому что Сталин сказал: «А, пионерка Майя Кавтарадзе!»
Внесли угощение в термосах, накрыли стол. Все четверо – отец, мать, Берия, Сталин – сидели, пили, вспоминали молодые годы.
Да, наутро соседка проспалась, не поверила нам и все допытывалась, почему мы носили портрет Сталина «туда-сюда».
Позже отец рассказывал, что он узнал, как все было. Сталин спросил Берию про Кавтарадзе, как поживает. Освобожден-то он был потому, что Сталин однажды вспомнил о нем, сказал, чтоб вернули из лагеря. Узнав, что Кавтарадзе с переводчиком работают над поэмой Руставели, захотел поговорить с ним. Их доставили. Сталин слушал какие-то куски из перевода, делал замечания, некоторые разумные, потом пошло застолье, общая юность, Тбилиси, Батуми, Кутаиси – было что вспомнить.
Вдруг Сталин уже под утро спросил: «Почему, дорогой Сергей, меня в гости не зовешь?» Кавтарадзе стал ссылаться, что живет в коммуналке, Сталин пожал плечами, при чем тут коммуналка, вполне возможно, что он плохо представлял, что значит коммуналка, вполне вероятно, что он даже никогда не бывал в подобных поселениях, коими были переполнены в те годы Москва и Ленинград.
Сталин между тем вспомнил про его жену, которую он тоже посадил, и предложил продолжить застолье у своего, оказывается, «друга Кавтарадзе».
Вполне возможно, ему показалось забавным появиться перед женой, дочерью внезапно, под утро.
Что касается отсутствия угощения, то, как вы понимаете, проблемы в этом для товарища Сталина не было. Он предвкушал эффект своего внезапного визита. Он любил выворачивать, казалось бы, очевидное наизнанку, озадачить так, чтобы оторопь взяла. Во время Великой Отечественной войны велел доставить ему из лагеря Рокоссовского. Оглядев его арестантскую телогрейку, сказал укоризненно: «Нашли время сидеть, товарищ Рокоссовский». Другие утверждают, что эти слова были обращены к Королеву.
Возможно, правы и те, и другие, фольклор приписывал вождю немало удачных реплик.
Выслушивали благоговейно, вопросов не задавали: за что я сидел, зачем меня посадили? …Кавтарадзе не спрашивал, и Софа не спрашивала, понимали – не положено, с Всевышнего не спрашивают, «Господня воля – наша доля». Хотя жег один мучительный вопрос: что с братом, его тоже арестовали, жив ли он?
Нателла рассказывала мне, как они в Тбилиси стояли в огромных очередях, несли в тюрьму передачи – теплые вещи для арестованных, пошел слух, что их высылают в Сибирь. Несли свитера, куртки, валенки. Передачи принимали, никто из родных не знал, что все вещи адресованы мертвецам, они уже давно расстреляны, брат Кавтарадзе в том числе, а тысячные очереди несли и несли передачи.
В тот вечер Сталин расчувствовался и сказал Софии: «Замучали мы вас».
Как и положено, чудесное посещение должно было закончиться счастливо. Через несколько дней Кавтарадзе получил назначение заместителем министра иностранных дел.
Оказывается, и такие трогательные истории бывали. Понять, как вмещалось то и другое, невозможно. Конечно, в человеке сосуществуют и дьявол и ангел, и инфернальный и совестливый. Гений и злодейство несовместимы, зато посредственность вмещает все.
Нет таких глупых людей, которых нельзя было бы за что-нибудь похвалить.
По утверждению некоторых ученых, человек использует только 10 % своих умственных и физических возможностей. Наполеон считал, что духовная сила относится к физической как З:1.
Они сидели в автобусе напротив меня. Одна рассказывала, вторая слушала. Это вторая была еще ничего, особенно чистый белый лоб и красивые глаза с молодым блеском. Подбородок, вот он по-старушечьи поджат, обвислые щеки, морщины у накрашенных губ делали ее увядшей. Она настойчиво снова и снова выпытывала у подруги, с кем та видела ее мужа. Та рассказывала охотно, расписывала шелковый шарф на девице, сочувственно и в то же время восхищенно.
Когда рассказчица сошла на остановке, женщина стиснула щеки, съежилась, и стало ясно, что ее угрозы, решимость ни к чему, она стара, любви не вернуть. Зачем она расспрашивала, для чего выясняла?
ПОЭТЫ
В юности многие пишут стихи. Потребность выразить свои чувства именно стихами настигает внезапно, большей частью из-за влюбленности, такая происходит сублимация. Человек до этого не читал стихов больше, чем положено в школе, и те кое-как, и вдруг неодолимая сила заставляет его складывать слова в рифму, в определенном размере. Словесная музыка овладевает им, звучит в нем, ищет выход, он переходит в непривычное состояние, даже неудобное, начинает заниматься чем-то совершенно неподобающим. Так действует любовь. Это она рождает поэзию и поэтов.
Любовь человек не в состоянии передать обычными словами, самая красивая проза тут не справляется. В других странах, в другие времена пели романсы трубадуры, у нас слагают стихотворные послания в письменном виде, передают скомканные листки. Хочется передать свое чувство тому, кого любишь, потребность это мучительная, стихи ближе к музыке, в них ритм, мотив, они сходны с глухариным токованием. Оно поднимается из сокровенных глубин, брачные танцы журавлей, соловьиные песни, человек ничем не отличается, он тоже, слава богу, причастен этому древнему призыву. Самец рыбы колюшки исполняет в пору любви брачный танец перед самкой, описывает круги, плывет, широко разинув рот, все это в ритме. Любовные песни цикад, кузнечиков, около десяти тысяч видов насекомых известно с их песнями «обольщения». А песни лягушек, жаб? Мы не знаем их языка, возможно, это великолепные серенады.
Поэзия – потребность природы, поэзия рождается из любви, высшее проявление духовных сил всего живого, по крайней мере, так кажется, когда думаешь об этом таинственном явлении отдельно от всего окружающего, где человек остается еще частицей природы, сохраняет в этом родство с ней.
Те первобытные силы, которые заставляют трубить оленей, у человека, обретшего речь, выражаются через стихи, если это так, это ничуть не принижает поэзию. Но при чем тут неумелые, большей частью бездарные вирши школяров, студентов и прочих влюбленных. Да, это не поэзия, они не для других, они не существуют ни для кого, они смешны, они примитивны, они существуют лишь для автора и адресата, если автор решится передать их. Они не поэзия, но они написаны поэтом, то лихорадочно-возвышенное состояние, которое заставляет писать стихи, есть состояние поэтическое, человек в этом состоянии истинный поэт… Величина дарования тут ни при чем, какие получились стихи, не важно, важно чувство, бескорыстное, идущее из глубины души, пропеть свою песню, для самого себя, так и должны писаться стихи.
Пропел, написал – и свершилось.
ЧУЖИЕ ДЕТИ
После выхода «Блокадной книги» мы стали получать много писем, десятки, а потом сотни и сотни. Отвечать на них мы уже не могли, ни сил, ни времени не хватало. Читатели хотели поделиться своими воспоминаниями, дополнить книгу, но возвращаться к ней мы не собирались. Всю почту я сдавал в архив.
Какие-то письма задержались у меня. Из них одно 1993 года. Теперь я понимаю, почему я его сохранил. На самом деле это письмо не о блокаде, это удивительно написанный рассказ, даже повествование, об одном еще более удивительном человеке. Она жила во время блокады, и авторы письма, две девочки, а теперь уже далеко не девочки, сочли своим долгом непременно поведать эту историю, дабы сохранить память об этом человеке.
Своим рассказом они соорудили памятник ему, и мое дело – напечатать, не дать затеряться этой истории.
Обычно я привожу из читательских писем какие-то отрывки, сцены, но здесь мне не хочется ничего сокращать, честно говоря, я боюсь повредить, замутить этот источник. Они обе писали его долго, с чувством любви и горечи, оттого что не могут передать полностью ту свою блокадную любовь.
У Густава Флобера есть повесть «Простая душа». В сущности, это тоже о простой душе, но в условиях тех пылающих, страшных девятисот дней блокадной жизни.
Начато 14 марта 1993 г.
Глубокоуважаемый Даниил Александрович!
Простите ради бога, если я займу Ваше время.
Я уже несколько лет собиралась Вам написать, да никак не могла решиться. Когда вышла Ваша и Александра Михайловича Адамовича «Блокадная книга», я даже хотела Вас увидеть или позвонить Вам. Тогда же, будучи в Ленинграде, узнала Ваш адрес, но Вы были больны, и я не осмелилась навязываться. А тут годы идут, мне уже 70 лет, а написать нужно о женщине, которой я обязана жизнью. 26 марта этого года (1993 г.) было 50 лет со дня ее смерти, а я живу только потому, что умерла она. Живу в долг. И понимаю это всю жизнь. Моя сестра все эти годы просит меня: «Напиши о Поле, ведь ты больше знаешь!» И больше откладывать нельзя – можно не успеть. Теперь каждый день – как сто лет, и все эти события, что мы переживаем, благотворно на здоровье никак не влияют – наоборот.








