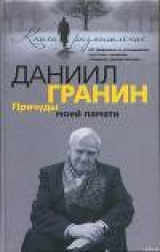
Текст книги "Причуды моей памяти"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
– Но как же так, или ты будешь жить на две стороны? – спрашиваю. – Ведь это ужасно.
– Ничего ужасного, – говорит он, – наоборот, я почувствовал отцовские радости, которых был лишен от своей дочери, и жизнь моя как-то наполнилась. Что же касается жены, то она пока не знает, а если и узнает, то я не вижу причин для трагедии.
ВОЗМЕЗДИЕ
Муж бросил жену с дочерью, ушел к возлюбленной. Дочь до двадцати лет воспитывали в духе возмездия. Она пропиталась этим духом, мечтала, как когда-то встретится с отцом, он будет несчастен, покинут, заброшенный, пьяненький, больной, поймет, как ошибся, станет просить прощения у нее. Возмездие неотвратимо, грех наказуем. Она будет безжалостна – ты даже не поздравлял меня в дни рождения!
И вот они встретились на юге, случайно, он в белом костюме под руку с женой, красивой кореянкой с золотым браслетом. Веселые, счастливые. Дочь поражена. Как же так? Он и не думает каяться. Приветлив, приглашает в ресторан. Где же мораль? Нет возмездия, никакого, ни раскаяния, ни чувства вины. Что же это значит?
Самое важное и необходимое в жизни человека – определить свои способности. Повезло – определил, нашел себя, а то и так бывает, что само нашлось, вылезло, потому как призвание неудержимо. И что?.. Какой бурной государственной деятельностью всю жизнь занимался Державин: и в Сенате, и при дворе, и на губернаторстве, сколько обид принял, сил убил… А был он великий поэт и должен был писать, писать, писать!
Большинство людей живут, не узнав свои способности, не сумев выявить свое дарование, у каждого оно к чему-то есть. Но вот мой друг Илья Имянитов, замечательный специалист по атмосферному электричеству, автор многих работ, вдруг под старость стал писать еще и рассказы. Слабенькие, подражательные, расстраивался, потому что понимал, что не то, но упорно продолжал. Зачем? Что это было? Подобные извороты случались у многих моих друзей. Начинали заниматься музыкой, сценой, живописью, мешали своему истинному призванию. Видно, чего-то им не хватило. Хотели попробовать и другого?
Мне симпатичны идеи Карла Поппера о том, что историей движет технический прогресс, или точнее: «Ход человеческой истории в значительной степени зависит от роста человеческого знания».
Знания, открытия непредсказуемы, поэтому непредсказуем ход истории.
Непредсказуемой была эпоха информатики. Она создала коммуникативность мира, глобализацию.
Историю движет не так идеология, не так религия, а скорее развитие науки и техники. Остановить это развитие невозможно, оно сопровождает человечество с момента появления мышления.
Какова тут роль культуры? Гуманитарных наук? Без них был бы человек творцом? Можем ли мы жить без идеи, без богов, без музыки?
Усмирение наук – необходимость? Как все же повлиял, допустим, интернет на ход новейшей истории? Или освоение космоса? Мобильники? Телевидение? И т. п. Мир стал коммуникативен, он живет в режиме on line… И что все это может определять в человеке?
В Глиптотеке Мюнхена автопортрет Рембрандта – маленький, не похожий на копии в монографиях. Там он яснее, больше, величавей. Но зато в подлиннике остается что-то еще не переходящее в копии.
В Баден-Бадене памятник евреям – жертвам фашизма. Надпись: «В городе не нашлось ни одного человека, который протянул бы руку помощи».
В Цюрихе пять витражей Шагала в костеле. Заказал их аноним, до сих пор неизвестно, кто.
Роман Васильевич, приехав из Европы, рассказывал сослуживцам:
– А что их храмы, ничего особенного, наши не хуже, у нас есть построенные еще в III веке до нашей эры. Да, мы продавали иконы, картины, во-первых, в обмен на трактора, во-вторых, все достанется нам обратно после мировой революции. Да, конечно, продовольствия у них больше. Я убедился: правильная у нас политика, страхом надо держать, страх заменяет сосиски.
НАУКА
Вопросы – «Почему?», «Зачем?» – в науке неинтересны. Мне, например, казалось весьма важным понять, почему, мальки, маленькие рыбешки, стая их, поворачиваются одновременно, никаких вожаков не видно. Есть ли какая-то система сигнализации, связи? Как она действует? Но оказалось, что ихтиологов это пока не занимает. Им интересно то, что можно решить, то, где путь наметился, где есть за что ухватиться. Этим отличается искусство от науки. В науке ценен не вопрос, а ответ, его возможность… В искусстве важен не ответ, а вопрос, да такой, чтобы загнать в тупик, чем безвыходнее вопрос, тем он ценнее.
Эйнштейн писал: «В одном поколении так мало людей. которые обладали бы одновременно ясным пониманием приророды вещей, глубоким чувством истинных человеческих потребностей, способностью к активным действиям».
Просто удивительно, какая недоброжелательность окружала Эйнштейна многие годы в нашей стране. Самые разные люди, большинство из них понятия не имели, что есть теория относительности, они были только наслышаны о том, что это один из тех законов, который определяет устройство мира и нашу жизнь. Но их возмущало, что этот немец, как считали одни, еврей, как считали другие, устанавливает свои законы, по которым мы, оказывается, должны жить и не можем их нарушить, вот что непереносимо. Сотни людей, самодеятельно образованные в пределах средней школы, старались опровергнуть его законы, уверенно доказывали его просчеты. Я лично встречал немало таких старателей, они приносили мне тетради со своими доказательствами, были иногда среди них и люди образованные, например некий Герловин, который годами ходил ко мне, ну ладно бы только ко мне, он обивал пороги и Академии наук, и академических институтов, доказывая заблуждение Эйнштейна. Их всех раздражала неочевидность его законов. Тяготение – это наглядно, электричество, радио, арифмометр – все очевидно, у этого же «теория относительности». Зачем, где она?..
Ланжевен писал о нем: «Истинное моральное величие его личности было причиной, вызывавшей ярую ненависть многих интеллигентов, скорее всего, ограниченных». Наверное, действительно миром правит зависть, особенно к гению, к истинному гению, и все невежды и дураки ополчаются против него.
Телефильм назывался «Цель творчества – самоотдача». Как вы думаете, о чем? О реконструкции трубопрокатного завода в Перми, вот куда угодил Пастернак, вот на что его приспособили, сразу и не скажешь, что тут плохого, а почему-то неприятно. Пастернака еще не признавали, а строчками его и формулами пользовались, не оговаривая, что это цитата. Законно ли это? А может быть, это признание какого-то тайного поклонника, какого-то благодетеля, таким образом он пробивал ДоРогу своему любимому поэту.
Георгий Александрович Товстоногов сказал на совещании, обращаясь к начальству: «У вас не вызывают возражения только оды и монументальная пропаганда».
Могилу Пастернака тесно окружили могилы переделкинских жителей, трудно пробраться к ней, а было так одиноко и хорошо в первый год, когда он лежал на пригорке у сосен, и видна была его дача. Примерно так же произошло и с могилой Ахматовой, правда, тут, в Комарово, ее окружали свои, не чужие – Александр Гитович, жена его Сильва, художник Альтман, чуть поодаль – Жирмунский, Лихачев, а там, в Переделкино, разве что Корней Иванович.
Рапопорт попросил слово на сессии Академии наук, пришел он туда без билета, по дороге к трибуне его из президиума предупредил приятель: «Имей в виду, есть решение, все согласовано», тем не менее Рапопорт произнес яростную речь в защиту генетики, ему аплодировали, потом окружили его корреспонденты и стали уговаривать изменить стенограмму, особенно конец сделать примиряющим. Он отказался. На следующий день в «Правде» все же напечатали с таким соглашательским концом. Он позвонил Поспелову, редактору «Правды», потребовал исправить ошибку, тот ответил: «Правда» никогда не ошибается».
ПРИЗНАНИЕ
Было это в мае 1984 года.
«Клуб кинопутешествий». Снимали нас всю дорогу в Старую Руссу. Там был такой эпизод. Мы – Лихачев, Сенкевич и я – приехали в село Взвад, к рыбакам. На берегу озера Ильмень вечером развели костер, варили уху, рыбаки травили байки. Один из них, умница, неторопливый, в старой солдатской гимнастерке, рассказывал про озеро. Оператор все время просил его смотреть в камеру, но тот больше смотрел на Лихачева.
– Есть у нас рыбаки, которые перевыполняют план. Вылавливают много больше заданного. Есть такие. Только разве можно в нашем деле перевыполнять? Рыбу можно запросто всю сразу выловить, ничего не оставить...
Смотрим передачу, остались только первые две фразы, остальное цензура вырезала.
Если бы собрать и запустить все, вырезанное цензурой, интересный получился бы фильм.
Замечательное было путешествие. Из Новгорода мы шли на специальном пароходике через Ильмень. Сенкевич тогда был всесоюзной телезвездой. В те годы, между прочим, природа «звезд» была другая – не песни, не шоу, не куплеты. К примеру, вспоминаются три звезды: Каплер – он вел передачи о кино, Сенкевич – «Клуб кинопутешествий», и Дроздов – «В мире животных».
Когда мы приехали в Новгород, то пошли гулять по набережной. Идем втроем. Никто нас не замечает, никому в голову не придет, что могут здесь оказаться Лихачев и Сенкевич. Поэтому чувство прелестной свободы. Солнышко. Тепло. Вдруг эбежит навстречу школьник, размахивая своим портфельчиком, видно, со школы, в том схожем с нашим беспечно-счастливом состоянии, чего-то напевает. Второй класс, не больше, это возраст, когда человеку не бывает скучно, собственного общества ему достаточно. Миновав нас, он умолк, вернулся назад, забежал посмотреть, глаза его округлились, прямо-таки выпучились, уставились. На кого? Конечно, на Сенкевича! Призрак? Бред? Инопланетянин! Он застыл в ужасе, открыл рот и закричал истошным голосом: «Аа-а! Мама! Мама!» – первое, что кричат все дети мира.
Сенкевич сказал, что никогда еще не получал такого горячего признания своей славы.
ОБЛОМКИ
Пропали отцовские фотографии, семейный альбом, пропал сундук с отцовскими материалами лесных обмеров, экспедиций, все сожгла соседка в блокаду. Сундук оставила, сожгла и старинные книги, и мои школьные тетради, которые отец собирал, мои рисунки, стихи, все то, что хранил для меня и внуков. Как будто пропало мое детство.
ВИНА
Подруга ушла, и обнаружилась пропажа кольца. Дорогое. Они играли на рояле в четыре руки, хозяйка сняла кольцо, и потом его не стало. Все переискали – нет. Подумать можно было только на подругу. Ее отлучили от дома, сторонились, конечно, ничего не сказав. Прошло три года. Однажды вызвали настройщика, и где-то внутри рояля он обнаружил кольцо.
Повиниться, сказать ей – значит, смертельно ее обидеть. Как на нее могли подумать.
Не говорить – тоже стыдно, ведь виноваты.
В ИСПАНИИ
В Толедо Миша Луконин не захотел с нами идти смотреть старинные соборы. Надоело ему. «Осточертели ваши каменюги».
Он остался ждать нас в местной пивной.
Вернулись мы с Сережей Залыгиным через час. Заходим в пивную, видим – Миша восседает за столом, кругом него народ. Сидят, стоят, хохочут, чокаются с ним кружками.
Мы спросили его:
– Что ты им рассказывал?
– Да всякие байки, анекдоты.
– По-испански?
– Да я ни одного слова, я по-русски.
– А как же они понимали?
– А шут их знает. Смеялись.
Провожали они его, обнимая, словно закадычного друга.
«Мне с детских лет
Был близок Дон Кихот,
Чудесный рыцарь солнечной Ламанчи.
Неумных подвигов пример его зовет
Сражаться с мельницами
Так же, как и раньше».
Есть одно важное педагогическое правило, о котором учителя редко думают: когда учитель выставляет отметку ученику, ученик при этом тоже выставляет отметку учителю – отметку справедливости.
Нина Евгеньевна, в возрасте 75 лет, молодилась, красилась, выглядела, однако, смешно. Однажды приехала на похороны своей давней подруги. На кладбище заблудилась, попала на похороны генерала. Не успев разобраться, положила венок с надписью «От твоей верной подруги». Вдова уставилась на нее и все остальные. Спрашивать, тем более скандалить в торжественной обстановке никто не посмел. Сама почувствовала что-то не то, но постеснялась взять венок обратно.
Наука поднимается со ступеньки на ступеньку, каждая следующая отменяет прошедшие. Она все больше знает, прошлое для нее наивность, заблуждения, ошибки. Естественно самомнение, восторг движения вперед и выше. Поэтому к искусству относятся свысока. Искусство ведь ничего не отменяет, живет прошлым, оно чтит гениев прошлого, они все так же хороши. Годы их не обесценивают.
Все так, все это известно, однако тут является один замечательный физик, академик, с моим другом, тоже замечательным физиком, но еще не академиком, всего лишь доктором, слушают мои рассуждения и одинаково молчат, и одинаково поводят головами, горизонтально, то есть несогласны, потом оба вздыхают, ибо считают, что законы Ньютона как были, так и остались незыблемыми, а многое из того, что появилось позже, ничего особенного не произвело, не объяснило, не устарело, как держал Ньютон на себе механику, так и держит, словом осадили меня.
До чего симпатичны эти «осаже».
ФИЛАТЕЛИСТЫ
Их разговоры:
– Ищу 1929 год, английские, со всеми фунтами, чтобы хорошие края.
– Каталог Скотта есть у вас?
– Скотт недооценивает английские марки.
Один из них, шпион, оказался, таким страстным любителем, что забросил свои шпионские дела.
ИЗ ЖИЗНИ ЗАЛИВА
Ноябрь. Первый снег. Морозно. Залив еще не замерз. Вдоль воды неширокая полоса песка, незаснеженного, чистого, плотного песка, он тянется бордюром, повтором изгиба водного обреза. Верно, песок здесь тяжелый от воды, и снег на нем не держится. Я иду по этому песку, за кромкой облака позади меня тень, впереди солнце. Облако движется неспешно, и я шаги свои соразмеряю с ним. Пустынно. Тихо. Залив не похож на летний, мелкий, теплый, тот несерьезный залив который примелькался и который считаем всегда за лужу. И на зимний, заснеженный, замерзший, покрытый льдом, тоже, конечно, непохож, потому что зимой тоже знаешь, помнишь его мелководье. Сейчас он спокойный, похожий на северное море, какое-нибудь Охотское, Белое. Камни заледенели. Вода блестит тяжело, хмуро, еле шевелится. Солнце блестит на воде тускло. Весь залив стал выпуклым, тугим. Вчерашний шторм повыкидывал на берег склянки, деревянные ящики, покрышки, много обуви – летние тапочки, резиновые сапоги, какие-то подошвы, сандалеты. Валяются цветные иностранные коробки, из Финляндии их, что ли, принесло, а может, с пароходов. Консервные банки, доски, уже обточенные волной, куски кирпича, веревки, ложка, полиэтиленовая накидка, чего только нет тут. До меня ходили здесь птицы. Чайки, наверное, или кулики. Лапные следы их обрываются внезапно, а то убегают в море. И там же, по-птичьи, появляется вдруг женский след каблучков. След свежий. Откуда она здесь, как попала, как прошла на каблучках по снежной целине? Я иду по ее следам, видно, как она остановилась, потопталась у зеленого вала из водорослей. Почему-то он именно здесь выброшен на берег. Ни раньше, ни потом их нет, этих водорослей. Я тоже стою и раздумываю над причудами моря. Потом мы идем дальше, я и она, ее след, через ручеек, мимо заваленной песком лодки, та вся в сосульках, нарядная от льда, похожая на раскрашенную гондолу; мимо заколоченного киоска, мимо каменной гряды, следы на песке очень четкие, ножка у нее маленькая, если оглянуться назад, то покажется, что мы гуляли вместе, может, держались за руки, о чем-то болтали… По этим следам можно было подумать, что я молодой. На заливе, на берегу этом был я молодым… Почти каждый год, летом, зимою, я бывал тут. И всегда я чувствовал себя тут молодым. Наши компании, лодки, костры, пляж, всего уже не упомнишь. Вот недавно Толя Чепуров рассказал мне, как мы сидели с Кочетовым в ресторане, а я начисто забыл и с удивлением слушал его рассказ. Вспомнил сейчас благодаря заливу. Он хранит, наверное, и другие случаи моей жизни.
Экология – милосердие к природе.
В снежных тулупах стоят памятники.
Югославия была страной дружбы народов, как и у нас. Анекдот по этому поводу:
В студенческом общежитии надо ввернуть лампочку. Черногорец становится на македонца, который стоит на сербе.
– Ну что же ты? – кричат ему снизу.
– А чего вы не вертитесь.
ЭЛЬ ГРЕКО
Судя по воспоминаниям русских художников, которые ездили в Испанию, они увлекались там кем угодно, влюблялись в других художников, но почему-то не в Эль Греко, хотя он был выставлен в музее Прадо, картин его было много в Испании, а тем не менее они не обращали на него внимания, не упоминали его. Заметили Эль Греко в 1960-1970-х годах нашего века. Почему ни Коровин, ни Остроумова-Лебедева, ни другие, бывавшие в Испании, ни разу не сообщали про Эль Греко, ни разу нигде не упомянули. Странно. Смотрели его картины и не видели его. А между тем, если ответить на этот вопрос, то можно получить важнейший ключ к пониманию и времени, и нравов, и вкусов. И прошлого, и нынешнего веков. Почему одна эпоха «видит» этого художника, другая же начинает «видеть» другого? Вдруг прежде пустынные залы, где висел Эль Греко в музее Прадо, становятся оживленными, а там, где висит Веласкес, там малолюдно.
«Люди, я люблю вас, не будьте бдительны», – говорили в семидесятые годы.
– Как живешь?
– Не знаю, – очень серьезно ответил он.
Во времена Наполеона была фраза «Лживый, как рапорт».
Беспрепятственная любовь долго не держится.
ШОСТАКОВИЧ
После проработки 1948 года Дмитрия Дмитриевича вызвал Молотов и предложил поехать в Соединенные Штаты в составе делегации: Фадеев, Несмеянов и Дмитрий Дмитриевич. Дмитрий Дмитриевич замялся, сослался на здоровье. Молотов был вежлив, но настаивал. Потом Шостаковичу позвонил Сталин и спросил, почему не исполняют его вещей, почему не издают, безобразие. И сказал, что надо ехать. На следующий день приносит фельдъегерь постановление секретариата об издании и исполнении произведений Дмитрия Дмитриевича. Шостакович поехал в Соединенные Штаты. Устроили ему демонстрацию у отеля с плакатами «Да здравствует Шостакович!». Из этого отеля наши срочно увезли его в другой, за сто километров от Нью-Йорка. Поездка прошла триумфально, но после поездки ничего не изменилось: как не исполняли, так и не исполняли, несмотря на бумагу с решением, и не издавали.
Был Дмитрий Дмитриевич скромен и аристократичен. Подарил он Гликману, своему другу, часы, привез из Америки и не сказал, какие они дорогие, не сказал даже, что золотые. А эти часы были ручной работы. Через много лет, когда Гликман принес их часовщику, тот ахнул, увидев их.
Человек простой и полезный, как пуговица.
Григорий Борисович Марьямов, оргсекретарь Союза кинематографистов СССР, рассказывал мне в 1981 году, что он присутствовал при аресте Бабеля, было это на даче Бабеля под Москвой. Дача маленькая, они приехали туда вдвоем с режиссером Марком Донским, Бабель писал в это время сценарий для фильма по Горькому «В людях». Дача была окружена, их заставили пройти в боковую комнату. «Сидите здесь», – сказали; долго шел обыск, в простыни сваливали книги и рукописи. Потом, это они видели в окно, вывели Бабеля, посадили в машину, им же сказали: «Сидите здесь еще тридцать минут, потом можете уезжать».
Еще он рассказал, как на пересыльной тюрьме Остап Вишня встретил Бабеля, и они вдвоем провели ночь. Бабеля везли в Москву, требовали от него признание, он не соглашался.
Жить, считал он, оставалось немного, и не стоило марать своего имени. Попутно он рассказал милую историю с рецептом кофе. Гронский, известный в те времена издатель, предложил Бабелю поехать в Париж, но денег было лишь до Вены. «Приедешь в Вену, – уговаривал Гронский, – оттуда дай телеграмму, я с ней пойду к начальству и выпрошу денег для Парижа». Однако на первую телеграмму Гронский не ответил, деньги таяли, Бабель съехал с шикарного венского отеля в скромный, затем снял комнатку у хозяйки кофейни. Денег все не присылали, он на последние отбил отчаянную телеграмму. Хозяин кофейни полюбил Бабеля и содержал его в долг. Наконец деньги пришли, Бабель пришел прощаться, хозяин сказал: «Исаак, я хочу Вам сделать подарок, я научу Вас варить кофе по своему рецепту, только дайте слово, что никому никогда его не откроете». В Москве Бабель, принимая гостей, варил кофе по венскому рецепту, надевал передник, всех выгонял из кухни, закрывал ее на крючок и вскоре выходил оттуда, неся на подносе чашки кофе.
Какой вопрос мы чаще всего задаем знакомым? «Что нового?» Мы сами не знаем, что мы хотим услышать. Скорее всего, ерунду – кого назначили, кого сняли, кто развелся… Во всяком случае, лишь бы что-то происходило с другими. Говоря откровенно, радостные новости привлекают нас куда меньше, чем вести о наводнении, пожаре. Помню, как расспрашивали меня в Москве, что за наводнение у нас было, что затопило, и замечал разочарование, когда говорил, что вода поднялась совсем немного.
– Вы рождены Мессалиной, а живете, как Мадонна, – сказал ей доктор. – Это вредно.
ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ПИСЬМА
«Верноподданность, если б вы знали, что это такое. Монархия, особенно абсолютная, – гнусность. Верноподданничество требует отказа от своей личности, своих мыслей, я слушаюсь без колебаний и раздумий – это добродетель. Своих идеалов нет, в себя не веришь. Трусость – это не позор, а принцип поведения. Умен ты или глуп – не видно, потому что ты покорен. В конце концов, подчинен и уверен, что это законно».
Достоевский был послан ординарцем к великому князю Михаилу Павловичу, брату Николая I. Как-то, думая о своем, он забыл отрапортоваться по форме. «Посылают же таких дураков», – сказал великий князь. Года через три, то есть в 1844 году, после производства в подпоручики и зачисления на службу в Инженерный департамент, чертеж его попал на глаза императору… Николай посмотрел и якобы надписал на чертеже: «Какой идиот это чертил!». Царские слова по обычаю покрыли лаком, чтобы сохранить для будущих поколений. Однако, когда Достоевский стал знаменитым, – изъяли.
В России в прежние времена речи не становились статьями. Речь была речью. Это в той России, в нынешней он читает свою речь, а она – заготовленная статья. Добро не должно пропадать. Все надо публиковать. Слушаем доклад, а уже в журнале набирают его как статью. А вот В. Ключевский произносит речь памяти И. Болтина на столетнем юбилее историка и нигде не печатает ее. Речи памяти А. Пушкина, памяти Ф. Буслаева – замечательные, исполненные глубоких мыслей, – не публиковались. Ключевскому и в голову не приходило, он же готовил их, во-первых, по законам устного жанра, во-вторых, он обращался к слушателям, объявляя, что говорит для них, и соблюдал обещание.
Насчет участия Горбачева в путче (ГКЧП ) можно сказать лишь одно: когда грешит топор, грешит и топорище.
На съезде народных депутатов, когда Горбачев предложил вице-президентом Янаева, съезд дружно проголосовал против. Янаев сам себя разоблачил, рассказывая о себе. Никогда еще я не слыхал, чтобы человек показал себя аудитории настолько глупым. Его спросили о здоровье, он захохотал, подмигнул съезду, сказал «жена не жалуется», и все в таком пошло-хамском духе.
В перерыве меня делегировали к Горбачеву. Мы никак не могли понять, почему он так упорствует, требует вновь переголосовать кандидатуру Янаева?
Мы присели с ним в стороне на диванчик, я напрямую сказал ему, что Янаев жлоб, глуп, ни в коем случае его нельзя делать вице-президентом.
Напутствуя меня, Лихачев и Адамович советовали не стесняться в выражениях, с меня, писателя, какой может быть спрос.
Горбачев спросил, есть ли у меня факты? Фактов не было, было совершенно определенное чувство, чувство единое, сотен депутатов. Михаил Сергеевич отвергающе помотал головой, мягкая приветливая уверенность не покидала его. На чем основывалась она, я до сих пор не могу понять. События ГКЧП подтвердили ничтожность Янаева. Вообще события показали, насколько Горбачев не чувствовал людей, которых он подбирал себе, большая часть их предавала его. В этом отношении он не сравним с Ельциным. У того были не знания, а чутье, и он редко ошибался.
Знать человека? Что это означает – знать его заверения, его анкету, компромат на него? Есть другое знание – аура-знание. Откуда оно берется? Понятия не имею. Вы приходите в незнакомую компанию, и к кому-то тянется душа, кто-то симпатичен, кто-то нет. У каждого свой выбор. Но этот ваш инстинкт дан природой. Чтобы пользоваться. Никакие знания не заменяют это таинственное ощущение поля – «свой», «чужой».
Храпченко, глава отделения Академии наук, называлось оно, кажется, «филологическое», предложил вместо умершего М. Шолохова избрать в Академию руководителя Союза писателей Г. Маркова, был такой начальник-писатель, любимец Брежнева и, соответственно, увенчанный наградами. Лихачев заявил, что будет выступать против. Академия, особенно на выборах, была строптивой, и тогда Храпченко объявил, что голосовать будут на совместном заседании с философами. Те проголосуют, как прикажут.
Петру Великому приписывают такое высказывание: «Привычка менять все время наряды, платья в конце концов превращает придворных в вешалки, висящие в платяном шкафу».
НАШИ ЖУРНАЛИСТЫ
Разговор по радио с ветеранами, блокадниками:
– Вы же были молоденькой девушкой. Какое впечатление на вас произвели бомбежки?
– Конечно, пугалась.
– Потом привыкли?
– Потом легче стало.
– А когда голод наступил, к голоду привыкнуть трудно?
– Да как к голоду привыкать, кушать хочется.
– А тут еще бомбежка. Что хуже? О голоде забудешь?
– Да, забывали.
– А после отбоя опять голод возвращается?
– Возвращается, конечно, куда он денется.
В таком духе разговор идет долго.
Приходит ко мне журналистка.
– Даниил Александрович, расскажите, что вы думаете о проблемах нашего города.
– Что вы имеете в виду?
– Все, что считаете нужным.
– Но у вас есть, наверное, вопросы конкретные.
– Вы рассказывайте все подряд, я потом вставлю конкретные вопросы, и получится интервью.
—
Видимый нами мир прекрасен. В нем встает солнце и заходит, тогда появляется луна, звезды украшают ночное небо. Мир всегда был и всегда будет, сотворенный кем-то. Все оправданно и нужно, и не может быть иначе, как в этой красоте. Зачем мне знать, что Земля круглая, да еще приплюснутая, что солнце не восходит, что в самом деле все не так устроено, как я вижу, что этот чистый воздух полон радиоволн, несущих какую-то информацию и всякую чушь.
Целостность реального мира отбирают у меня, лишают радости чувствования, убеждают, что все, что вы видите, на самом деле не совсем то, не так просто.
США
Камнями, которыми мы забрасывали гениев, они строят новые дороги.
Лас-Вегас: Греп, который провел всю жизнь за рулеткой, считал, что первое удовольствие в мире – выигрывать, второе – проигрывать.
Галерея в Лос-Анджелесе, выставка современной живописи:
Кушетка истлела, на ней – останки человека.
Корни дерева охватили гроб.
«Вторжения в США не может быть, потому что нет места для стоянок».
У нас продажа Аляски – глупость, которую совершила Россия. В США покупка Аляски – глупость, которую совершила Америка; купили ее лишь в благодарность за помощь русского флота в Гражданскую войну. Сьюрд, госсекретарь, дал обязательство, его все ругали, долго еще Аляску называли «глупостью Сьюрда».
ВАНГА
Жена одного деятеля прикидывала, с кем ей надо встретиться, кого пригласить, кому что сказать для того, чтобы муж получил орден. С этими вопросами она пробилась к Ванге, знаменитой болгарской ясновидящей. Примечательно, что та даже не дослушала ее и выгнала, сразу поняла, о чем речь, это был позор на всю Болгарию. Ее боялись, хотели узнать, но боялись, что она узнает то, что они не говорят и скрывают. Феномен Ванги ученые боялись исследовать. Одному из них, скептику, который допрашивал ее, она вдруг сказала: «У тебя рак, ты через несколько месяцев умрешь». Так и было.
Искали мальчика, пропал. Она сказала, что утонул, и сказала, где. Там и нашли труп. А другой семье сказала, что мальчик вернется. И действительно вернулся. Отец хотел ее богато отблагодарить, она отказалась. Единственные подарки, которые она принимала, были куклы. У нее не было детства, она ослепла в 11 лет, ослепла от удара молнии. Узнала сама про свой дар. И другие дети, ее друзья, узнали, потому что она говорила: «Иди домой, тебя мама ищет», «Козел ваш забрел в чужой огород». Никогда не принимала развратников. Вдруг говорила: «А ты, убийца, задавил на дороге тогда-то человека». Вдруг говорила: «Тебе достал лекарство Камен Калчев. Как его здоровье? Он ведь болел». Каждый раз сомневались, не случайность ли ее знания, не подсказал ли ей кто. Но вот одна болгарка поделилась со мной, что Ванга сказала ей, что она родилась, обвитая пуповиной. Никто кроме матери этого не знал.
Нам рассказали, что когда люди узнали про ее способности, весть о странном даре обошла Болгарию, а потом вышла за пределы страны. Способности ее непрерывно подтверждались и выглядели чудесами.
Леонид Леонов, писатель наш, который посетил ее до нас, рассказывал, как во время разговора с ним она вдруг спросила: «А почему ты не посещаешь могилу своей сестры?» Леонов удивился, никакой сестры у него не было, но Ванга настаивала, и, уже уехав, он вдруг вспомнил, что в самом раннем детстве действительно была сестренка, которая умерла маленькой, он начисто забыл про нее.
Сам я побывал у Ванги будучи в Болгарии. Поехал я к ней вместе с заместителем главного редактора «Литературной газеты» Изюмовым. Его тогда волновал вопрос, куда пропал сотрудник газеты Олег Битов, уехал за границу и пропал. Шуму стояло по этому поводу… У нас ведь как, без вести пропавший – это всегда подозрительно, не о несчастье думают в первую очередь, а о том, что или к врагам перешел, или похитили, или что-то в этом роде. Так вот, он надумал по сему поводу обратиться к Ванге. А мы жили тогда в Доме журналистов. Я сказал: «Юрий Петрович, я хочу с вами поехать». И мы отправились. Жила она в какой-то дальней деревне, где и говорили-то на немыслимом болгарском диалекте, так что надо было брать с собой переводчика. Изюмов все это организовал, поскольку визиту он придавал государственный характер. Добрались к вечеру. Принимали нас без очереди. Не знаю размеров очереди, но записывались к ней загодя, и вообще, насколько я понял, доступ к ней был через какое-то казенное ведомство, которое то ли регулировало, то ли фильтровало.
Итак, нас провели в дом Ванги, посадили в плохо освещенной комнате, меня в дальнем углу. Ванга вошла, уселась за стол. Это была уже старая женщина, слепая, двигалась она уверенно, но все-таки осторожно, была при ней спутница. Обе одеты по-крестьянски, в той незаметной одежде, про которую никогда не вспомнишь, какая она. Изюмов сидел за этим столом сбоку нее и сразу же начал ее выспрашивать про своего пропавшего сотрудника. Она отвечала не очень охотно, переводчик переводил, сказала, что этот Битов найдется, что он живой. Вернется, не беспокойтесь. Изюмов, очевидно, хотел подробностей, не захватила ли его какая-то организация, какая могла быть это организация, но ничего он от Ванги не мог добиться. Все его чисто следовательские вопросы она отклоняла: «Жив. Вернется. Когда? Да вскоре». Чего-то он еще спрашивал, чего-то она еще отвечала без особого интереса и вдруг повернулась в мою сторону и спрашивает: «А ты чего там пишешь?» А я действительно тихонько записывал, поскольку некоторую волшебность происходящего скорее не ощущал, а понимал головой. Меня удивляло, что Ванга отвечала ему как-то буднично, не было никакого колдовства, не прислушивалась, не производила пасов руками, а впечатление было такое, как будто она этого Битова ну встретила недавно в деревне, как будто он сказал ей: «Да-да, скоро вернусь…», то есть была у нее уверенность человека, для которого все это настолько очевидно, что не представляет интереса.








