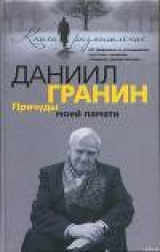
Текст книги "Причуды моей памяти"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
У Вас, наверное, кроме того, что вошло в «Блокадную книгу», еще много записей о человеческих судьбах блокадников. Мы с сестрой очень хотим, чтобы и о ней хоть что-то сохранилось не только в нашей памяти.
Если Вам не трудно, прочтите, пожалуйста, то, что я Вам напишу, а дальше уж Ваша воля – оставить ли это в Вашем архиве.
Конечно, надо представиться. Я – Галина Иосифовна Мах, 1923 года рождения, выросла и в 1941 году окончила школу в Ленинграде, всю блокаду пережила, работала санитаркой, потом медсестрой в госпиталях. После войны окончила Пединститут им. Герцена (филфак). Уже много лет живу на Украине, но все мое – в Ленинграде. И там же живет моя сестра. Я уже давно на пенсии. Это – если коротко – все.
По моей и моей сестры судьбе прошли все жернова нашей чудовищной эпохи. Ничего, кажется, не миновало. Теперь это все очень трудно осмыслить, вернее, трудно признаться себе, что, в сущности, жизнь прожита зря. А может, нет? И так тяжело!
Кажется, что рухнули все остатки надежд; и не только для нас, но и для наших детей и внуков. Простите за это отступление.
Теперь я буду писать о том, ради чего и решилась написать Вам.
Мои родители были если не фанатичными, то, во всяком случае, убежденными большевиками. А люди – очень хорошие. Уж как так сложилось – кто его знает! Одна история рассудит. Об этом пишет и Булат Окуджава в своей последней статье в «Известиях» о своих родителях.
Из нищей одесской еврейской семьи – мама, пережившая четыре погрома, а потом, можно сказать, сама себя из грязи и нищеты вытащившая.
Из чешской (с Волыни) крестьянской семьи, где было 10 детей и хлеба едва хватало до рождества, – отец.
Ясно, что они революцию с ее лозунгами приняли. Отец в Гражданской войне участвовал. А потом они стали «партийными работниками». И я их в этом не виню, не имею права. Это их беда и беда миллионов людей.
После всех переездов с места на место (почему-то таких людей все время тасовали, как карты в колоде) отца после 16-го партсъезда, на котором он был делегатом, с Дальнего Востока неревели в 1931 году в Москву – директором Дорогомиловского завода. А образования было 3 класса сельской школы.
Но он был такой – самородок, невероятно талантливый, начитанный, толковый. В истории – в любой эпохе как дома! Просто удивительно, когда успел! Но к технике это отношения, понятно, не имело, а иногда такая должность называлась «красный директор».
А мама была инструктором горкома. Я понимаю, что она могла быть прекрасной учительницей, библиотекарем, журналисткой, да мало ли кем! А вот поди ж ты!
Я все понимаю, и я их люблю, и память о них люблю, и бесконечно их жалею! Лично они (я это знаю точно) никому зла не сделали, никого не предали, а вот на эту сволочную систему работали!
И вот в Москве появилась у нас в семье домработница – Пелагея Константиновна Щербакова, наша Поля. Она сразу стала членом семьи, всеобщей любимицей. Она была родом из деревни Орешково Воротынского уезда Калужской губернии? (так она говорила). Родилась в крестьянской семье в 1904 году. Образование – почти как у нашего отца: 2 или 3 класса сельской школы. Отец потом говорил, что если б Полю учить – из нее великий бы человек получился (по ее способностям).
Тогда (в 1931 г.) как раз шла коллективизация, и родители отправили ее в город, в Москву, желая спасти, благо как раз случай представился: друг отца поехал в гости в свою деревню Орешково и, по просьбе моих родителей, привез ее к нам.
Стали мы вместе жить. Поля вела хозяйство. Я тогда училась в первом классе, а сестра еще ходила в детский сад.
В 1932 году отца перевели в Ленинград. Он стал директором завода абразивного станкостроения, а мама опять же инструктором (ну и должность же!) горкома, в Смольном работала. Жили мы у Мальцевского рынка – на улице Красной Связи, д. 17/5, кв. 82, ходили с сестрой в школу, что на углу 9-й Советской и Суворовского проспекта (школа 156-ая Смольнинского района). Школа была, надо сказать,– чудесная! Учителя! Ну, действительно, ни одного плохого не было! Это мне повезло. А класс! Какие хорошие, толковые ребята! И сколько мальчиков потом погибло!
Даниил Александрович! Вы меня простите за подробности и отступления. Такая потребность выговориться. Я переписываю это в мае, а начала писать в марте. И на фоне этих страшных теперешних событий, этой каши, бессмыслицы и, для меня, отсутствия света в конце туннеля – единственный способ сохранить живую душу.
Я понимаю, что Вам и без меня хватает трудностей, но… Простите!
Я ни на что не претендую, ни на какое напечатание, ни на что! Только бы это где-нибудь сохранилось. Может, когда и понадобится кому-нибудь.
Мама работала в Смольном, хорошо знала Кирова еще по работе в Баку, дружила потом с его женой и была невольной свидетельницей его смерти: вылетела вместе с другими инструкторами в коридор, услышав выстрел, и видела, как он умер. А за пять минут до этого эти женщины-инструкторы говорили с ним на лестнице, по которой он поднимался, идя в свой кабинет.
Естественно, что летом 1938 года их арестовали. Мурыжили долго. Отец сидел в «Крестах», в одной камере с Рокоссовским (в камере 213). Рокоссовский был у них «старостой».
Из отца выбивали, что он друг врагов народа (Блюхера, например), что он – английский шпион и проч. Об этом я знаю из его письма Сталину, которое он умудрился передать на волю, а я возила в Москву. Ничего не выбили. Осталось только, что он «социально опасный элемент», т. к. чех по национальности.
Мама сидела на Шпалерке в одиночке, и ей тоже приписали «соц. оп. элемент»: «антисоветское поведение в связи с арестом мужа». Если б что-то выбили, то они получили бы «10 лет без права переписки», т. е. расстрел. А так – 5 лет лагерей. Мама отбывала в Долинке в Карлаге, а отец – в Вятлаге (Соцгородок Кайского района).
А мы остались с Полей. Две комнаты опечатали, потом их заселили, а нам оставили две маленькие. В детприемник не взяли. Мне было 15 лет, Зоре – 12. Поля оформила над нами опекунство, т. е. фактически удочерила!
Когда я читала «Жизнь и судьбу» В. Гроссмана, то прочитала у него, что многие родственники и друзья арестованных людей переставали звонить оставшимся родным, отворачивались на улице при встрече – боялись. А простые женщины – соседки, домработницы, няньки – не боялись ничего. Носили в тюрьму передачки, опекали детей, писали в лагерь письма, слали посылки.
Вот наша Поля была такая. Она на нас работала, она нас обшивала, она стояла в очередях, чтобы купить нам что-то из одежды. Я помню, как она несколько ночей подряд стояла в очереди, чтобы купить мне туфли. Она ездила с нами на Острова гулять, чтобы мы на воздухе были. Она следила, как мы делаем уроки, сердилась, если меньше часа сидели за роялем, (учились музыке во Дворце пионеров, а она дала маме слово, что музыку не бросим).
Она готовила еду, все покупала, стирала на нас. Господи! Что мы ей были? Чужие дети!
К зиме 1938 года из Баку приехали две дальние мамины родственницы, стали распределять, куда деть вещи: рояль, комод, мамины платья. Вообще-то кроме маленького рояля, доставшегося по случаю при обмене квартиры, ни единой ценной вещи не было. У мамы никогда в жизни не было ни одной золотой вещи. Единственное крепдешиновое платье она ни разу не успела надеть. Было, правда, по тем временам, много книг – два стеллажа. Отец собирал. Читали они много, не знаю, когда и успевали.
Поля теткам сказала: «Как что тут стояло, так и будет стоять. Я дала Бакинской слово, что все будет, как при ней». Поля почему-то не могла выговорить Эстер Моисеевна, а называла маму – «товарищ Бакинская», с какой-то певучей особенной интонацией, я просто и сейчас слышу. Сестра слышала, как одна из теток сказала: «Поленька, их все равно расстреляют, так лучше детей сразу в детдом отдать!» На что Поленька ответила: «Я дала слово, что детей не покину, пока жива».
Еще нам тогда сказала: «Девки, пока они тут, вы побольше масла на хлеб мажьте, а как уедут, – мы подожмемся!» Тетки уехали, мы поджались. Выросли на тогда пролетарской треске, оладушках, которые она ставила на стол полную миску, приговаривая: «Ну, девки, больше не на что надеяться!» Еще была селедка «залом» – с картошкой. Не голодали, но чего это стоило Поле – она одна знала.
Помогала нам мамина сестра из Баку и папина подруга детства – тетя Франя Глузская (мать артиста Мих. Андр. Глузского), но они и сами мало имели.
Маме, пока она сидела на Шпалерке (в одиночке!), Поля регулярно передавала 30 р. в месяц (столько разрешали). Так мама знала, что мы живы. Отца долго не удавалось отыскать: нигде не значился. Я тогда в свои 15 лет знала все ленинградские тюрьмы. А сколько высидела в справочную в очередях в Большом доме! Как Софья Петровна из повести Л. К. Чуковской. И все отвечали: «Нету, неизвестно, где он». Мы таскались по этим очередям с подружкой, которая тоже искала отца, и больше всего боялись, что в ответной бумажке будет написано: «Расстрелян».
Потом пришел как-то к нам во двор и вызвал меня через соседей один дядечка, которого выпустили из тюрьмы, и спросил, почему мы не передаем папе передачки. Вот тогда мы узнали, где он. И стали передавать ему тоже 30 рублей. Очень это важно было. А то он не знал, есть ли мы, где мы. Он же не знал точно, что мама тоже арестована, только предполагал, и не мог понять, почему ему ничего не передают.
В 1988 году в газете «Вечерний Ленинград» (14/XI) один папин сокамерник, Я. Г. Энгардт из Колпино, назвал его фамилию. Сестра с ним созвонилась, и он рассказал ей, как мучили отца на допросах, как вталкивали его, окровавленного, после допросов в камеру, как с него полосами слезала кожа!
Когда его отправляли по этапу в лагерь, на свидание в пересылку ходила я одна. Господи! Какой это был ужас – увидеть любимого отца в таком виде! Но главное – я не заплакала. Перед этим мне наша двоюродная сестра сказала: «Грош тебе цена в большой базарный день, если ты заплачешь!» И я не заплакала. А потом мы получили уже с дороги его письмо, где он написал: «Если бы ты заплакала, я покончил бы с собой». Он был могучий человек, большой и сильный. Амур переплывал в самом широком месте. А тут – жалкий маленький старик с растерянным лицом. А было ему тогда аж 45 лет!
А к маме на свидание ходили мы втроем: Поля и мы с Зорей. Почему-то разрешили в отдельной комнате (при конвоире). Мы принесли мандаринки и что-то еще. А ей захотелось что-то нам дать, и она попросила из этих же мандаринок дать нам по одной хотя бы, а потом (я до смерти не забуду этого!) попросила: «Разрешите мне детям ручки поцеловать!» Боже ты мой, Боже! Это абсолютно ни в чем не виноватая, красивая, молодая женщина – ей тогда было 40 лет! За что?!
И стали мы им писать уже в лагеря! И Поля посылала посылки, и сохранились наши фотографии, которые мы посылали в лагерь маме. В начале 1941 года Поля хотела взять к нам своего племянника из Калуги. Ее брат работал там на железной дороге и очень бедствовал. Так она у меня спросила, не буду ли я возражать! Я помню, как у меня вырвалось: «Поля! Это же твой родной племянник, зачем ты меня спрашиваешь? Какое право я имею сказать нет, если ты ради нас живешь и работаешь!».
Но племянник приехать не успел – началась война. Я тогда закончила 10-й класс.
В начале июля стали отправлять младших детей в эвакуацию. Поля не хотела, чтобы Зоря уехала. Она же дала маме слово, что мы не разлучимся. И потом – она так любила Зорю, как не всякая мать любит своего ребенка, она ее обожала. Не хотела отпускать. Но учителя настояли. Я помню, как учитель математики Александр Георгиевич Румянцев сказал мне: «Иди и скажи Поле, чтобы собирала Зорю в дорогу. Война эта надолго, а если Ленинград окружат, вы погибнете все вместе». Как видел! И он-то, бедный, погиб в свои 32 года на Балтике в первую же зиму войны. А был тогда уже доцентом Политеха, а у нас – учителем, любимым.
Мы остались с Полей. Я помню, как отправляли детей с Московского вокзала. Вся площадь была полна крошечными детьми – детсадовского возраста, по 4-5 лет и даже меньше: панамочки, трусики, сандалики и – рюкзачки за спинками. Матери рыдали, кричали, дети плакали! Жара была!
Мы, выпускники, помогали организовать этот отъезд младших школьников (по 7-й включительно) и учителей, уезжавших с ними. Провожали до самого отъезда товарняков от платформ.
И вот товарняк тронулся. Зоря что-то закричала нам. Все. Мы с Полей пошли домой. Поля горько плакала. Очень она без нее страдала.
С этого начались Зорины эвакуационные страдания: Ярославская область, потом – Сибирь, потом – к папе в лагерь! Но это уже совсем другая история.
Поля в последние перед войной годы работала в булочной. А я в июле подала документы на филфак Университета на отделение славистики (школу окончила с отличием), но учиться не пришлось. В августе отправили на рытье окопов где-то под Новгородом (от университета). А в сентябре я уже работала санитаркой в госпитале на 8-й Советской, около электростанции, которую часто бомбили, отчего в госпитале спокойней не было. Сжималась блокада. А дальше – как у всех. Вы же это все пережили и помните.
Почему-то луна светила, и город лежал под немецкими самолетами ясной мишенью. Все голоднее и голоднее. Все страшнее и страшнее. Замерзла вода в трубах. Канализация не работала. А Поля уже ходила за Невскую заставу пешком. Жили мы все, соседки, на кухне. Мы с Полей спали вдвоем на Зориной кроватке или на плите. Топили книгами, сожгли в плите верблюжье одеяло, стулья жгли. А на стенах все равно был иней.
В январе или феврале Поля из магазина того ушла: не было сил ходить, очень уж далеко.
В 1967 году я попыталась кое-что записать. А вообще я не любила это вспоминать, слишком страшно. О блокаде старалась не читать книг, поэм, не смотреть пьес в театре, кинолент.
А в 67-м году кое-что записала. И, конечно, там о Поле было, но получилось о блокаде вообще. Тогда мне шел 45-й год, а теперь уже 70! Описывать сейчас все прожитое я не могу – это невозможно, но и обойтись без этого нельзя. Я помню, как первый раз увидела завернутый в одеяло труп на санках, который провозили по двору, как я кричала и плакала дома и как Поля меня успокаивала и обнимала, а сама, по-моему, заледенела от ужаса. Потом мы привыкли к этим саночкам, к их страшным сверткам, к мертвым людям на тротуарах, в подворотнях. У цирка, у моста Белинского, я видела раз женщину с лицом, съеденным крысами. Тогда я тоже орала от ужаса! А сколько трупов пришлось потом выносить из палат и складывать штабелями!
В городе съели всех собак и кошек. А у нас был рыжий кот, по прозванию Иосуке Мацуока. Так он умер сам, бедный, от голода.
Только блокадники знают, что такое хряпа, шрот, дуранда. Голод – это такое стыдное чувство, его не поймет тот, кто не пережил. Это не просто проголодался и хочется есть, а это дикая потребность жевать что-то зубами, что-то твердое, ощутимое, чтобы дольше жевать, чтобы никто не видел, чтобы что-то было во рту, потому что ни думать, ни соображать иначе ничего нельзя. И мы с Полей, сидя на плите, жевали резину, свечку, ремень, кусок столярного клея. Хлеб, который получали по карточкам, Поля ухитрялась делить так, чтобы мне больше доставалось. Пока она работала, она говорила, что уже поела на работе, а мне совала по кусочку от своего кусочка и плакала, что я так худела. Когда уже в 43-м году я ходила в тот магазин далекий получать какую-то справку о ней (я уже не помню, зачем), то заведующая расплакалась и сказала: «Она же была святая! Она же крошки себе не оставляла!»
В Бога она действительно верила, тайком от нас молилась (детки-то были коммунистические), крестик нательный носила всегда. Между прочим, отец наш очень уважал ее веру в Бога, а нас ругал, когда мы по глупости над этим потешались.
Сейчас я не могу видеть этих телеспектаклей массового фарисейства, но Полину веру уважаю до сих пор.
Весной 1942 года Поля стала работать на Охте на сломе старых домов на дрова. Очень тяжелая работа для голодного человека. И в такую даль приходилось ходить! Она отекала, так как много пила воды. Вечером кипятила воду с лавровым листом, это как-то напоминало мясной суп. Потом мы просто кипяток пили, а она говорила: «Чайничек на всех и по чайничку на каждого!».
И еще случилась беда. Одна знакомая девочка, наша подружка и дочка друзей родителей наших, встретила меня на улице, пришла к нам в гости, осталась ночевать и… украла у нас карточки. Мы ей сами показали, где они лежат, и похвалились, что вот все вместе живем и ничего ни у кого не пропадает. Она еще стащила ключ от квартиры и днем явилась, когда никого не было дома, и стащила полученные накануне по карточкам 300 г. лапши и еще чего-то из еды у соседок. Это был для нас с Полей конец! Когда это все выяснилось и мы с Полей пошли к ее маме забрать карточки, то ничего уже не было на них, она все талоны проела в столовых что ли. Мы были обречены. Это было 2 мая – и до конца месяца ничего не осталось, ничего! И тут мать моей одноклассницы, которая работала в том же госпитале, где и я (в здании Финансово-экономич. ин-та), сказала мне: «Сдавай остатки своих карточек и поедешь на подсобное хозяйство от госпиталя; да и Поле без тебя легче будет выкрутиться». Так я поехала в Мяглово под Невскую Дубровку – знаменитое место.
Поля осталась одна. А я как-то на крапиве, лебеде и корнях от лопуха выжила. Но цинга была такая, несмотря на крапиву, что стоило наклонить голову, – в ладошке была кровь изо рта, и зубы крошились, и нога плохо разгибалась. Потом, когда подрос турнепс и брюква, то нам иногда немного давали, да еще удавалось немного тайком пару штук добыть, и я раз в неделю топала пешком или, реже, на попутной машине в город. Это км 30 до городской заставы на Охте. Я приходила домой, и если Поля была дома, то такая была радость! Отдавала ей все турнепсины и брюквы. А она мне все, что урывала от себя. Иногда были письма от мамы, папы, от Зори. Я ночевала дома, а наутро трогалась обратно.
Летом Поля могла уехать на Большую землю, но из-за меня не уехала. Каким-то образом людей отправляли. Но вот она осталась! И еще. Зимой 42-го года и летом из Ленинграда выслали людей с нерусской фамилией. Соседке, Елене Савельевне Шедлих, пришлось так уехать. И мне тоже пришла повестка. Но меня в городе не было, а потом так это и сошло. А то ведь выслали в определенное место и под надзор: надо было ходить отмечаться где-нибудь в Джамбуле или Намангане. И обратно уже после войны не разрешали возвращаться. Выслали бы и меня так, и не была бы я теперь «участница ВОВ» (очень это «умилительная» аббревиатура), и не была бы теперь «прикреплена» к магазину в этой Виннице, где я живу. Завидная судьба! Смолоду и до старости быть прикрепленной к магазину, где все равно ничего нет. Но Поля-то, может быть, и спаслась бы!
У нас сохранилась Полина открытка, которую она послала маме, когда я в Мяглове была. И это ее послание говорит о величии ее души – иначе не скажешь.
Она маме писала так, чтоб не пугать ее, чтобы мама думала, что все у нас в порядке. Вот я ее перепишу, сохраняя Полину орфографию. Неграмотная была она, но сколько в ней истинной интеллигентности!
«Добрый день тов. Бакинская (это в лагерь!) это пишет поля. Бакинская, я вчера получила от вас открытку которая послана 8/VII 42 но я тоже пишу вам часто но почему вы их неполучаите низнаю нам тетя Аня из Баку прислала 150 руб но мы в деньгах нужды ниимеем потому что мы с Галяй работаем но как обе работаем то конечно жить легче от Зори писма получаем часто она писма пишет хорошие здорова и сыта а это самое основное. Галя работает в подсобном хозяйстве выращиваит овощи тоже ниплохо но только ей трудно потому что она никогда (непонятное слово) но она пошла охотно на эту работу сама ей хотелось загородом лето провести время ну это ничего опять было бы здоровье. Мы дружим уже давно. Между нами плохого не было ну писать кончаю напишу писмом Досвидания 2/VIII 42 г. Поля». Вот так. Ни о чем плохом: ни о голоде, ни о карточках, ни о том, что Зоря там, в Сибири, лежала в больнице с тяжелой хореей, ни о том, что сама она уже еле ходила!
Осенью я вернулась в город, и опять в госпиталь санитаркой. А Поля говорила: «Девочка, десятилетку кончила, а горшки таскаешь. Учиться надо!» Горшки мне не стыдно было таскать, но в школу медсестер я пошла. Так мы и жили с ней, все худели, уже еле ноги волокли, хоть вроде и пайки увеличили немного. Но дистрофия была такая глубокая, что лучше не становилось. Вообще я знаю, что зимой 41/42-го года умирали сначала мальчики, потом мужчины, а женщины уже позже. Такие необратимые были изменения в организме, что трудно было выйти из дистрофии. И женщины умирали зимой 42/43-го года, да и позже.
Я уже еле ходила к началу 43-го года. Школа медсестер была на Кирочной, недалеко от дома, а я уже с трудом добиралась. Поля почти не вставала. В начале января 43-го года начальник школы медсестер вызвал меня и сказал, что может отправить меня в госпиталь медсестрой (хоть курс был годичный, а я ходила всего 2 месяца), т. к. наши войска вот-вот пойдут на прорыв блокады, и будет много раненых, сестры будут нужны. А если я останусь в школе, то не выживу. Он видел, что я уже плохо хожу, и жалел. И не меня одну. Спросил только, смогу ли я писать рецепты по-латыни. Я сказала, что смогу.
И вот перед самым прорывом блокады отправили нас, группу полудохлых девочек, в эвакогоспиталь № 1015 – на Васильевский остров (раньше и теперь это клиника им. Отта), около Университета. Я все помню: как мы брели туда по всему Невскому, потом от Адмиралтейства – наискось по льду Невы – к Университету, как привели в госпиталь. Как накормили, дали хлеб и сказали, чтоб мы не ели его сразу, а то плохо будет; а мы не удержались и, пока стояли перед кабинетом начальника госпиталя, съели весь хлеб.
Первые несколько дней отпускали домой по вечерам, а с 20/1 перевели на казарменное положение, хотя мы имели «статус» вольнонаемных медсестер (я так думаю, по соображениям экономического характера: из зарплаты вычитывали за питание и обмундирования не надо было давать).
С первого дня я стала оставлять от завтрака, обеда и ужина, что могла, безумно старалась удержаться, чтобы все не съесть, и вечером плелась домой на Некрасовскую со свертком для Поли. Она почти уже не вставала с кровати, не могла ходить. Я садилась около нее, давала ей по кусочку хлеба, мяса или рыбы. Очень это было мало! А она смотрела на меня со слезами на глазах и говорила: «Ты моя кормилица!» Да уж!
26 марта этого – 1993 года – было 50 лет со дня ее смерти. Я свечку на окне зажгла в память о ее святой душе! И позвонила в Питер сестре, и мы ее вдвоем помянули, нашу бедную Полю!
Госпиталь был нейрохирургический, лежали там черепно-мозговые раненые, с контузиями, работа была адская, но как-то о себе не думалось. Об этом тоже можно много написать, но я все стараюсь – о Поле. Это мой долг перед ней. Кто же скажет о ее судьбе? Мы с сестрой уйдем – и никто не вспомнит о ее судьбе блокадной, о ее подвиге человеческом. Родных ее, наверное, давно нет, а если кто и остался, то ничего об этом не знает. Сестра ее родная, Марфуша, жила в Москве. Тоже судьба – типично советская, кошмарная!
Пока жива была наша мама (после «реабилитанса»), она ее навещала, когда приезжала в Москву, и я у нее была несколько раз (Марфуша почти всю жизнь прожила в общежитии), и сестра у нее бывала. Но уже много лет, как она умерла, а с другими ее родными мы связаны не были.
Так вот, когда нас перевели на казарменное положение, домой ходить не разрешили. Дежурили мы через сутки – сутки, каждый раз устраивались поверки. Я плакала, просила – нельзя было и все. А в конце февраля отправили в Пэри на лесозаготовки для госпиталей. Возражать не приходилось – приказ! Я просила хоть два дня, чтобы отвезти Полю в стационар; ей наконец дали такое направление, а отвезти некому было. Но мне не разрешили, сказали, что потом отпустят на несколько дней. И так я поехала.
И больше Полю не видела.
Грузили мы бревна в пульманы, иногда по несколько суток без захода в казарму. Это тоже был какой-то кошмар невероятный. И никуда меня не отпустили.
А 2 апреля из города пришло письмо от соседки, что Поля очень больна (это она меня подготовляла), а на следующий день еще одно, что Поля умерла 26 марта (было ей тогда 39 лет), и что она и нижняя соседка похоронили ее на Охте. Вернее – свезли на санках на Охту, а там уж – в общей могиле наша Поля. У меня тогда все в душе одеревенело. Даже слез не было. Вот тогда меня отпустили на пару дней в город. Уже было поздно.
Вот так окончилась ее святая жизнь. Если я пишу слово «святая», то не из дани нынешней ханжеской моде, а потому, что тут другого слова не подберешь.
Я начала это писать 14 марта, а теперь уже июнь. И за эти месяцы прошли, кажется, тысячи лет: эти мерзкие съезды – спектакли, этот страх, что все рухнет, что может весь этот ужас повториться для моего сына, внука, для внуков моей сестры, для моих любимых учеников и их детей. Это 1 мая с заранее подготовленным побоищем, страх ожидания 9 мая. Очередная издевательская «шоковая терапия» с космическими ценами на Украине.
Какая-то несчастная огромная страна с тысячелетними сволочными экспериментами над живыми людьми. Прошел в России этот референдум, но ничего, по-моему, не решил. Продолжается спектакль двух театров неизвестно ради какой конституции, которую все равно никто соблюдать не будет. И так и будет та же грызня, тот же житейский кошмар, та же гибель природы, то же изгаляние (не знаю другого слова) над людьми. Что в России, что на Украине, которая хоть и самостийно, но идет ей след в след по тому же сценарию!
Я приезжаю в Ленинград (Санкт-Петербургом он в моем понимании так и не стал пока) каждый год, иногда и по два раза. Хожу по родным улицам, иду во двор дома на Красной Связи, 17/5, где мы выросли и откуда Полю на санках везли на Охту. Когда я вижу этот искалеченный, разбитый вдрызг город с выпотрошенными домами (теперь мы живем на Шкиперке, и если ехать 40-м трамваем через всю Петроградскую сторону, то впечатление – потрясающего ужаса, город не был так грязен и искалечен даже во время войны), когда вижу этот сплошной пьяный плебс на улицах, этих несчастных, специфически ленинградских серых, худых старух, то думаю: за что ' же столько людей погибло? За что умерла Поля? За двух девочек, которые ей благодарны до гроба?
Какая-то ж высшая цель ее жизни должна быть? Правда?
Я не могу отнести себя к верующим людям, не верю, что в конце XX века можно думать и понимать жизнь так же, как две тысячи лет назад; а к церкви как таковой отношусь вообще отрицательно, абсолютно не признаю церковников, не верю попам любых рангов.
Но что-то же есть в этом мире, в этом Космосе, если есть вот такие люди, как Поля?! Или как наша бедная мама?
И мне бы хотелось, чтобы Вы узнали о Полиной судьбе из этого так затянувшегося моего послания. Может, Вам понадобится рассказать о таких людях, чтобы кто-то, узнав о них, стал лучше, чище, добрее и поверил бы в какой-то высший смысл жизни.
Спасибо! И простите, что так много времени у Вас заняла.
Я Вам, Даниил Александрович, и Алесю Михайловичу верю безусловно, поэтому и адресуюсь к Вам.
Я писала, что раньше боялась вспоминать и читать о блокаде, хотя, когда ходила по улицам, то смотрела сквозь время и на любом перекрестке видела то, что было тогда. Но Вашу «Блокадную книгу» прочла сразу и всю. И перечитываю.
Желаю Вам здоровья и еще много сил душевных, чтобы все это мутное время пережить, понять и еще объяснить людям, если будет возможно.
С глубоким уважением!
10/VI г. Винница Мах Галина Иосифовна
1993 г.
18/VI-93 г. Ленинград.
Уважаемый Даниил Александрович!
Добавление от себя напишет моя сестра. А я хотела только прибавить к своему посланию, что отец наш умер в 1949 г. в Джамбуле, куда я специально взяла назначение после института, чтобы взять к себе родителей, т. к. им нигде не разрешали жить. Он умер в 55 лет, не дожив до реабилитации. А мама была восстановлена потом во всех правах, и даже квартиру ей вернули после 56-го года.
А главное – она оставила очень интересные даже с современной точки зрения воспоминания о своем одесском детстве, о своей страшной юности – до 1919 года, и – отдельные воспоминания о нашем отце и его жизни. Архив у нас довольно большой. И много документов и очень интересных фотографий. Мама умерла в 1974 г.
Дополнение. Пишет сестра моя – Зоря. Поля, бывало, наряжала меня в белое маркизетовое платьице, все в оборочках, в косах – розовые ленты, и мы шли на ул. Воинова. Мы прогуливались возле Б. дома[1]1
Б. дом – Большой дом (здание КГБ) на Литейном пр.
[Закрыть]. Поля была в полной уверенности, что мама может выглянуть из окна и увидеть меня, здоровой, нарядной. «И как мама обрадуется». Мы знали, что мама в течение года сидела в одиночной камере в Б. доме, но об этом узнали значительно позже, а тогда было просто предположение.
Мы с Полей обожали друг друга, любовь эта стала еще сильнее после потери родителей. Поля была теплой, доброй, всепрощающей, неунывающей. Поля была спасительницей. Я страдала от сознания, что могу ее (как и маму) потерять, что с Полей может что-то плохое случиться. Если Поля работала в вечернюю смену, я выходила на Лиговскую ул. к остановке трамвая, стояла подолгу в подворотне дома № 17 и ждала, когда она, моя родная, выйдет из трамвая, постоянно волновалась. А завидев ее – была счастлива. Обнявшись, мы вместе шли домой, мимо Мальцевского рынка, Прудов… Летом мы с сестрой уже не выезжали ни на дачу, ни в лагерь. Время проводили в городе. Галя устраивалась на временную работу (в эпидемическое бюро города), зарабатывала какие-то гроши.
Меня на воскресенье иногда приглашали к себе на дачу родители моей подруги-одноклассницы. Но стоило мне приехать в Петергоф, как я начинала тосковать по Поле, мне казалось, что дома, без меня уже что-то случилось, и я больше не увижу Полю. Плакала. Как-то пришлось даже отвезти меня в город.
И пришел этот день – 5 июля 1941 года, дети всех школ Смольнинского района шли по Советскому (Суворовскому) проспекту в сопровождении родителей, шли к Московскому вокзалу, чтобы покинуть город. У входа в вокзал мы с Полей простились навсегда.
Чего я ждал столько лет, почему письмо это не попало в «Блокадную книгу»? Да, оно не о блокаде, вернее, не так о блокаде, как о любви. Блокада ленинградская – это большое событие в истории Второй мировой войны, но любовь как человеческое чувство, она может быть выше и значительнее, чем любые события истории, это нечто необъяснимое, то, что дается как талант, как дар божий и даже в тех страшных условиях как счастье.








