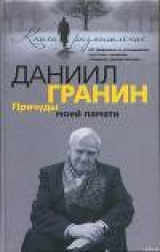
Текст книги "Причуды моей памяти"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
«Дорогой Даниил Александрович! Один Ваш вопрос неотступно преследует меня, и я все думаю: как было и что. Вы спросили об обращении „гражданин” и „товарищ”. Вопрос этот соприкасается с другой важной языковой проблемой, очень сейчас затрудняющей людей. Даже Солоухин писал о ней, предложив, с моей точки зрения, неудовлетворительное решение. Вопрос этот состоит в том – как обращаться к человеку, если не знаешь его имени? Для обращения к женщинам любого возраста этот вопрос сейчас „решен”. К кассирше, продавщице даже 50-летнего возраста обращаются без запинки – „Девушка!” А как было до революции? Не все могу вспомнить, но, что могу, вспомню.
Извозчик торгуется с моим отцом. Отец, если разговор идет хорошо, говорит ему – голубчик. Обращаясь к человеку, явно непочтенному, с его точки зрения, отец говорит ему: Почтенный, как пройти и т. д. Если возникает спор с человеком оборванного вида (не уступает дорогу и пр.), отец говорит: „Почтеннейший, посторонись, видишь…” и пр. Женщине, хорошо одетой, говорит сударыня, молочнице, приносящей нам молоко, говорит голубушка. Сударь никогда не говорится, только в сочетаниях и при размолвке – сударь вы мой! Извозчик, носильщик (последних называли „артельщиками”), обращаясь к людям, по-европейски одетым, говорили всегда барин. „Барин, накинь гривенничек”. Знакомому барину дворник его дома говорил ваше благородие. Звоня на телефонную станцию, все говорили: „барышня, соедините меня с номером таким-то” (возраст барышни и ее семейное положение только предполагались – замужняя и пожилая телефонисткой работать не станет). Обращения ваше превосходительство, ваше высокоблагородие, ваше священство, ваше преосвященство, ваше сиятельство и прочее говорились только в служебной обстановке или тогда, когда чин, к кому обращались, был точно известен. За картами, однако, полковник приятелю-генералу мог сказать: „Ну, ваше превосходительство, твой ход”.
Друзья в присутствии посторонних (офицеры при солдатах) могли говорить друг другу „ты”, но никогда не называли сокращенным именем: „Ты, Иван Иваныч, ошибаешься”, никогда не называли своего друга при подчиненных „Ваня”, „Коля”, „Николай” и т. д. Манера называть по имени и отчеству друзей, с которыми „на ты”, была даже наедине у военных.
На конвертах – даже детям (сохранилась открытка отца из Одессы мне – шестилетнему) – перед именем и отчеством сверху писалось – Е. В., т. е. Его высокоблагородию, и далее – Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. И это не было шуткой: так полагалось писать на конверте.
Официанты в хороших ресторанах называли друг друга коллега (но никогда – в трактирах, даже почтенных, не говорили „коллега” друг другу половые). Студенты говорили друг другу „коллега” и так же обращались к студентам преподаватели. После революции до 1926-1928 годов обращение друг к другу студентов „коллега” и старших профессоров к студентам „коллега” означало известный консерватизм и неприятие новых порядков.
Теперь о словах „товарищ” и „гражданин”. До революции слово „товарищ” не в качестве обращения было в большом ходу – товарищи по школе, по университету; существовали товарищества и были „товарищи министра”, но значение „знамени” своей прогрессивности специфическое обращение „товарищ” на улицах, в трамваях, в учреждениях, в воззваниях и указах приобрело после 1917 года. В разных устах оно имело различное эмоциональное наполнение. „Товарищами” называли матросов-революционеров. В устах „недобитых буржуев” оно было равносильно „клешники!”. „Гражданин” означало в целом „купца” и в обращениях не употреблялось. „Гражданин Минин и князь Пожарский”.
Мой дед по отцу был „потомственный почетный гражданин” (член городской Ремесленной управы), и могли бы по деду так называться мой отец и я сам, но отец, получив первый чиновничий чин, стал „личным дворянином”, что по наследству не передавалось (в этом смысл слова „личный” означало „не наследственный”). Но быть „личным дворянином” было более почтенным, чем быть „потомственным и почетным гражданином”. „Гражданин” в значении пафосно-революционном, как обозначение „свободного и равноправного члена общества” у нас не привилось. Характер официального обращения это слово получило поздно по приказу, отменявшему в официальных случаях обращение к посетителям учреждений, милиционеров к прохожим и т. д. со словом „товарищ”. Когда кондукторы в трамвае перестали говорить „товарищи, пройдите” или милиционер не обращался – „товарищ, вы нарушили…”, настроение у всех стало чрезвычайно подавленным. Все почувствовали себя преступниками, потенциальными „врагами народа”. Об этом мало кто сейчас вспоминает (никто не пишет об этом в мемуарах; это как-то забылось), но обращение „гражданин” до сих пор несет печать какой-то подозрительности и строгости… Слово „гражданин” с этим приказанием приобрело особый оттенок, которого раньше в нем не было.
В газетах, в приказах, расклеивавшихся по городу, и т. д., всегда ранее было обращение „Товарищи!” И. В. С. не восстановил былого слова „товарищ” и в первые дни войны обратился „Братья и сестры!” Вы помните это.
Оставляю копию этого письма себе: мне самому интересно коснуться темы обращений к людям раньше и теперь в разных случаях.
Привет Римме Михайловне. Зин. Ал. кланяется Вам обоим.
Приятная была поездка в Старую Русу (ее теперь пишут через два „с”)».
Д. Лихачев
30.V.1984
Письмо это не только содержательно, оно пример подхода Дмитрия Сергеевича Лихачева к интересному для него вопросу. Прежде всего он заглядывает в прошлое, как это было раньше. Люди прежних времен, считал он, ничуть не глупее нас. Человек не становится умнее, мудрее. И двести, и четыреста лет назад общество имело разумные традиции, мораль, свои правила и чести, и взаимоотношений. Оказывается, правила эти достойны уважения, они вовсе не примитивны, не отличаются грубостью. Многое из той прошлой жизни сложилось из долгого опыта, оправдано столетиями. «Превосходительство» – было признанием превосходства положения, должности, заслуженного, ибо большей частью доставалось непросто.
Вот Лихачев в одной заметке касается такого понятия, как запах, и сразу считает нужным сообщить, что три столетия назад запахи цветов, еле уловимые запахи обработанного дерева ценились больше, чем сейчас. Петр Первый велел сажать прежде всего ароматные цветы, по дорожкам в садах сажать мяту. Когда ходят по ней (мнут ее), она пахнет.
Действительно, приятных запахов стало меньше, если, конечно, не считать духов, туалетной воды и прочей химии.
То же и со звуками. Раньше они услаждали слух – птицы, коровы, овцы, ныне нас мучают сигнализация, скрипы тормозов, грохот поездов.
ДЕЛА БАЛЕТНЫЕ
На гастроли во Францию готовилась ехать балетная труппа ленинградцев. Долго обговаривали репертуар, кого брать, кого не брать. Накануне отъезда вызывают сопровождающую от обкома, говорят ей:
– Поедете без руководителя, его нельзя.
– Почему?
– Нельзя и все.
Она:
– Это невозможно, там будет скандал.
Не слушают:
– Переживут скандал.
Она обращается к первому секретарю Романову, а тот:
– Не будь адвокатом, скажи, что готовится провокация, а мы хотим избавить его от опасности.
Она в крик:
– Да вы ничего не понимаете, вы срываете гастроли, нас там забросают, заклюют, что будет в газетах!
Он ей говорит:
– Ничего, не такое выдерживали, покричат и успокоятся.
И вот с этим она должна была ехать к О. В. У того чемоданы собраны, все готово. Она ему:
– Извините, ваш отъезд задерживается.
Он все понял, побледнел. Она успокаивает. Он не слышит. Она:
– Может, завтра все решится.
Он только махнул рукой. Она видит, в каком он состоянии, говорит:
– Надо вам в больницу лечь, отдохнуть, – боялась, что инфаркт его хватит.
Вечером позвонила:
– Еще может все решиться. Утром ей звонит Романов:
– Ты что там наобещала? Она:
– А вы послушайте телефонную запись, ничего не обещала, вам наговорили.
Молча повесил трубку.
О. В. поехал в консульство, сообщил, что не едет. Там на дыбы: «Что? Как? Почему?» Он ничего не объясняет. Они – в Москву. Дело дошло до Политбюро. Разрешили.
В Париже гэбэшники стали провоцировать его, хотели, чтобы он остался, – доказать, во что бы то ни стало доказать свою правоту. Перед пресс-конференцией придумали предлог – вызвать его срочно в Москву. Рассчитывали, что уйдет, останется, так как явно его отзывают и назад не пустят. Намекали, что никогда не выедет. Он поехал в Москву и, к их огорчению, вернулся на гастроли.
Долина, окруженная свеже-зелеными холмами. Алтайский городок маленький, без строек, без промышленности. Есть два кинотеатра. Висит через улицу лозунг: «Привет лилипутам!» Приехал их ансамбль. Спрашиваю рыбу, рыбаки разводят руками: поймали тайменя 18 килограммов, продали и все пропили, «нет смысла ловить». Есть парк из лиственниц. Красноватые стволы. Между ними бродят кони, блестящие, как смазанные, их привлекают красно-лиловые кусты «марьиных кореньев».
В столовой лилипуты обедают, я слышу их разговор: «Мы ощущаем недостачу в подъеме энтузиазма», ему отвечают: «Потому что вы ищите под фонарем».
– Что это значит?
– А то, что кошелек ищут не там, где потерял, а под фонарем.
НОВОДЕВИЧЬЕ КЛАДБИЩЕ
Надгробие министру связи Псурцеву: стоит на пьедестале мраморный министр и говорит по телефону, трубку к уху прижимает, от трубки тянется вниз мраморный шнур. Министр улыбается. С кем говорит? Откуда он говорит? С того света?
Памятник создателю танка Т-34, конструктору. На надгробии – маленький зеленый танк. Неужели вся его жизнь сводилась к этому танку? Из-за этого его любили? Этим вспоминают?
Почти ни у кого нет эпитафии. Должности, награды, звания.
Создатель строительной плитки – его плиткой облицовано надгробие.
Генералы, маршалы – на их бюстах аккуратно вылеплены все ордена. Военных много. Но они же были еще мужья, отцы. Где скорбь, тоска вечной разлуки, слезы, благодарная память, любовь? Где все это? Неужели только до революции ангел печально склонялся над урной, обнимал крест? Сейчас, в 1979 году, ангелов отменили.
Вряд ли кто поймет, что советскому человеку недопустимо было страдать, чувствовать себя несчастным от потери близкого, уж во всяком случае запечатлеть свое страдание, ужас перед смертью в могильном надгробии.
Одно, надгробие, для вечности, туда мы провожаем родного человека, у вечности, наверное, свои ценности.
Путешествуя по узким кладбищенским тропкам, обнаружил – бывший наш президент Подгорный здесь лежит. И Первухин – член Политбюро, тоже бывший. Об их уходе не сообщалось. Хотя Новодевичье тоже требует привилегий, даже от бывших. Филиал Кремлевской стены.
Микоян лежит без памятника. Может, будет.
Некоторые памятники таинственны – только фамилия, имя, отчество. Засекречен был при жизни, так и ушел с грифом. Вперемешку с ними Щуко, Булгаков, Чехов, Фадеев. Кладбище причудливо тасует своих жильцов. Огареву выпало лежать рядом с заместителем министра финансов. Боюсь, что навсегда.
ВСТРЕЧА НА ДАЧЕ (19 МАЯ 1957 г.)
Собрали нас 19 мая 1957 года. После XX съезда. На бывшей даче Сталина. Венгерские события порядком напугали вождей. Был еще польский кризис. Шепилова отстранили от Министерства иностранных дел. Секретарь ЦК Ильичев внушал Хрущеву, что вся смута в социалистических странах идет от писателей, и у нас тоже. Вот вышла «Литературная Москва», где напечатан рассказ А. Яшина «Рычаги» против партии; в «Новом мире» – роман Дудинцева «Не хлебом единым», рассказ Гранина «Собственное мнение» – идейно вредные; вышли «Тарусские страницы» с вредными статьями Крона; и др. Если эти безобразия не пресечь, то и у нас смута начнется. Надо пресечь. Немедленно. Затянуть гайки после разоблачения культа. А то и в Политбюро раздор: Молотов, Шепилов, Первухин и др.
Началось мирно. Идиллическая картина – дача, летние наряды, аллейки, зелень, пруды и вожди. Впервые ходят по аллее среди нас: Микоян, Молотов, Булганин, Хрущев – ожившие портреты. Здороваются, пожимают руки. Кто-то, кажется, Борис Полевой, представил меня Молотову. «А-а-а, „Собственное мнение”, – сказал Молотов, – это ваш рассказ?» – «Мой». – «Что же вы, – он укоризненно покачал головой. – Зачем вам, это же против партии. Вот роман „Иду на грозу” у вас хороший».
То, что Молотов говорит со мною, светит солнце, сад, распускаются листья, что он не на трибуне – все это было удивительно для моего советского сознания, но еще удивительней было то, что он читал этот мой не бог весть какой рассказ и говорит о нем всерьез, словно о событии.
– Но ведь надо же, Вячеслав Михайлович, иметь собственное мнение! – выпалил я первое, что пришло мне в голову.
Молотов помрачнел, резко так согнал с лица приветливость. Наступила неприятная пауза. Борис Полевой преувеличенно весело подозвал к нам Паустовского, который шел мимо, а за ним и Эренбурга. Ему хотелось как-то разрядить напряжение, что-то произошло, связанное, скорее, с моим ответом, чем с моим рассказом. В чем было дело, я не понимал, да и Полевой, опытный журналист, тоже, видно, не понял. Чтобы сменить тему, он заговорил о замечательной работе Эренбурга в прессе в годы войны. Разговор перешел на журналистику, и вдруг Эренбург довольно язвительно спросил как бы всех, какой смысл иметь столько газет, если все они пишут и сообщают одно и то же, причем совершенно одинаково. Достаточно иметь одну газету. Молотов помрачнел, опять получилось не то, не так. Тогда Паустовской со своей милой улыбкой вспомнил, как в молодости он работал в одесской газете «Моряк», мальчишки-газетчики кричали, продавая ее: «Газета мрак, мрак!» Так вот, им, сотрудникам, надоели газетные штампы, все эти обязательные наборы фраз, решили, чтобы оживить текст, добавлять одно словечко, например, в некролог «с прискорбием сообщаем, что от нас ушел…» вставляли «наконец-то».
Посмеялись, разошлись, но запомнилась, даже поразила меня неадекватная реакция Молотова. Через несколько месяцев разъяснилось. То есть я мог представить, как совпали мои слова с тем, что происходило там, за кулисами, в Политбюро. Как раз тогда на Молотова «катили бочку» за иностранные дела, за Югославию и какую-то неуступчивость, вот тебе и «собственное мнение», кто знал, может, я как раз наступил на мозоль.
Позвали к столам. Небо было ясное, тепло, красиво, шатер, крахмальные скатерти, бутылки, рюмки, осетрина. Кто знал, что разразится вскоре гроза и в небе, и на земле…
Надо отделять поступок от человека. Поступок может быть плохой, но значит ли это, что человек плохой? Далеко не всегда. Осуждать поступок – да, жалеть о поступке – да, но перечеркивать человека – рискованно.
Самому человеку легче будет казнить себя за этот поступок, если он отделен от того, что совершил. Иначе он станет в позицию самозащиты, станет доказывать, что он не плохой, сами вы все плохие.
Запоминается (и надолго!) не брань, а остроумная оплеуха, так Владимир Яковлевич Александров, когда его попросила Лепешинская сказать мнение о своем докладе, ответил:
– Есть вещи, Ольга Борисовна, которые в присутствии дам не говорят.
Вагнер, по свидетельству Гельмгольца, ценил свои стихи выше, чем свою музыку.
Ньютон считал величайшим произведением своей жизни «Замечания на книгу пророка Даниила».
Эренбург считал себя прежде всего поэтом, а не прозаиком.
Радость видеть Вас умеряет только частота Ваших визитов.
Живопись – жизнь, которую окликнули, она остановилась взглянуть на вас. Будь то портрет или пейзаж, в любом случае картина позволяет вглядеться в подробности. Потому что портрет или пейзаж – они остановлены. Фотография же не останавливает жизнь, а убивает ее. И затем предает трупу нужное положение. Фотограф подстережет нужный момент и выстрелит в него. Художнику движение не мешает, ему нужны одновременно и смех и слезы, и ветер и покой.
Кто был прав – Анна Ахматова или Михаил Зощенко?
Анна Ахматова, когда ее спросили английские студенты, как она относится к докладу Жданова, сказала дипломатично: это, мол, критика, на которую руководство имеет право, что-то в этом роде.
Михаил Зощенко высказал свое возмущение докладом, сказал, что не может согласиться с тем, что его называют подонком.
Анна Ахматова сохранила возможность работать, некоторое время ее не печатали, но и не трогали, обходили, она пользовалась покоем, отступничество не ставили ей в вину ни с той, и ни с другой стороны.
И окружение, и начальство простили.
Зощенко пострадал смертельно, на него накинулись, рвали его на куски, долго травили. Позже на писательском собрании он не пожелал каяться в своем ответе студентам. Это было самоубийственно, но это был первый бунт, открытый бунт после смерти Сталина. 1954 год. Вот и встает древний неотступный вопрос, который решал для себя еще Галилей, решал и Джордано Бруно – смириться, склониться ради творчества, ради науки либо не уступать, не каяться, сберечь свое достоинство, но тогда лишить себя возможности творить, печатать.
Хочется сказать, что они оба были правы, оба поступили так, как считали нужным, как понимали для себя меру своей ответственности. Мы им не судьи.
Но так ли это?
Поэт Глеб Пагирев работал в издательстве «Советский писатель». Там решили выпустить сборник стихов Ахматовой. Глеба назначили редактором, но как он мог редактировать Анну Андреевну – не считал возможным. Однако надо было хоть чем-то обозначить себя, он ткнул в какое-то место в рукописи, сказал: «Я тут не понимаю». Анна Андреевна подняла на него глаза. «Что делать, – сказала она, – это не моя вина».
Как-то в Комарово Анна Андреевна, глядя на кипу своих рукописей, сказала: «И кто это читать будет?»
«Сталин нашей юности полет».
ФИНЛЯНДИЯ, 1996 ГОД
Из рассказа господина Койвисто.
«Никогда не видел, чтоб полицейский брал взятку, по-моему, это невозможно.
Социологи установили, что население доверяет: полиции – 95 %; политикам – 30 %.
У нас 60 тысяч озер, два раза в год в них проверяют воду.
При дорожных происшествиях оставить в опасности человека, проехать мимо – карается законом. Даже прохожий не имеет права пройти мимо.
У нас 80 % преступлений раскрываются».
Финские дороги прорублены сквозь гранитные горы. Едешь по гранитному коридору – стены красные, желтые, серые. Сколько труда стоит каждое шоссе, и какое ощущение прочности сделанного.
Дикая природа здесь хорошо прирученная, но дикость остается как признак здоровья.
МЕДАЛИ
В русской истории бывали случаи, когда медаль вручалась отнюдь не в награду, а для острастки.
Петр I, как известно, не чурался доброй чарки, но людей, излишне приверженных к вину, не терпел. С особой строгостью преследовал он тех, кто в нетрезвом виде появлялся на службе или во время ассамблей напивался «до положения риз». К таким пьянчугам по указанию царя применялись суровые меры. Одной из них был церемониал «награждения» провинившегося специальной медалью. Она имела форму восьмиконечной звезды, отливалась из чугуна, была величиной с тарелку и весила полпуда. Надпись, выбитая с обеих сторон, гласила: «За пьянство».
Регалия эта цепью крепилась к металлическому разъемному ошейнику, который запирался надежным замком. Удостоенные сей «награды» целую неделю должны были таскать ее на себе, чтобы прочувствовать «тяжесть похмелья». Как показала практика, случаи повторных «награждений» были крайне редки.
В 1709 году, накануне Полтавской битвы, по велению Петра I была отлита еще одна «позорная» медаль, которая предназначалась украинскому гетману Мазепе, переметнувшемуся в лагерь врагов. По форме она напоминала вышеописанную, весила десять фунтов (более четырех килограммов), но изготовлена была не из чугуна, а из серебра. Петр распорядился выбить на одной ее стороне изображение повесившегося на осине Иуды, под ним – 30 сребреников, а на обратной стороне медали надпись: «Треклят сей погибельный Иуда еже за сребролюбие давится».
К огорчению царя, церемония «награждения» не состоялась: Мазепа умер раньше, чем отчеканенную в Москве медаль привезли в ставку Петра.
Самыми близкими людьми в ЦК КПСС были для меня Игорь Сергеевич Черноуцан и Александр Николаевич Яковлев. Когда Игорь Сергеевич заболел, остался Яковлев, остался не только для меня, а для многих из тех, кого числили творческой интеллигенцией. К нему ходили писатели, ученые, философы, киношники, все, кого беспокоила беспорядочная, бестолковая политика Горбачева.
Приходили мы с Алесем Адамовичем, Василем Быковым, обращались Григорий Бакланов, Евгений Евтушенко, Андрей Тарковский, Виталий Гольданский.
Яковлев был доступен, умен, надежен, понимал с полуслова, его не приходилось убеждать, он во многом был впереди нас, смелее в своих оценках.
До Франции Я. П. Рябов был послом в Чехословакии. Там он Сахарова ругал: «Сахаров оклеветал, Сахаров посмел оболгать свою родину, Сахаров подпевает нашим врагам…»
Когда в Париже мы приехали с Сахаровым в посольство, на пресс-конференции Рябов говорил «как правильно заметил академик Сахаров», потом он позвал нас в кабинет и сказал: «Андрей Дмитриевич, вам предстоят трудные встречи, на них вам будут задавать неприятные вопросы, мы, чтобы помочь вам, подготовили для вас ответы, я советую вам пользоваться ими». Сахаров только улыбнулся и сказал: «Да нет уж, я как-нибудь сам».
Ежи Лец правильно заметил, что «только один сумел прожить от Сотворения Мира до Страшного Суда – СТРАХ».
Вверх идешь всегда в окружении друзей, а вниз спускаешься одинок (Лоусон).
Все устроено, выстроено в этой Вселенной для человека, все физические постоянные приспособлены для существования человека, а сам он для чего? Ответа нет и не предвидится.
Прошлые преступления невозместимы, так же как и страдания, изменить ничего невозможно, те кто расстреляны, те не оживут.
«Ленинградская правда», несмотря на мнение Обкома, опубликовала выступление Д. С. Лихачева в защиту лип Царского Села, чтоб их не вырубали. Начальство разозлилось и сняло главного редактора газеты Куртынина. Замечательный был человек. Вот и пойми – стоила ли эта потеря лихачевской статьи?
ВЕНЕЦИЯ
У Венеции есть несколько особенностей, которые отличают ее от любых других туристских центров. Дело не только в каналах. Прежде всего это город, где нет ни одного автомобиля, автобуса. Единственный город на Земле. Вы переходите улицу, не оглядываясь. Вам нельзя сослаться на пробки, так что извольте явиться вовремя. Нет уличного движения – значит нет светофоров, стоянок, гаражей. «Гаражи» для гондол обозначены двумя шестами, всаженными в дно канала. К ним на ночь гондольер привязывает свое судно.
По Венеции ходишь не так, как в других городах, привлекают не витрины, не огромные роскошные выставки супермаркетов, универмагов с новыми товарами, с разряженными манекенами – все, что обычно останавливает приезжего, вызывает постоянное верчение шеи, не видно застывших парочек у витрин, разглядывающих, приценивающихся, не очень заметны распахнутые двери магазинов, бутиков, ресторанов…
Торговая горячка отодвинута, магазины где-то за пределами внимания, они есть, но они не бросаются в глаза. Есть каналы, дворцы, мосты, за углом всегда неожиданное – площадь, памятник, оркестр, представление. А главное – архитектура, которая меняется – утром одна, на вечерней заре она другая, зеленоватые отблески каналов преображают ее, вода каналов играет красками ничуть не хуже моря. По каналам скользят гондолы, на золоченой скамье блаженствуют пассажиры – семья, парочка, я разглядываю их сверху, с набережной, с моста, это не тротуарные пешеходы, я не знаю, как назвать их – каналоходы, гондолыцики, плывуны; мчатся катера – водные такси, грузовые, перевозчики товаров, продуктов. Наши питерские реки, каналы в сравнении с ними – пустынны.
Венеция, хочешь не хочешь, пешеходная страна, здесь приходится шагать, мало того, то и дело поднимаешься и спускаешься с крутых мостков. От непривычки – утомительно. Зато хождение позволяет, заставляет смотреть и видеть город. В Венеции коэффициент постижения красоты выше, чем где бы то ни было. Мало что отвлекает от созерцания. Вот почему многие приезжают в этот город регулярно. Или часто. И хотят еще и еще.
В Лидо, это курорт Венеции, ее лень, ее пляж вдоль Адриатики, улицы названы – Верди, Россини, Пуччини, Мон-теверди. Только в Германии можно обеспечить улицы какого-нибудь города именами немецких композиторов. В связи с этим у меня появились мысли, мои собственные, о судьбе этой особы – Италии. Итальянские художники, например, могли бы обеспечить своими именами не курортный городок, а настоящий большой город, все его улицы, площади и переулки. Причем хватило бы художников, весьма и весьма великих, таких, как Джотто, Мазачо, Боттичелли, Леонардо (герой «Кода да Винчи»), Рафаэль и, конечно, Каналетто, Гварди, которые без конца писали венецианские закаты и площади Святого Марка.
Можно ли жить за счет туристов? Можно, доказывает Венеция.
Хорошо ли это? По-моему замечательно, она продает красоту, свою, не чужую, не подсовывает вам эклектику. Ее красота всегда та же, для всех, богатых и бедных.
Венеция работает, она не тунеядка. Она живет за счет прошлого? Да, но сколько сил она тратит, чтобы сохранять его.
У Венеции много поклонников, верных вздыхателей, они едут сюда при первой возможности, в обычной европейской жизни не хватает поэзии. Венеция обладает подлинностью уходящей романтики. Недаром главный ее сувенир – маска, венецианская маска обладает странным, загадочным выражением безулыбчивого бледного лика. В узкой средневековой улочке закутанная в плащ фигура, рука в перчатке, не поймешь, мужская, женская, закрывает свое лицо белой маской.
Венеция не очень-то завлекает порнозаведениями, казино, ночными клубами, мне они не попадались на глаза, для меня чудом была уцелевшая чистота творения итальянской истории.
Италия – родина фашизма, родина мафии, она же родина художественного гения человечества, она – родина великого киноискусства. Мало родить гениальных художников, зодчих, скульпторов, надо было сохранить их работы; в течение пяти, шести веков этим занимался народ. Старанием итальянских людей уцелело наследие Возрождения – храмы, росписи, витражи, картины, памятники, дворцы. Такое возможно, когда именно народ понимает, какой драгоценностью он владеет.
Когда я работал над книгой «Эта странная жизнь» о А. А. Любищеве, я познакомился с некоторыми учениками Александра Александровича. Учениками, друзьями, единомышленниками, не знаю, как назвать, это были серьезные, успешные ученые, среди них был Сергей Викторович Мейен, палеонтолог, автор симпатичного мне «принципа сочувствия». В научных спорах, утверждал он, надо стать на сторону противника, постараться понять его доводы, сочувственное их рассмотрение поможет обоим оппонентам получить какой-то результат от спора. У Мейена была специальная работа, посвященная этому принципу.
Его занимали этические проблемы, мы тогда, в 1980-е годы, горячо обсуждали их, устно и письменно, спустя двадцать с лишним лет я нашел среди бумаг копию одного моего письма к нему, интересно, как воспринимаются те споры, отчасти это свидетельство наших поисков новых отношений между людьми.
«Дорогой Сергей Викторович!
Письмо Ваше вновь вернуло мысли к теме, давно занимающей меня, о нравственной безграмотности, как Вы выразились, об этической системе, о правилах жизни, о требованиях к человеку. Если Вы говорите о безграмотности, то начинать надо с азбуки. Азбуке обучают детей. И надо обучать с детского возраста вещам непреложным, простым – прописям, старинным прописям, которые заучивали, зазубривали вместе с азбукой. „Брать чужое нельзя!” – „Почему это?” – спросили при мне старого библиотекаря. Он пожал плечами: „Потому что чужое, а чужое брать нельзя”. Для него это правило было само собой разумеющееся, аксиома бытия, не требующая доказательств и обоснований, система запретов, такая же, как не врать, не бить маленьких… Все то, что должно стать внутренним законом.
Вас интересуют не эти очевидные прописи, а спорная этика, нравственные положения, которые „даются особенно трудно”. Но думаю, Вы согласитесь, что усвоение (хотя бы обучение) школьное элементарных заповедей намного облегчило бы и Вашу задачу, и вообще решение для человека многих этических задач.
Положения, которые Вы выдвигаете, чрезвычайно интересны, некоторые спорны, но я почувствовал, как все они выросли, разветвились из Вашего „принципа сочувствия”, из раздумий Ваших о том, что же такие за люди были блаженные, святые, из внимания к нетрадиционным проблемам истории религиозной жизни. Как глупо, что в своем атеистическом рвении мы не используем огромные этические богатства, накопленные религиозным воспитанием: методику, психологию, систему обучения. Вы упомянули катехизис. Недавно я смотрел катехизис 1889 года. Это было 67-е издание! Представляете себе, насколько уже сто лет назад это был отработанный школьный учебник. Вообще большинство учебников старой гимназии отшлифовывались от издания к изданию – „История” Илловайского, „Геометрия, математика” Киселева, „Физика” Цингера. Основа сохранялась, родители и дети учились по одному и тому же учебнику, поэтому старшие понимали, участвовали в обучении. Существовала преемственность.
Дети учили те же стихи, что когда-то учили родители. Я еще вернусь к катехизису, а сейчас мне хочется кое-что дополнить к Вашим положениям. Некоторые соображения, которые, кажется мне, даются людям не менее трудно, чем Ваши.
1. Другие люди могут быть другими. Понять и принять такое очевидное положение сегодня, оказывается, так же сложно, как и во времена религиозных войн. Это неприятие других продолжает существовать и на уровне религии (Ирландия с ее средневековыми столкновениями протестантов – католиков), и на расовом уровне, у нас в национальных распрях: армяне – грузины, русские – евреи, в среднеазиатских наших конфликтах. А сколько внутри любого коллектива нетерпимого к инако-образным – инакодумающим, инаколюбящим, инакопонимающим, живущим. Само понятие „инакомыслящий” должно бы считаться похвалой, признаком ценности человека, оно обрело осудительный характер. Признать право другого быть другим требует уважения к личности другого. А это в свою очередь требует развитого самоуважения. Между прочим, самоуважение требует критического отношения к себе, смирения и интереса к своей душе, ее движениям и потребностям.
2. Этические проблемы легко приводят к Богу. Слишком легко. Требования добра, доброты, прощения, терпения и т. п. Все они проще всего мотивируются на религиозной основе. Когда она есть, этические положения выстраиваются естественно. „Если же Бога нет, то все дозволено”, – утверждал Достоевский, то есть запреты рушатся, зло, эгоизм нечем остановить. Вроде правильно, страшно, а вот Бога отодвинули на самый край жизни – и что? Оказалось, что запреты остались. Нравственные запреты продолжают чем-то жить, питаться.








