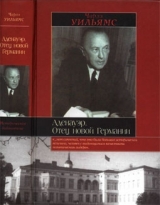
Текст книги "Аденауэр. Отец новой Германии"
Автор книги: Чарлз Уильямс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
Ухудшились его отношения с местными социал-демократами. Когда до тех дошли слухи об условиях, которые Аденауэр выставил при обсуждении своей кандидатуры на канцлерство, особенно о его требовании отменить восьмичасовой рабочий день, это вызвало бурю возмущения. Профсоюз трамвайщиков охарактеризовал высказывания Аденауэра как «объявление войны германскому пролетариату», социал-демократическая фракция в городском собрании потребовала от бургомистра объяснений. Аденауэр счел, что лучший вид обороны – это наступление: трамвайщики, заявил он, проявили недисциплинированность; они городские служащие, он их непосредственный начальник, они должны были прийти к нему и обсудить беспокоящие их проблемы, а не заниматься демагогией. Что касается удлинения рабочего дня, то как иначе Германия сможет выплатить репарации? По его словам, «германский рабочий класс заинтересован прежде всего в том, чтобы была сама Германия», и ради нее должен пойти на временную модификацию пункта о восьмичасовом рабочем дне.
1919—1923 годы были для Кёльна периодом строительного бума. Быстрыми темпами претворялась в жизнь программа, которую бургомистр разработал вместе с архитектором Шумахером: университет, музыкальная школа, внутреннее городское кольцо, выставочный комплекс в Дейце, новый порт в пригороде Кёльна Ниле. Заложен был «зеленый пояс» – предмет особой гордости Аденауэра. Приток инвестиций способствовал созданию новых промышленных предприятий и расширению уже существующих.
Чтобы обеспечить финансовые вливания в регион, Аденауэр всячески обхаживал рейнских промышленных баронов: Клекнера, Тиссена, ну и, конечно, старого своего спонсора Луиса Хагена. Он даже рискнул пойти на тесный контакт с такой, мягко говоря, неоднозначной фигурой, как Гуго Стиннес. Выше уже упоминалось о нетактичном поведении этого магната на конференции в Спа. Его репутация еще раньше была подмочена откровенными призывами к широким аннексиям бельгийской территории, с которыми он громогласно выступал во время войны. Однако Аденауэра привлекала идея интеграции угольной и сталелитейной промышленности Рура, Саара, Люксембурга, Бельгии и восточной Франции, которую также пропагандировал Стиннес (из всех его идей эта была действительно, пожалуй, наименее безумная). Кёльн оказывался как бы естественным центром такого объединения, и это объясняет интерес его бургомистра к подобного рода планам. Для социал-демократов это была еще одна причина для атак на Аденауэра: Стиннес был в их представлении настоящим исчадием ада, чем-то вроде воплощения мирового зла.
Впрочем, несмотря на все обхаживания олигархов, денег не хватало, особенно если учесть набиравшую теми инфляцию. Финансовые проблемы города обострились в результате проведенной в конце войны налоговой реформы. Новая система переносила центр тяжести с косвенных на прямые налоги, причем ставки их определял центр, и туда же поступала вся собранная денежная масса. Из этого централизованного фонда, составлявшего примерно 60 % всех налоговых поступлений, шло затем финансирование отдельных земель и общин. Явные недостатки системы состояли в том,, что она вела к бесконечным спорам между центром и регионами о том, сколько кому выделить, а кроме того, поскольку квоты каждый год определялись заново, никто не мог быть уверен в стабильности своего бюджета.
Для рейнландцев инфляция на первых порах обернулась известными преимуществами: к ним хлынул поток визитеров из-за рубежа, которые спешили обменять свои деньги на марки и скупали на них местные товары. Курс обмена был для них выгоден, рост цен слегка отставал от темпа инфляции, и они делали на этих операциях неплохой гешефт. Местный бюджет, в свою очередь, пополнялся за счет налога с продаж. Разумеется, приток зарубежных покупателей зависел от колебаний курса марки; в общем, она падала (в июле 1921 года за доллар давали 76,6 марки, к январе – уже 191,8), но были и периоды, когда падение приостанавливалось и марка на время даже «тяжелела». В ноябре, когда был зафиксирован самый низкий ее курс, Кёльн подвергся настоящему нашествию голландцев, бельгийцев и датчан, которые буквально сметали все с полок. Власти с согласия Верховного комиссариата ввели ограничения на отпуск иностранцам продовольственных товаров и одежды, чтобы предотвратить дефицит или скачкообразный рост цен, но эта мера имела и обратную сторону: уменьшились поступления от налога с продаж.
Поступлений от таможенных сборов не было вовсе; таможня всегда подчинялась центральной власти, но на оккупированной территории ее юрисдикция не действовала. Дефицит местного бюджета теоретически должен был покрываться займами от Рейхсбанка, но никогда нельзя было сказать наверняка, когда поступят субсидии из центра, в каком количестве и поступят ли вообще. Именно финансовые проблемы города побудили Аденауэра выступить со своей первой отчетливо антипрусской речью. Объясняя депутатам городского собрания причины плачевного состояния городского бюджета, он заявил, в частности: «Пруссия планирует новое наступление на финансы общин. Что она сделала? Она отдала рейху все железные дороги – отрасль весьма прибыльную, зато оставила за собой обязательство платить за них их долги. А чтобы их заплатить, она повысила в свою пользу процент отчисления от подоходного налога». В результате, продолжал Аденауэр, ему нечем оплачивать жилищное строительство, и вообще существующую систему финансовых отношений между Берлином и регионами «нельзя далее терпеть». «Самое лучшее в нынешних условиях – это купить имение и стать прусским помещиком», – съязвил он под конец. В устах председателя Государственного совета Пруссии это была весьма смелая шутка.
Речь Аденауэра произвела фурор. Она дала дополнительные аргументы тем, кто утверждал, что все беды Рейн-ланда идут от Пруссии, что стоит только разорвать связывающую с ней пуповину, как сразу все волшебно переменится: оккупанты уйдут, и вместо этого на провинцию прольется золотой дождь зарубежной помощи. Именно такими идеями руководствовались по крайней мере промышленные магнаты Рейнланда. Они, эти идеи, получили особо широкое хождение после того, как во главе французского правительства в январе 1922 года оказался явный «ястреб» – Раймон Пуанкаре. Он не оставил никаких сомнений, что будет добиваться беспрекословного выполнения немцами всех без исключения статей Версальского договора – от первой до последней. Неудачный исход Генуэзской конференции и падение в ноябре того же года кабинета Вирта, казалось, подтверждали правоту олигархов. Как было отмечено в очередной сводке составлявшихся в Форин офис «Обзоров ситуации в Центральной Европе» за 2 ноября 1922 года, «директор крупнейшего вестфальского промышленного концерна выразил обоснованное мнение, что не позднее чем через год французы добьются реализации своей цели – создания буферного государства в Рейнланде». Характерно, что авторы обзора не просто воспроизвели это мнение, но и назвали его обоснованным.
Политики двигались как но тонкому льду: одно неловкое движение могло вызвать катастрофические последствия. Между тем особой ловкости от нового главы центрального германского правительства, Вильгельма Куно, бывшего директора судоходной компании ГАПАГ, было трудно ожидать. Близилась развязка.
Разные представители немецкой деловой и политической элиты предлагали разные рецепты противодействия французским замыслам. В донесении, направленном в Лондон 12 декабря 1922 года, упомянутый Джулиан Пиггот сообщал о трех таких рецептах, которые были изложены ему их авторами в ходе трех доверительных бесед, состоявшихся за день до этого. Первый был представлен д-ром Карлом Мюллером, председателем Союза работодателей Рейнлан-да. В записи Пиггота это выглядело так: «Перед лицом предстоящей оккупации Рура французами, которая наверняка вызовет бурю возмущения в Германии, рейх должен будет сосредоточиться на восстановлении России, чтобы затем повести «освободительную войну» совместно с ней». Мюллер заявил о том, что немцы вынуждены будут с этой целью вступить в переговоры с Советами. За этими идеями вряд ли скрывался какой-либо серьезный план, скорее речь шла о том, чтобы попугать союзников.
Другой вариант изложил близкий друг Стиннеса, д-р Пауль Сильверберг. Па его мнению, оккупация Рура в конечном счете «привела бы к достижению взаимопонимания между французскими и немецкими промышленниками – без Англии и против нее». Он сам, Стиннес и Клекнер готовы в любой момент выехать в Париж и «вступить в прямые переговоры относительно репараций». Проект отдавал явно авантюрным духом: два-три олигарха вряд ли сумели бы распутать туго затянутый политиками узел.
Третий выход предложил наш герой. Он констатировал, что целью французской политики является «расчленение Германского рейха», и в качестве единственного средства противодействия этим замыслам выдвинул свою старую идею, сформулированную еще в 1919 году: создать в рамках рейха Рейнско-Вестфальское государство. Аденауэр посоветовал Пигготу использовать все его влияние, чтобы побудить президента Эберта и правительство Куно выступить с соответствующей инициативой: только это сможет остановить Пуанкаре.
Для самого Пиггота наиболее важным представлялось то, что, но его мнению, объединяло все три проекта: «большое значение, которое все три моих собеседника придавали сохранению британской оккупации Кёльна». Английские гарнизоны – это «последний оплот западных немцев против наполеоновских планов французского правительства». Верно: англичане не имели оснований для одобрительного отношения к агрессивной антигерманской политике Пуанкаре, однако они не собирались портить с ним из-за этого отношения, тем более что в это время в Лозанне проходили весьма деликатные переговоры но Ближнему Востоку.
В результате Пуанкаре получил зеленый свет, хотя даже бельгийцы, столь пострадавшие от немецкого нашествия, испытывали сомнения в мудрости радикального решения.
События развивались в убыстряющемся темпе, и их нельзя было ничем остановить. 2 января 1923 года правительство Куно выступило с примирительным жестом: оно заявило о готовности выплатить двадцать миллиардов золотых марок (около пяти миллиардов долларов) ifffa условии предоставления рассрочки и международного стабилизационного займа. В ответ на это союзники должны были немедленно вывести свои войска из Дюссельдорфа, Дуйсбурга, Рурорта и гарантировать последующий их вывод со всей территории Рейнской области. Было уже поздно: еще 26 декабря репарационная комиссия констатировала невыполнение Германией ее обязательств. Пуанкаре предпочел проигнорировать новый демарш немцев. 9 января вердикт репарационной комиссии был утвержден правительствами Франции, Бельгии и Италии. 11 января французские и бельгийские войска вторглись в Рур.
ГЛАВА 4
1923 ГОД
«Если имперское правительство берет на себя смелость списать целые куски германской территории пусть оно откровенно скажет об этом народу»13
Франко-бельгийская оккупация Рура вызвала в Германии, по словам швейцарского историка Э. Эйка, «вопль возмущения и ярости». Нация снова была едина, как в августе 1914 года. Пожалуй, единственный диссонанс был внесен высказыванием тогда никому не известного экс-ефрейтора из австрийского городка Браунау, которого звали Адольф Гитлер: взобравшись на стол в одной из мюнхенских пивных, он заявил, что нужно кричать не «Долой Францию», а «Долой берлинских предателей». Но в основном гнев нации обрушился на победителей.
Вообще говоря, такая реакция была оправданной. Официальный мотив акции был попросту высосан из пальца: речь шла якобы о защите группы французских, бельгийских и итальянских инженеров, которые должны были надзирать за деятельностью угольного синдиката но выполнению репарационных поставок и за ликвидацией недопоставки телеграфных столбов (из 200 тысяч было получено лишь 65 тысяч).
В Руре прошла волна стихийных стачек против оккупантов. Пресса широко их освещала, общественное мнение было на стороне забастовщиков. В этих условиях на заседании кабинета, проходившем под председательством президента Эберта, было принято решение начать «массивное сопротивление». Другими словами, рабочие Рура не должны были работать на оккупантов. Это решение было встречено всеобщим одобрением. Чего, очевидно, не учли, так это необходимости государственного субсидирования участников «пассивного сопротивления»: им надо было как-то компенсировать потерю заработной платы, а это создавало огромную нагрузку на бюджет. Печатный станок заработал на полную мощность, инфляция приняла неконтролируемый характер. В Кёльне ситуация подтвердила наихудшие опасения его бургомистра. Начались перебои с продовольствием. Увеличилась безработица: сказался разрыв экономических связей с Руром, продукция которого, произведенная на шахтах и заводах, где рабочие места немцев заняли иностранцы, шла теперь прямиком во Францию.
На этот тяжелый период пришлось событие в личной жизни нашего героя, которое при прочих условиях должно было бы стать поводом для большого семейного торжества. 18 января 1923 года у него родился сын. На этот раз все прошло благополучно: беременность Гусей проходила без осложнений, мальчик, которого назвали Паулем, родился здоровым и крепким, даже с некоторым превышением средних показателей в весе. Впрочем, то же самое можно было сказать и о счастливой матери: Гусей сильно пополнела, мало что напоминало ту стройную симпатяшку, какой она была до замужества. В глазах еще порой сверкали задорные искорки, но в общем и целом она уже была на пути превращения в солидную даму, типичную немецкую домохозяйку. Такая эволюция была неизбежной: муж всегда занят, интересов, выходящих за рамки домашних дел, почти нет, общение ограничено дамами ее круга, а поскольку это общение происходит, как правило, в кёльнских кафе, где трудно устоять от соблазна съесть иару-другую пирожных, то это соответственно влияет и на фигуру.
Супруг ее, напротив, в это время сильно потерял в весе. Заботы и хлопоты, связанные с его должностью и амбициями, брали свое. Черты лица заострились, он перестал носить усики, и твердая линия крепко сжатых губ еще сильнее бросалась в глаза; модный цилиндр не очень подходил к узкому продолговатому овалу его лица, с которого не сходило выражение раздражения и усталости. Беременность Гусей и рождение сына не затронули каких-то чувствительных струн в его душе. Раз все нормально, значит, нет повода для эмоций – таким соображением определялось, видимо, его поведение, вполне обычное для немецкого отца семейства, характер которого формировался в кайзеровском рейхе.
В чем нельзя упрекнуть Аденауэра, так это в небрежении обязанностями кормильца. Он позаботился о том, чтобы уберечь семью от воздействия того финансового хаоса, в который все быстрее погружалась страна. Аденауэр всегда отличался расчетливостью (некоторые называли это даже скупердяйством), но в своих отношениях с городской казной он, можно сказать, побил все рекорды но части обеспечения себя всевозможными льготами и привилегиями. Еще при вступлении на пост бургомистра в 1917 году он отказался от полагавшейся ему бесплатной, но весьма скромной квартиры в центре, но зато добился того, что город взял на себя все расходы но содержанию особняка на Макс-Брух-штрассе, включая даже ремонт и замену садовых скамеек. На этом он здорово сумел сэкономить. Еще больше ему принесло постановление городского собрания, позволявшее ему во изменение прежнего правила полностью присваивать себе тантьемы, полагавшиеся бургомистру как представителю города в советах директоров расположенных в Кёльне компаний (ранее они должны были сдаваться, по крайней мере частично, в бюджет). Все выплаты, которые получал Аденауэр, разумеется, индексировались в соответствии с ростом цен. Его служебной машиной стал большой шестилитровый «мерседес-бенц».
В качестве иллюстрации того, как эти привилегии выглядели в количественном выражении, приведем только один пример: ремонт особняка (необходимость его Аденауэр объяснил тем, что ему приходится устраивать в нем официальные приемы) обошелся городскому бюджету в 103 тысячи неденоминированных марок. Более того, городу пришлось купить три участка земли, прилегающих к особняку Аденауэра, чтобы тот мог расширить свой сад, и согласиться выплачивать проценты по кредиту, который бургомистр взял для обустройства новоприобретенной площади. Бургомистр представлял к оплате всевозможные счета для покрытия представительских расходов, причем всегда требовал вернуть оригиналы обратно, чтобы ни у кого не возникало вопросов, на что, собственно, были истрачены деньги. Короче говоря, он доил городскую казну как мог.
Материальное благосостояние семьи благотворно сказалось и на отношениях внутри ее. Дети Конрада от первого брака несколько изменили свое отношение к мачехе: теперь они уже видели в ней кого-то вроде старшего друга или сестры, а не хищницу, обманом пробравшуюся в их дом; только Коко продолжал держаться настороженно. Сказались два обстоятельства: естественное обаяние Гусей и ее умение вести домашнее хозяйство. В доме был повар и две служанки, но Гусей предпочитала сама ходить за покупками. На ее плечах лежал также уход за садом и огородом. Она сама и доила козу, которую завели, чтобы у ребенка всегда было свежее молоко. Словом, семейный тыл был обеспечен, и Аденауэр мог посвятить все свои силы политике, тем более что в этой сфере проблем было более чем достаточно.
Вначале у него теплилась надежда на англичан: они выступят посредниками в германо-французском конфликте либо так или иначе придут на помощь. Однако англичане не хотели вмешиваться. 11 января из Форин офис Верховному комиссару в Кобленц поступила инструкция, где говорилось, в частности: намерения правительства его
величества входит снижение до минимума, поскольку это зависит от него, того отрицательного эффекта, который односторонняя французская акция оказала на состояние англо-французских отношений». Соответственно, с английской стороны не последовало каких-либо протестов или контрмер.
Аденауэр, однако, не терял надежды. Английское присутствие как минимум исключало перспективу французской оккупации и обеспечивало беспрепятственное поступление в город по речному пути какого-то количества продовольствия и топлива. Это уже было что-то. Кроме того, он видел, что отношения между двумя союзниками далеки от сердечности прежнего времени. Англичане и французы вели диалог, но, так сказать, с зубовным скрежетом. Даже такие мелкие вопросы, как транзит через Кёльн французских воинских эшелонов, вызывали споры и конфликты. Для немецкой стороны это открывало определенные возможности.
В разговорах с англичанами Аденауэр старался делать упор на исторических аналогиях, которые явно были способны вызвать у собеседников неприятные ассоциации. В ответ за заданный ему Пигготом вопрос о том, как он оценивает ситуацию (дело было в марте 1923 года), бургомистр заявил: «Для Германии вряд ли можно представить себе что-либо худшее». Прогноз его звучал не менее мрачно: «Франция покончит с Германией; Европа вернется к наполеоновским временам; главными государствами останутся Англия, Франция и Россия». С точки зрения английского дипломата, такая перспектива также могла восприниматься не иначе, как катастрофическая, однако, вполне вероятно, тот воспринял изложенный ему алармистский сценарий просто как тактический прием, рассчитанный на то, чтобы подтолкнуть англичан к активным контрдействиям.
По мысли Аденауэра, англичане могли выдвинуть перед французами идею перемирия. Франция вывела бы из Рура свои войска, но могла бы оставить там своих гражданских чиновников; в свою очередь, Германия прекратила бы «пассивное сопротивление». Страсти с обеих сторон улеглись бы, и можно было бы начать серьезные переговоры по вопросу о Руре и репарациях. В мире, основанном на доводах разума, эта схема имела свои достоинства. Увы, тогдашний мир был далек от господства разума: все стороны вели себя иррационально. Американцы в знак протеста против франко-бельгийской акции вывели остатки своего оккупационного контингента, к вящей радости французов, опять-таки охотно заполнивших создавшийся вакуум. Правительство Куно в Берлине, казалось, было больше озабочено угрозой со стороны Польши, чем событиями в Руре, и вообще быстро теряло контроль над событиями в стране.
Но менее всего рациональности было в действиях и публичных выступлениях Пуанкаре. «Германия тщетно будет ждать от нас малейших колебаний, – заявил он иод бурные аплодисменты собравшихся на открытие военного мемориала в Дюнкерке. – Франция пойдет избранным ею путем до конца». Немецкая пресса как в оккупированной, так и в неоккуиированной частях Германии была настроена крайне националистически; но поводу репараций мнение было единодушным: «Мы не заплатим ни пфеннига». В этих условиях компромиссный план Аденауэра не имел никаких шансов на успех.
В апреле официальный Лондон решился наконец сказать свое слово. Выступая в палате лордов, Керзон, тщательно выбирая выражения, чтобы сохранить флер беспристрастности, предложил передать репарационный вопрос на арбитраж нейтральной стороне. Правительство рейха выразило одобрение этой идее, рассматривая ее как косвенную поддержку своей позиции. Однако Куно и здесь умудрился все испортить: он заявил, что его страна примет услуги арбитра, но только в том случае, если в его мандат будет входить исключительно рассмотрение вопроса о снижении суммы репараций. Заранее ограничить свободу мнения арбитра – это было нечто новое в международном праве, неудивительно, что никто не принял ответ Куно всерьез. Он только сыграл на руку жесткой линии Пуанкаре, который заявил, что не будет рассматривать вообще никаких предложений немецкой стороны до тех пор, пока она не прекратит «пассивное сопротивление». Керзон в частном порядке выразил недовольство французским премьером: он «не способен ни на благородный жест, ни на разумную идею», – но этим все и ограничилось. Тупик был полный. К концу мая Аденауэр окончательно отчаялся в своих попытках добиться каких-либо подвижек на уровне высокой политики.
Он решил сосредоточиться на городских делах. Через своего старого спонсора Луиса Хагена он сумел организовать поставку овощей и фруктов из Голландии и баварских владений в Пфальце. Через Гуго Стиннеса он начал переговоры о поставках угля. С англичанами он договорился, что те обеспечат беспрепятственное прохождение предназначенных для Кёльна грузов по Рейну. Он действовал при этом как настоящий диктатор. В 1923 году в повестке дня городского собрания одиннадцать раз фигурировали пункты о «дефиците» – порой просто, порой с эпитетами тина «острый», «растущий» и т.д. Аденауэр редко брал там слово, предпочитая переносить дискуссии в разного рода комиссии и комитеты: его устраивало отсутствие гласности. Когда он все-таки выступал, это были»., как правило, резкие отповеди депутатам. В середине июня, например, когда обсуждался вопрос о повышении тарифов на пользование банями и на больничное обслуживание, он отмел все доводы против: можете сколько угодно возмущаться, но если вся финансовая система рушится, то это не может не сказаться и на банях с больницами, сухо констатировал он.
Кстати сказать, ситуацию в Кёльне в сравнении, например, с тем, что творилось в Руре, можно было считать относительно терпимой. Зарплату и жалованье выдавали теперь каждый день, а с апреля, когда гиперинфляция пошла но нарастающей, даже дважды в день. Рабочие и служащие получили право на специальный перерыв в середине рабочего дня, чтобы успеть отовариться, пока полученные денежные знаки еще сохраняют какую-то покупательную способность. Кёльн, как и ряд других городов, получил от Рейхсбанка право самому печатать банкноты в размерах, необходимых для поддержания денежного оборота. Печатные станки работали вовсю, выпуская бумажки, ценность которых непрерывно падала; на каждой из них красовалась зато личная подпись бургомистра. Аденауэр развернул программу общественных работ, захватившую не только общественный, но и частный сектор.
В Кёльне воцарилась атмосфера своеобразного пира во время чумы. Деньги, коль скоро они появлялись, надо было побыстрее истратить, и все, что оставалось от обеда, торопились спустить в ресторанчиках, кафе или просто забегаловках, которые буквально усеяли набережную. В моду вошел завезенный из Америки чарльстон; шлягеры отличались фривольным подтекстом: «Да, с бананами сегодня туговато», «Мой попугай не ест крутые яйца»; особенной популярностью пользовался глупейший набор рифм под названием «Мейер в Гималаях». Бургомистр неодобрительно относился к такому упадку нравов.
Впрочем, эта картина беззаботного прожигания жизни скрывала за собой печальные факты: средний класс потерял все свои сбережения, медицинская помощь стала недоступной роскошью, кривая самоубийств резко пошла вверх, обычными стали случаи смерти от голода и дистрофии. В конце октября 30 тысяч кёльнцев получали бесплатные обеды – эта благотворительная акция была организована по специальному распоряжению бургомистра.
Однако были и те, кому создавшаяся катастрофическая ситуация давала шансы на быстрое обогащение. К числу таковых принадлежал и один из новых спонсоров и почитателей Аденауэра, упоминавшийся уже магнат Гуго Стиннес. Его метод был очень прост: используя в качестве залога свои шахты, он брал большие кредиты, на которые скупал активы фирм, испытывавших финансовые трудности, банки, органы печати, под эти приобретения брал новые кредиты, расплачиваясь из них за старые обесцененной валютой и продолжая скупать все, что попадалось иод руку, и так далее, причем чем больше была инфляция, тем быстрее вращалась эта карусель, тем богаче становился Стиннес. Когда в 1924 году он неожиданно умер, обнаружилось, что, помимо шахт, в его империю входило 150 газет и журналов, 69 строительных компаний, 66 химических, бумагоделательных и сахарных заводов, 57 банковских и страховых обществ, 83 железнодорожные и пароходные компании и еще более сотни различных предприятий. По случаю его смерти немецкий юмористический журнал «Симплициссимус» поместил карикатуру, на которой святой Петр в ужасе взывает к архангелам: «Стиннес у ворот! Не зевайте, ребята, а то через неделю он станет нашим хозяином!»
Насколько быстро и напористо действовал Стиннес, настолько неповоротливо и неэффективно работала финансовая система рейха. Сложная цепочка Рейхсбанк – земельные банки – региональные казначейства была создана, казалось, с единственной целью – кормить огромный бюрократический аппарат и поелику возможно тормозить прохождение перечисляемых средств. В условиях инфляции это приводило к многочисленным курьезным ситуациям. К примеру, в начале 1923 года Прусский государственный банк выделил четыре миллиарда марок в качестве аванса для уплаты процентов по облигациям, которые еще только планировались к выпуску. Тратить их было нельзя, и они легли мертвым грузом, пока их не сожрала инфляция. С другой стороны, банк согласился принимать кредитные сертификаты, которые выпускались местными властями, используя их затем в качестве залога, чтобы брать кредит у местных казначейств, которые, в свою очередь, не имели никаких иных средств, кроме тех, которые получали от того же центрального банка. Получалось, что взаймы брали у самих себя!
Выход из этого замкнутого круга был один – печатный станок. Уже к концу весны 1923 года фабрики, выпускавшие банкноты, перешли на круглосуточный режим работы, без праздников и выходных. Ежедневная потребность для Кёльна и юкруги составляла восемь – десять миллиардов марок, местных мощностей для их выпуска не хватало, приходилось целыми вагонами доставлять марки из Берлина. Для того чтобы уплатить репарационной комиссии за транзит, понадобилось семь служащих, которые перетаскивали коробки с банкнотами. Зарплату уносили в ведрах и мешках. Зато британские солдаты обнаружили, что могут себе позволить бутылку шампанского меньше, чем за два пенса.
К середине июля за доллар давали уже четыре миллиарда марок, и ее курс продолжал быстро падать. К этому времени французы заподозрили, что марки, которые Кёльн получал из Берлина, тайным образом переправляются в Рур для оплаты тех, кто осуществлял «пассивное сопротивление». Английскому представителю в Верховном комиссариате с трудом удалось предотвратить введение эмбарго на транзит поездов с денежными знаками из Берлина в Кёльн. Кстати, в сентябре выяснилось, что правительство рейха действительно подпитывало «пассивное сопротивление», используя весьма хитроумную схему: на самолетах британской компании «Инстоун Эрлайнс» банкноты доставлялись в Амстердам, оттуда переправлялись в банки Трира, Кобленца и Аахена, через которые но тайным каналам они попадали, наконец, в Рур. Разумеется, накладные расходы на такие операции были чудовищно велики, и это еще больше перенапрягало германскую экономику.
К концу лета экономическая ситуация в Кёльне еще более ухудшилась. Новый урожай не принес облегчения: цены, даже с учетом индексации, непрерывно росли, особенно на картофель. На оккупированной территории вспыхивали волнения, полиция не справлялась; в Золинген для наведения порядка пришлось послать роту английских солдат. Последней каплей стала стачка берлинских печатников в начале августа. Станки остановились, банкноты из центра перестали поступать в Кёльн, и местные служащие, трамвайщики, строители, медсестры, не получившие своей ежедневной зарплаты, тоже отказались выходить на работу. Это была катастрофа. В городе начали циркулировать слухи, что для Кёльна лучше всего было бы получить статус «вольного города» но типу того, что был предоставлен Данцигу, и что этот проект вот-вот станет реальностью. Аденауэр выступил с официальным опровержением, но это не помогло. В остальном Рейнланде вновь оживились сепаратисты. В архиве британской части Верховного комиссариата сохранилась датированная 25 августа запись беседы с представителем немецкой полиции; тот сообщил, что «не может предсказать, что будет даже через две недели; если марка еще упадет, рост мятежей неизбежен».
В Берлине, впрочем, ситуация была не лучше. И августа социал-демократы в рейхстаге выразили недоверие правительству Куно. Оно пало.
Новым канцлером стал Густав Штреземан. Для президента Эберта это был отнюдь не очевидный выбор. Штреземан был хорошим оратором, умевшим в своей риторике использовать разные регистры – от острого сарказма до возвышенного пафоса, – но он возглавлял самую немногочисленную фракцию Германской народной партии. Помимо всего прочего, он был берлинец до мозга костей (его отец был владельцем небольшого пивного заведения в рабочем квартале на Кепеникштрассе), и его чисто берлинский юмор порой не всеми воспринимался адекватно. У него была крайне невыразительная внешность: маленький лысый человечек, некоторые говорили, что он похож на стареющего официанта-итальянца.








