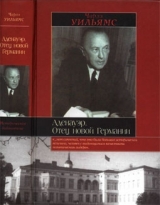
Текст книги "Аденауэр. Отец новой Германии"
Автор книги: Чарлз Уильямс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
Аденауэр между тем отбыл в очередной отпуск. На этот раз его сопровождала старшая дочь Рия, и отправились они в Швейцарию, в горную деревушку Мюррен. Место было выбрано не случайно. Недалеко была Женева, так что западногерманские наблюдатели, присутствовавшие на конференции, могли оперативно докладывать канцлеру обо всем, что представляло интерес; правда, добраться до места назначения им было нелегко: автомобильной дороги к Мюррену не было, и последний участок пути приходилось преодолевать на фуникулере. Зато,отпускник мог вволю насладиться чудесными видами на вершины Юнгфрау, Эйгера и Менха; погода, в общем, благоприятствовала отдыху, хотя Аденауэр, как обычно, жаловался на частые дожди.
У подножия гор, в знойной Женеве, участники конференции не могли похвастаться особыми достижениями. Советские представители в частных беседах держались подчеркнуто дружелюбно, у того же Макмиллана осталось в памяти, как они «с явным наслаждением говорили о том, что теперь им не нужно работать но ночам, как при Сталине, что у них теперь нормальный рабочий день». Однако в ходе рабочих заседаний они ни на шаг не отступали от явно заранее выработанных директив, не уступая ни буквы в своих длиннейших текстах. Что касается американской делегации, то Эйзенхауэр, как представляется, не особенно вникал в детали происходившего, а Даллес запомнился тем, что, будучи в гостях на вилле у Идена, «поедал одно за другим вареные яйца... ел и в промежутках выдавливал из себя одно-два слова, так что мы успевали забыть, с чего он начал» (это красочное описание тоже из дневника Макмиллана). У Фора было одно преимущество, которому завидовали другие, – он хорошо знал русский язык и мог объясняться с советскими представителями без переводчика. Но и он не многого добился. В конце концов Булганин откровенно заявил, что ратификация Парижских соглашений сделала беспредметной дискуссию о воссоединении Германии, поскольку имеются два отдельных германских государства, каждое со своей собственной экономической и общественной системой. Был только один конкретный результат, заслуживающий упоминания: министрам иностранных дел было дано поручение выработать самим для себя директивы для следующей конференции, где им предстояло вновь заняться германской проблемой. Она должна была состояться осенью и пройти в той же Женеве.
Текст директивы, представленной руководителям делегаций и одобренной ими, был выдержан в обычном стиле дипломатических актов, где внешние многозначительность и помпезность скрывают убогость содержания. Там говорилось, что «главы правительств, признавая свою общую ответственность за разрешение германского вопроса и воссоединение Германии, согласились, что разрешение германского вопроса и воссоединение Германии посредством свободных выборов должно быть осуществлено в соответствии с национальными интересами германского народа и интересами европейской безопасности». Обычно это называется – наводить тень на плетень. Всем, впрочем, было ясно, что подлинного согласия достичь все равно не удастся: Советы никогда не пойдут на воссоединение
Германии, если она останется в НАТО, а западные державы никогда не пойдут на такое решение германского вопроса, предварительным условием которого был бы выход ФРГ из НАТО.
Начавшаяся в октябре женевская конференция министров иностранных дел, как и предполагалось, быстро зашла в тупик. Еще раньше стал проходить и аденауэровский «кошмар Потсдама». Чтобы четыре державы договорились между собой у него за спиной – такой вариант стал менее вероятным, чем когда-либо. Теперь в своем уединении посреди вершин бернского горного массива Аденауэр мог обратить свои мысли к предстоявшему ему визиту в Москву.
Подумать было о чем. Аденауэр знал очень мало о Советском Союзе и еще меньше – о его лидерах. Не знал он, и о чем, собственно, придется вести переговоры. Конечно, он представлял себе, какое наследство в национальной памяти обеих стран оставили две мировые войны и те жестокости, которыми они сопровождались.
Одна из причин, побудивших его принять предложение о поездке в Москву, была как раз связана с последствиями войны. Речь шла о проблеме немецких военнопленных, все еще удерживаемых советской стороной. Но он, очевидно, не догадывался, что эта проблема по-своему беспокоила и советское руководство. До конца 1949 года было репатриировано около двух миллионов военнопленных; оставались те, кто получил длительные сроки заключения но приговорам советских военных трибуналов либо за совершенные ими в период войны тяжкие преступления, либо за «антисоветскую деятельность» – формула, которая зачастую означала не более чем излишне откровенные высказывания но поводу тягот лагерной жизни. Именно эта последняя категория и представляла собой проблему. После смерти Сталина советское руководство начало предпринимать определенные шаги но ее решению. Часть заключенных была амнистирована и передана властям ГДР. Оставалось еще примерно десять тысяч продолжавших отбывать свои сроки. В начале 1955 года имели место попытки завязать диалог о их судьбе с социал-демократической оппозицией, но Аденауэр, получив информацию о предварительных зондажных контактах по этому поводу, немедленно обратился к Верховным комиссарам западных держав с просьбой воспретить социал-демократическим политикам такого рода контакты. Верховные комиссары так и сделали, а социал-демократы покорно повиновались. Диалога не получилось. Впрочем, еще в июле 1955 года Центральный Комитет КПСС принял секретное решение освободить «осужденных преступников» в качестве жеста доброй воли в связи с предстоящим приездом западногерманского канцлера. Тот, разумеется, об этом не знал.
Если Аденауэр располагал минимальной информацией о Советах, то Советы имели еще меньше достоверных сведений о нем и его политическом лице. Поначалу там и не очень интересовались данными о нем, делая ставку на социал-демократическую оппозицию, но постепенно советские лидеры стали приходить к пониманию того факта, что если они хотят наладить отношения с Западной Германией, то им придется иметь дело не с кем-нибудь, а именно с Аденауэром. Корректировка ранее сложившегося представления о нем была нелегким процессом. Поначалу соответствующие характеристики носили на себе явный отпечаток сталинистских штампов. В одном из документов Советской контрольной комиссии, датированном 24 апреля 1953 года, главное, что говорится об Аденауэре, – это то, что он тесно связан «с западногерманскими монополистическими кругами», а свое лидерство в ХДС обеспечивает «путем установления террористического режима в партии, угроз, шантажа и подкупа отдельных оппозиционно настроенных членов партии, а также усиленного рекламирования мнимых успехов (своей) политики». В другой справке, от 17 августа того же года, воспроизводится прежняя формула, правда, с исключением пассажа насчет «террористического режима», изъятием эпитета «мнимые» перед словом «успехи» и добавлением, что «подавлять внутрипартийные противоречия, рост оппозиционных настроений» Аденауэру удается еще и путем «использования своего авторитета». Шаг к более реалистической оценке личности канцлера, как видим, был сделан, но еще очень небольшой.
Тон высказываний об Аденауэре в закрытых информационных материалах советских экспертов по Германии меняется примерно с середины 1954 года. В справке, посланной из аппарата советского Верховного комиссара 6 июля, отмечается, что Аденауэр «заявил о возможности установления в недалеком будущем дипломатических отношений между СССР и Западной Германией», однако «через неделю вынужден был под прямым давлением американцев... заявить, что во. внешнеполитической позиции боннского правительства по отношению к Советскому Союзу не произошло каких-либо изменений». Здесь уже западногерманский канцлер фигурирует почти как сторонник улучшения отношений с СССР, которому-де помешали коварные американцы. В справке от 27 декабря 1954 года, носившей название «О движении за нормализацию отношений с Советским Союзом в Западной Германии», есть такой пассаж: «Слова В.М. Молотова, содержавшиеся в его речи в Берлине 6 октября с.г. о том, что имеется немало оснований к тому, чтобы отношения Советского Союза и Федеративной Республики Германии также начали развиваться на более здоровой основе, оказывают свое воздействие на широкие круги западногерманской общественности. После подписания Парижских соглашений Аденауэр заявил в Мюнхене, что, как только будут осуществлены эти соглашения, тогда, само собой разумеется, снова будет германский посол в Москве». Справка заканчивается бравурным выводом насчет того, что «наиболее дальновидные западногерманские буржуазные деятели все более убеждаются в том, что Западная Германия сможет упрочить свое положение и освободиться от кабальной зависимости от США только при наличии деловых связей и нормализации политических отношений с Советским Союзом и другими странами демократического лагеря». Аденауэр, пусть косвенным образом, также, видимо, был причислен к этой категории. Наконец, в записке от 22 января 1955 года признается, что «Аденауэр, которому с помощью средств массовой информации создана репутация «величайшего германского политика после Бисмарка», пользуется значительным личным авторитетом среди членов и сторонников ХДС».
В Политбюро ЦК КПСС явно сочли недостаточной такую отрывочную и во многом противоречивую информацию о западногерманском лидере и поручили одному из самых авторитетных специалистов но Германии в МИДе, Валентину Фалину, написать подробный биографический очерк о нем. Подготовленный продукт его творчества поначалу представлял собой пухлый том, затем, пройдя через несколько рук, он сократился до сотни страниц и в таком виде был разослан членам Политбюро. По словам одного из них, Анастаса Микояна, он читался как детективный роман. Накануне визита в Москву прибыла представительная делегация асов западногерманской журналистики, включавшая Ганса Церера из «Ди вельт», Карла Герольда из «Франк-фуртер рундшау» и Ганса-Ульриха Кемиски из «Зюддейче цейтунг». Полный отчет о беседах с ними был также послан высшему советскому руководству.
В Кремле ждали визита с определенным подъемом, в западных столицах и в ГДР с явным неодобрением, а в Бонне по этому поводу царил самый настоящий ажиотаж. Понадобилось два лайнера «Локхид-Суиерконстеллейшн», чтобы доставить официальную делегацию и сопровождавших ее лиц в Москву. Еще свыше семидесяти журналистов прибыли для освещения визита поездом. Для встречи делегации в аэропорт Внуково 8 сентября прибыли Булганин с Молотовым в сопровождении доброй половины членов Политбюро, выстроившихся в порядке, соответствующем их статусу. Почетный караул был одет в форму царской личной охраны – неизвестно, кто придумал такой маскарад, напоминавший сцену из какой-то старой оперетки. Эккардт в своих мемуарах охарактеризовал событие как «путешествие в незнаемое», и это вряд ли можно назвать преувеличением.
Аденауэр отнесся к подбору членов делегации самым тщательным образом. Он включил в нее не только министров своего кабинета, но и председателя и вице-председателя внешнеполитической комиссии бундестага – Курта-Георга Кизингера (ХДС) и Карло Шмида (СДПГ), а также председателя соответствующей комиссии бундесрата Карла Арнольда; всех их сопровождал штат советников и экспертов. Таким образом он явно пытался избежать обвинения в единоличном и узкопартийном подходе к серьезной внешнеполитической инициативе, исход которой заранее невозможно было предугадать. Делегацию разместили в гостинице «Советская»; по московским стандартам это было нечто запредельно роскошное, однако руководитель политического департамента МИДа ФРГ Вильгельм Греве отозвался о предоставленной делегации резиденции как об «отеле среднего класса, с уровнем комфорта прошлого века и обстановкой под вкус мелкого буржуа». Поезд с журналистами, проехавший пол-Евроиы, был поставлен на запасной путь невдалеке от Курского вокзала; нельзя сказать, чтобы это было идеальное прибежище для представителей прессы, но главное его назначение было в ином: там, в специально оборудованном против прослушивания вагоне, разместился рабочий штаб делегации с радио– и телефонным узлом связи, машбюро и т.д.; кроме того, к поезду был прицеплен вагон-ресторан, где немецкие гости могли вкушать родную и привычную им пищу.
Переговоры шли шесть дней. Начались они с грандиозного приема, устроенного в честь делегации в первый день ее пребывания на московской земле. Утром гостей ожидал сверхплотный завтрак; на столах красовались огромные судки с икрой. Каждый день после окончания заседаний следовал банкет, потом, после небольшого перерыва – либо еще один ужин, либо посещение Большого театра. Естественно, все это сопровождалось обильными возлияниями, и одной из обязанностей Глобке было снабжать членов делегации перед приемами доброй дозой растительного масла в качестве средства против быстрого опьянения. Аденауэр, кстати, заметил, что сами хозяева вместо водки пьют минеральную воду, и начал настаивать на соблюдении принципа равенства сторон.
В целом, если подходить к оценке переговоров с точки зрения формальных критериев, единственным их результатом было установление дипломатических отношений и обмен послами. Было много длинных и бессвязных речей и пара-другая драматических сцен; во время одной из таковых Хрущев замахнулся на Аденауэра кулаком, а тот ответил столь же красноречивым жестом. Удивительно, что проблема, о которой Аденауэр говорил как о главной цели своего визита – репатриация немецких военнопленных, – почти не упоминалась в ходе официальных бесед. Когда она была затронута, Булганин отрезал: никаких ьоеннопленных в Советском Союзе нет; остались только обычные преступники, получившие от советского правосудия то, что они вполне заслужили. Лишь в самый последний день пребывания западногерманской делегации в СССР на заключительном приеме в Кремле тот же Булганин «неожиданно и как будто движимый каким-то внутренним импульсом» подошел к Аденауэру и предложил ему сделку: пусть Аденауэр напишет ему официальное письмо с просьбой об установлении дипломатических отношений, и тогда «мы отдадим их вам всех – всех до единого! В недельный срок! Даю вам честное слово!» Сцена была, мягко говоря, странная, и многие бывшие ее свидетелями заключили, что Булганину явно не помешало бы до приема выпить растительного масла но рецепту Глобке. На самом деле, как мы знаем, освобождение «военных преступников» было для советской стороны уже решенным делом, и речь шла лишь о выборе наиболее подходящего момента, чтобы выбросить на стол эту козырную карту.
По возвращении в Бонн Аденауэра встретил смешанный хор апологетов и критиков. Сообщение о скором прибытии последних пленников прошлой войны было воспринято с восторгом, однако слышались и голоса сомневающихся: разумно ли поступил канцлер, положившись всего лишь на «честное слово» советского премьера? Западные союзники были крайне недовольны: пойдя на установление дипломатических отношений с Советами, Аденауэр фактически признал необратимость раскола Германии– по меньшей мере на ближайшее обозримое будущее. В немецкой прессе этот тезис выражался проще и острее: Аденауэр просто-напросто «сдал» восточных немцев.
Окружение канцлера придумало контрманевр. Уже на борту возвращавшегося из Москвы лайнера с делегацией были намечены контуры того, что получило впоследствии название «доктрины Хальштейна». Речь шла о том, что наличие в одной и той же столице – Москве – двух немецких дипломатических представительств – ФРГ и ГДР – это исключение из общего правила, исключение, отражающее тот факт, что Советский Союз является одной из великих держав-победительниц, несущих на. себе ответственность за «Германию в целом»; это ничего не меняет в правовой позиции западногерманской стороны, согласно которой только ФРГ является единственным законным немецким государством, представляющим интересы и волю всех немцев; ФРГ не будет признавать никакие другие государства, имеющие дипломатические отношения с «восточнозональным режимом»; любое государство, которое в будущем вознамерится установить такие отношения, будут ожидать «серьезные последствия».
Ответ советской стороны был вполне предсказуем: через неделю после отлета из Москвы аденауэровской команды между СССР и ГДР был заключен договор, согласно которому дипломатические миссии обеих стран преобразовывались в посольства. Таким образом, в Москве оказывались не просто представительства двух германских государств, а представительства на одном и том же уровне – уровне посольств, максимально высоком по дипломатическому ранжиру. Претензия ФРГ на «единоличное представительство» еще больше обнаружила свою необоснованность и нереалистичность. Аденауэр воспринял это довольно спокойно, для него главное было быть в центре общественного внимания; хвалят его при этом или ругают – это было уже на втором плане.
В начале октября 1955 года первые эшелоны репатриантов из СССР стали прибывать в транзитный лагерь близ Касселя. К концу месяца этот поток неожиданно иссяк. Пресса злорадствовала: вот она – цена «честного слова» Булганина, вот она – мера наивности Аденауэра. В начале декабря с советской стороны пришло пояснение: дальнейшая репатриация будет приостановлена, пока не будут возвращены советские граждане, якобы насильственно удерживаемые в Западной Германии. Это была для канцлера весьма неприятная новость. В качестве жеста доброй воли он решил освободить группу русских – всего тридцать один человек, которые отбывали тюремное заключение на территории ФРГ; что касается остальных, то он четко заявил, что они находятся под защитой Организации Объединенных Наций и не могут быть лишены права оставаться в ФРГ либо выехать за ее пределы, но исключительно по собственному желанию. Дело грозило зайти в тупик, но тут русские, трудно понять по какой причине, вновь сменили свою тактику. К Рождеству прибытие эшелонов с репатриантами возобновилось. К концу января 1956 года процесс возвращения бывших немецких военнопленных из СССР завершился.
Между тем Аденауэра подстерегали новые проблемы. Одна была личной, другая – политической. Первая заключалась в неожиданном ухудшении состояния здоровья. Из Москвы он вернулся с сильной простудой, которая неожиданно перешла в острое двустороннее воспаление легких. С
7 октября но 23 ноября он был прикован к постели; режим у него был домашний, однако врачи установили круглосуточное наблюдение за ним в его рендорфском доме. Посещения больного были резко ограничены; более или менее регулярно у его постели появлялся оДин только Глобке; министров и даже вице-канцлера Франца Блюхера к нему не допускали, о чем пациент, впрочем, отнюдь не сожалел.
Одним из следствий его болезни стали нескончаемые спекуляции насчет того, что судьба Федеративной Республики находится в слабеющих руках больного и дряхлого старика, что дальше так не может продолжаться и т.д. и т.п. В прессе и на радио развернулась дискуссия но поводу предполагаемой даты отставки либо кончины канцлера и возможных кандидатур его преемника. В дискуссию оказались вовлечены даже министры его кабинета. Только к середине ноября, когда его здоровье пошло на поправку, сплетни и слухи стали постепенно утихать. Аденауэр, конечно же, взял на заметку тех из своих коллег, которые принимали участие в их распространении.
Политическая проблема возникла вновь из-за Саара. В октябре там прошел плебисцит по поводу принятия статута, предусматривавшего «европеизацию» этого региона. Официально Бонн призывал саарландцев проголосовать «за», однако две трети принявших участие в опросе проголосовали «против» и тем самым за вхождение в состав ФРГ. Это был результат, которого Аденауэр никак не хотел и не ждал. В лучшем случае это означало долгие и нудные переговоры с французами на предмет поисков нового решения вопроса о будущем Саара, в худшем – кризис в отношениях между обеими странами и соответственно отказ от проектов «Евратома» и ЕЭС.
Болезнь и неожиданное осложнение отношений с Францией усилили в Аденауэре свойственные ему всегда черты подозрительности и мизантропии. С председателем СвДП Томасом Делером он почти перестал разговаривать, еще
меньше он стал доверять Штраусу, о Брентано почти что во всеуслышание отзывался как о слабом и неэффективном министре, о Шеффере – как о человеке, вечно срывающем его планы; он начал критиковать Эрхарда за недопустимый и бездумный либерализм его экономической политики; в число не справляющихся со своими министерскими обязанностями попал и Теодор Бланк.
По правде говоря, многое в этой критике, если отвлечься от формы, в которую она выливалась, соответствовало действительности. Брентано на самом деле был слаб и не подходил для столь важного поста – министра иностранных дел, Шеффер как министр финансов тоже зачастую занимал обструкционистскую позицию. Не очень впечатлял и Бланк на посту министра обороны. Программа перевооружения, которую он курировал, сильно отставала от графика. К январю 1956 года иод ружьем должно было быть сто тысяч солдат и офицеров, фактически едва-едва набралась тысяча. В их распоряжении для обучения имелся всего один-единственный танк французского производства. Обмундированы они были кое-как, а жалованье получали намного меньшее, чем в гражданском секторе. Когда Аденауэр спустя две недели после того, как был пышно отпразднован его восьмидесятилетний юбилей, посетил первый учебный батальон бундесвера в Андернахе, перед ним предстала не особенно вдохновляющая картина: плац был окутан густым рейнским туманом, с которым почти сливались грязно-серые шеренги выстроившихся солдат, на флагштоке болталась какая-то мокрая тряпка, мало похожая на государственный флаг; было такое ощущение, что гости съехались на похороны, а не для того, чтобы отметить день рождения новой армии. Аденауэр надеялся, что она превзойдет старый вермахт (кстати, он употреблял именно это традиционное название вместо нового «бундесвер»), но об этом и речи быть не могло.
Февраль 1956 года принес новые огорчения, замедлившие процесс выздоровления канцлера. Во Франции к власти пришли социалисты во главе с Ги Молле и начали проводить агитацию за разоружение. К ним присоединились и англичане; в Париже и Лондоне начали курсировать планы «разъединения» армий противостоящих блоков и сокращения их численности. Как позднее охарактеризовал эту ситуацию Аденауэр в своих мемуарах, «французы и англичане требовали разоружения, а перед нами в Федеративной Республике стояла прямо противоположная задача – вооружаться». Особое раздражение у канцлера вызывала политика Великобритании: англичане не только запросили у Западной Германии финансовую помощь для содержания своей рейнской армии, что Аденауэр счел невероятной наглостью, но и выдвинули программу сокращения численности собственных вооруженных сил до 650 тысяч человек и установления потолков для армий прочих европейских стран, включая ФРГ, на уровне, не превышающем 150—200 тысяч. Как это сформулировал Бланкенхорн в своем меморандуме от 27 апреля 1956 года, Федеративная Республика в случае осуществления этих планов была бы обречена на статус «третьеразрядной державы». Неудивительно, что Аденауэр в этой обстановке не скупился на негативные оценки ведущих государственных деятелей Запада: Кристиан Пино, министр иностранных дел в правительстве Ги Молле, но его мнению, хочет снискать себе лавры «посредника между Востоком и Западом» и, стало быть, крайне ненадежен; Иден проявляет непростительные колебания; Даллес на его вкус оказался слишком «мягким», Аденауэр даже заподозрил его в намерении в удобный момент «сдать» западногерманского союзника.
Лечащие врачи, не удовлетворенные тем, как медленно идет у Аденауэра процесс выздоровления, настаивали на том, чтобы он немедленно взял отпуск; он уже почти согласился, но тут разразился неожиданный правительственный кризис в земле Северный Рейн-Вестфалия. 21 февраля 1956 года группа молодых депутатов ландтага от СвДП организовала вотум недоверия руководимому ХДС правительству Карла
Арнольда; к власти в земле пришла коалиция свободных демократов и социал-демократов. Событие было экстраординарное, и оно имело далеко идущие последствия на федеральном уровне.
23 февраля четверо министров от СвДП, представленных в аденауэровском кабинете, объявили о выходе из партии в знак протеста против того, что руководство свободных демократов санкционировало создание социал-либеральной коалиции в крупнейшей земле ФРГ. Они занялись организацией своей собственной партии, которая получила название «Свободной народной партии» (СНП). Из этой затеи, однако, ничего не вышло; их обвинили в том, что ради сохранения министерских постов они готовы на полную капитуляцию перед ХДС/ХСС; подавляющее большинство депутатов фракции СвДП в бундестаге (36 из 52) проголосовали за выход из правящей коалиции и переход в оппозицию.
Прямой угрозы канцлерству Аденауэра эти изменения в соотношении сил в парламенте не представляли: он располагал там большинством и без голосов мятежников из СвДП. Однако всего полтора года оставалось до новых выборов в бундестаг, и они могли принести с собой повторение дюссельдорфского прецедента на федеральном уровне. Реакция Аденауэра была предсказуемой: надо так организовать избирательную кампанию, чтобы она принесла решительную победу блоку ХДС/ХСС. Как писал Генрих Кроне, старый сподвижник Аденауэра, тот «никогда особенно не церемонился в выборе средств для поставленных им целей». В данном случае первое, что предпринял канцлер еще до дюссельдорфского переворота, – это вновь поставил вопрос об избирательной реформе; на это раз он выдвинул схему «иолуиропорциональной» системы, которая сильнее всего ударила бы по небольшим партиям, в частности, но свободным демократам. Однако лидер последних, Томас Делер, был достаточно проницательным политиком, чтобы раскусить суть аденауэровского плана; последовала страшная свара; впрочем, даже и среди христианских демократов имелись сомнения насчет мотивов, которые преследовал их лидер. Аденауэр вынужден был пойти на понятную; в конце февраля он предпринял попытку наладить контакт с Делером и оживить коалицию, но из этого ничего не получилось. Вновь стали раздаваться голоса о том, что Аденауэру пора уходить на покой.
Он так и сделал: в конце марта ушел, но не насовсем, а в рекомендованный ему врачами отпуск, который стал не самым лучшим из тех, что у него были в прошлом и что ожидали его в будущем. Эскулапы наложили вето на швейцарское высокогорье: еще не оправившиеся от воспаления легкие могли не выдержать разреженного горного воздуха. Аденауэру пришлось отправиться в Тичино, а затем – в соседнюю Аскону. Погода в конце марта была дождливой, мешали докучливые посетители (в частности, с ним захотели встретиться члены местного муниципалитета), единственным желанным гостем был только Пфердменгес. Аденауэра раздражали приставленные к нему и неотлучно сопровождавшие его два охранника, и плохое настроение отдыхающего не могло улучшить даже общество Либет, покорно исполнявшей роль дежурной компаньонки любимого папочки.
В конце апреля он вернулся в Бонн с таким чувством, будто вовсе и не отдыхал, а настоящий отдых только впереди. Его ждали неплохие новости: за то время, пока он был в отъезде, голоса фрондеров приумолкли, а образованный в Мессине комитет под руководством Спаака достиг немалого прогресса: были выработаны директивы для ведения переговоров о создании ЕЭС, которые теперь подлежали утверждению национальными парламентами «шестерки». Во Франции они были встречены, правда, бурными протестами, а в самой ФРГ оппозицию планам ЕЭС возглавил не кто иной, как министр экономики Эрхард, но мнению которого их реализация приведет лишь к бесконтрольному разрастанию евробюрократии; однако бундестаг на удивление быстро, всего после двух часов дебатов, принял рекомендации «комитета Спаака». Моннэ заранее сумел убедить социал-демократов, что европейская интеграция – вещь необходимая для достижения безопасности и стабильности, так что Аденауэр мог позволить себе ограничиться довольно короткой – но его меркам – речью в защиту нового проекта.
Тем не менее настроение у него не улучшалось. Из записи в дневнике Кроне от 14 мая 1956 года мы узнаем, что канцлер в это время «впервые стал высказываться в том духе, что он часто ощущает усталость и вообще сыт но горло своей должностью и своей работой». Возможно, его нервировали результаты опросов общественного мнения, которые показывали устойчивую тенденцию к падению его рейтинга. Причины были очевидны: чтобы обеспечить запланированный рост бундесвера, правительство ввело всеобщую воинскую повинность, что, мягко говоря, не добавило ему популярности. Чтобы успокоить социал-демократов дома и общественное мнение за рубежом, срок службы был снижен с предусматривавшихся первоначально восемнадцати месяцев до двенадцати, но это мало помогло. Вдобавок серьезно заболел министр обороны Бланк; к моменту, когда дебаты в бундестаге по вопросу о воинской повинности подходили к концу, он был почти на грани жизни и смерти.
Реорганизация кабинета представлялась неизбежной, но тут вмешался Штраус со свойственной ему бесцеремонностью и все испортил. 10 июля он добился аудиенции у канцлера, где без обиняков выложил карты на стол: планы развития бундесвера основывались на ошибочных расчетах; полмиллиона солдат и офицеров – это цифра из области фантастики; будет хорошо, если в среднесрочной перспективе удастся набрать сто тысяч; на больший контингент нет ни обмундирования, ни вооружения, ни казарм, ни полигонов; Бланк вообще банкрот, единственный выход – назначить на пост министра обороны его, Штрауса.
Такая наглость буквально взбесила Аденауэра. «Герр Штраус, – заявил он холодно-ядовитым тоном, – я вас выслушал. Теперь послушайте вы меня: пока я буду оставаться канцлером, вы никогда не будете министром обороны». Можно было бы усомниться в точности передачи слов канцлера, но их приводит в своих мемуарах как раз сам тогдашний его собеседник – Франц-Йозеф Штраус. Печальная истина состоит в том, что ни один из этих политиков не уступал другому в интенсивности чувств вражды и недоверия, которые они испытывали друг к другу. Говорили, что Штраус отзывался об Аденауэре (разумеется, за глаза) даже еще в более грубой форме, чем тот о нем, но это спорный вопрос. Как бы то ни было, демарш Штрауса привел к тому, что вопрос о реорганизации правительства был на время снят с повестки дня.








