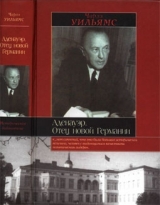
Текст книги "Аденауэр. Отец новой Германии"
Автор книги: Чарлз Уильямс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
Ряд замыкает Либет, которая показывает всем язык.
Самый яркий персонаж на снимке – это, безусловно, Рия. Высокая, с тонкими чертами лица – в мать, ее жест и поза легки и непринужденны. Она – явный центр всеобщего внимания. Только замыкающие на флангах заняты сами собой: старший Конрад ищет возможность отвратить воображаемый удар, а его младшая дочь изо всех сил старается привлечь к себе внимание – типичное поведение девочки ее возраста.
У Рии – все основания чувствовать себя, что называется, на коне. Она привлекательна и знает это. Она получила блестящее образование. И наконец, у нее есть жених. Его зовут Вальтер Рейнерс, он родом из Менхенгладбаха, по профессии – инженер, но самое главное – он владелец и управляющий процветающего семейного предприятия «Шлафхорст КГ», производящего текстильное оборудование.
Аденауэру избранник дочери явно симпатичен: ему всегда нравились преуспевающие бизнесмены. Был, возможно, и тайный расчет на то, что зять со своим инженерным образованием поможет ему в его изобретательской деятельности. Последовала помолвка, а на следующий год, 27 августа 1937 года, состоялся обряд официального бракосочетания, церковная церемония последовала несколькими днями спустя в Мария Лаах. В письме к Хейнеману от 6 августа Аденауэр отмечает, что дочь «сделала хороший выбор», но тут же признается, что ему «тяжело отпускать» ее. Звучит это несколько странно: Рия давно уже не жила вместе с отцом и мачехой. Очевидно, он имел в виду то, что, пока Рия была не замужем, отец был для нее самым близким человеком, а она для него – живым напоминанием об Эмме; теперь эта связь с прошлым окончательно разрывалась.
Во время регистрации брака разыгралась примечательная сцена. Чиновник-регистратор, как это тогда было принято, торжественно вручил новобрачной экземпляр гитлеровской «Майн кампф». Она передала книгу отцу. Даже двадцать лет спустя Аденауэр живо вспоминает этот момент и чувства, которые он тогда испытывал, – ему хотелось швырнуть прочь эту библию человеконенавистничества. Этого он, разумеется, не сделал, и никто не заметил его внутренних переживаний. Демонстрации были ни к чему.
Более того, если говорить о демонстративных актах, то, поскольку наш герой в то время совершал таковые, они могли лишь заслужить ему одобрительные кивки со стороны властей. В 1936 году его фамилия появляется в списках местной организации «Национал-социалистского народного благотворительного союза» (НСФ). Нацисты создали НСФ в 1933 году, включив в ее состав ранее существовавшие добровольные общества типа «Каритас» и Красный Крест. Разумеется, эта организация была далека от политики, но все же ее устав отражал некоторые основные посылки нацистской идеологии: евреи не могли быть ни ее членами, ни объектами благотворительной деятельности. Еще один характерный штрих к характеристике нашего героя: с 1937 года он стал употреблять в своих письмах концовку «С истинно немецким приветом» – это соответствовало официально рекомендуемому стилю. Это все были уступки, которые он считал допустимыми, меньшим злом в сравнении с прямым вступлением в ряды НСДАП – на этот шаг он не мог бы себя заставить пойти.
Свадьба Рии пришлась на самый пик строительной эпопеи, которая развертывалась на участке по Ценнигсвег, 8а, в
Рендорфе. Началась она с того, что свояк Аденауэра, брат Гусей, Эрнст, совладелец архитектурной фирмы в Ганновере, получил в начале 1937 года срочный заказ – подготовить рабочий проект со всеми чертежами и спецификациями. 12 февраля искомые материалы были готовы, последовало их подробное обсуждение, но требованию заказчика внесены соответствующие изменения, на что ушел еще месяц. 17 марта проектная документация была представлена на утверждение в контору городского архитектора Хоннефа. 10 апреля она вернулась со штампом «Одобрено строительной полицией» (в другой стране данное ведомство называлось бы скорее инспекцией, но в тогдашней Германии, куда ни ткнись, везде была полиция).
Еще до получения официального разрешения на строительство Аденауэр начал переговоры с потенциальными контракторами. В конце концов он остановился на строительной фирме «Рейнише баугезельшафт Гмбх фюр хох-унд тиф-бау», что примерно можно перевести, как «ООО Рейнское строительное общество но закладке фундаментов и возведению зданий». Контракт был подписан 1 апреля. Смета составлена на общую сумму в 28 тысяч 800 марок, оплата предусматривалась в несколько приемов, по мере представления счетов за материалы и выполненный объем работ, сроком окончания строительства было названо 1 октября 1937 года; архитектурный надзор должен был осуществлять доктор Фриц Вольфгартен, главным прорабом назначался профессор (!) Йозеф Пирлет.
С самого начала изнывавший от безделья заказчик принялся во все вмешиваться и мешать строителям. Довольно быстро выяснилось, что при проектировании не было учтено то обстоятельство, что участок расположен на крутом склоне и существует опасность оползней. Пирлет предложил окольцевать строительную площадку капитальной стеной, которая бы сдерживала возможные подвижки грунта. Аденауэр, естественно, возражал: дорого. С большим трудом Пирлету удалось настоять на своем; как оказалось, это спасло всю конструкцию от обрушения, когда в разгар работ почва в нескольких местах угрожающе просела.
С другой стороны, заказчик сам способствовал удорожанию строительства, непрерывно внося изменения в проект. То он захотел, чтобы терраса была из железобетона. То – чтобы при доме был гараж; заметим: при отсутствии машины и даже планов ее покупки. То – чтобы цокольный этаж был переоборудован в подвал, который можно было бы использовать и для хранения овощей и фруктов, и как бомбоубежище – с соответствующим усилением перекрытий и стен. Судя по датам утверждения в строительной инспекции соответствующих запросов, все они приходились уже на октябрь, когда дом, собственно, должен был быть уже готов. Так что речь шла не только об удорожании строительства, но и об удлинении его сроков, притом отнюдь не но вине строителей.
И что уж вообще способно было довести архитектора и прораба до бешенства – Аденауэр буквально с лупой в руках проверял все счета. Количество закупленных материалов, цены и расценки, даты заказа и поставки – он вникал во все, все сверял и все оспаривал. Однажды он устроил целый скандал по поводу того, что строители выписали слишком много, как ему показалось, гвоздей. Те счета, которые его чем-либо не устраивали, он просто отказывался проплачивать. Одному штукатуру пришлось даже пойти на то, чтобы предложить банку свои неоплаченные счета в обмен на наличные, естественно, с большой потерей для себя; иначе он просто не мог продолжить работу да и жить ему на что-то нужно было. Больше всех пострадал, однако, архитектор Вольфгартен. Даже двадцать лет спустя в нем все еще жива была обида на клиента, который недоплатил ему кругленькую сумму.
Аденауэровские усовершенствования и придирки привели к тому, что первоначальная смета оказалась намного превышенной (общие затраты составили 95 тысяч марок), а кроме того, стройка и к концу года оставалась далека от завершения. Впрочем, уже 6 декабря, как это следует из полицейских отчетов, семья Аденауэров въехала в новый дом. Это было странное новоселье: везде еще сновали рабочие, краска и штукатурка не просохли, пол в мусоре – возможно, расчет был на то, что ради того, чтобы избавиться от вездесущего ока хозяина, строители ускорят свой темп, но они и без того спешили: привередливый заказчик-надсмотрщик им изрядно надоел.
Как бы то ни было, семья постепенно стала осваиваться на новом месте. Каждый из четырех отпрысков получил по собственной комнате, выделены были также комнаты для трех старших – даже в их отсутствие их никто не занимал. Прибыли картины, среди них – «Мадонна с младенцем» и портрет английского короля Якова I голландской школы, а также та, которую глава семьи гордо называл «мой Рембрандт»; кто на самом деле автор этой картины, было далеко не очевидно, а главное, сам Аденауэр не имел, собственно, никакого отношения к ее приобретению: вся коллекция была частью приданого Эммы.
Новый дом был первым, о котором его хозяин мог с полным основанием сказать, что это его полная, священная и неприкосновенная собственность. Раньше он везде и всегда чувствовал себя, скорее, на положении жильца. Единственным исключением можно было бы считать период, когда он владел особняком на Макс-Брухштрассе, но и его покупка, и содержание были напрямую связаны с официальным статусом Аденауэра как вначале второго, а затем и первого лица в городе; без связанных с этим статусом привилегий он просто не мог бы себе этого позволить; потеряв пост бургомистра, он в известной степени закономерно потерял и дом. Теперь было все по-иному: и участок, и постройка – все было оплачено наличными, без каких-либо займов или кредитов, никто не мог упрекнуть собственника в использовании служебного положения; это был в полном смысле слова его – и больше ничей – дом.
Планировка и интерьер нового жилища многое могли сказать о характере его владельца. Все было очень, скажем так, по-спартански. Во всем доме имелась только одна более или менее большая комната – гостиная на первом этаже, остальные скорее заслуживали названия комнатушек. Это относилось и к собственному кабинету хозяина. Прихожая узкая – едва можно повернуться, входная дверь вполне подошла бы для какого-нибудь сарая. Чувствуется, что об удобстве для гостей не очень думали: дорожка к дому с улицы очень крутая, плиты ступеней предательски пошатывались.
Мебель более чем скромная и вдобавок не слишком удобная. В то время в округе возникло немало новых особняков – для Германии это был период относительного процветания; обстановка дома по Ценнигсвег, 8а, не выдерживала с ними никакого сравнения. Единственной уступкой требованиям дизайна и эстетики были драпировки-гардины на стенах, комплекс из трех примыкающих друг к другу помещений, которые предназначались для музицирования, а также множество деревянных фигурок святых по углам. В прихожей, в частности, гостей встречал – довольно неодобрительным взором, надо сказать, – святой Стурмий, канонизированный за свою миссионерскую деятельность в южной Германии в VIII веке.
В общем, дом производил такое впечатление, что хозяева не очень-то заботились о его внешнем виде и внутреннем устройстве. Это никак не относилось к прилегающему участку. Чувствовалось, что им занимались, и с любовью. Ряды тщательно выровненных террас точно следовали за изгибами рельефа, ручейки направлялись так, чтобы получались маленькие водопадики и фонтанчики, что придавало пейзажу нечто средиземноморское; планировка участка строго соответствовала требованиям агрономической науки: розарий на припеке, рододендроны – в тени и т.д. При разбивке плантации Аденауэр пользовался советами бывшего главного кёльнского садовника Йозефа Гиссена, однако в остальном это было его детище, к которому он никого больше не подпускал.
Самым привлекательным в новом доме было, пожалуй, его расположение. Позади – вулканические откосы Семи-горья с венчающей весь горный массив могучей «Скалой дракона» – ее хорошо видно с террасы. Прямо перед домом склон круто обрывается к Рейну, вдоль которого тянется цепочка строений и возвышается церквушка, по архитектуре ничем не примечательная, но внешне довольно изящная, – это собственно Рендорф. Ныне пространство между деревушкой и домом Аденауэров все застроено, новые дома и выросшие деревья закрывают вид на Рейн и хребет Эйфель по ту сторону, но тогда он был наверняка великолепен.
Постоянными обитателями дома были только двое супругов и их младшие дети, старшие к тому времени уже жили своей жизнью. Конрад делал успешную карьеру в АЭГ, часто выезжал за границу; к примеру, в ноябре того же 1937 года посетил Париж, инспектируя местный филиал компании. Макс провел несколько месяцев в США по приглашению в рамках университетских обменов; ездил туда «по студенческой визе», как Аденауэр об этом упомянул – с явной гордостью за сына – в очередном своем письме Хей-неману, датированном 25 ноября 1937 года. Потом для него начались поиски работы. О Рии уже говорилось: ее замужество оказалось вполне удачным.
В доме постоянно жила одна служанка, кроме того, Гусей время от времени но мере надобности приглашала на поденную работу женщин из Рендорфа; недостатка в желающих заработать несколько марок не было, даже учитывая нелегкий путь из деревни вверх но крутому склону. К домашней работе она привлекала, естественно, и дочерей.
Ритм в доме задавал хозяин. Он вставал рано и прежде всего обходил свой сад. Завтракали и ужинали на террасе, разумеется, по-прежнему в раз и навсегда заведенное время. Обедали уже в более формальной обстановке, в столовой.
Перед ужином глава семьи работал над своими изобретениями. Однажды какой-то гость заглянул к ним без предупреждения, и ему пришлось ждать аудиенции, поскольку, как ему объяснили, «между пятью и шестью господин обер-бургомистр изобретает».
Превращение Аденауэра в почтенного домовладельца и его явная удовлетворенность своим новым статусом, по-видимому, были должным образом оценены власть предержащими: облако подозрений, которое витало вокруг него начиная с 1933 года, стало рассеиваться. 13 января 1938 года до него дошло известие, что принято решение вновь вывесить его портрет в галерее Кёльнской ратуши. «Какой символический акт! Просто нет слов!» – пишет он, не скрывая радости, своему новому приятелю, историку-искусство-веду Буслею. Правда, визитеров из Кёльна по-прежнему немного – только Пфердменгесы и Шмиттманы. Однако появились новые знакомые: уже упомянутый Буслей с супругой, дантист из Бонна Йохан Фольмар – с ним и его супругой чета Аденауэров вместе отдыхали летом 1938 года. Все это были католические семьи, люди серьезные, не какие-нибудь болтуны.
И еще изменение к лучшему: Аденауэр стал «выездным». В январе 1938 года он с супругой съездил в Брюссель к Хейнеману. В июле того же года они впервые за много лет вновь посетили Шандолен; поездку для них и супругов Фольмар устроил старый знакомый Конрада, швейцарский консул в Кёльне Вейс. Они не ограничились пребыванием в заброшенной горной деревушке, а устроили для себя настоящий тур, посетив Базель, Монт-ре и, наконец, Лозанну, где они снова встретились с Хей-неманом. Эти рандеву с «добрым другом» были наверняка не случайными: можно предположить, что именно он и субсидировал заграничные путешествия Аденауэров, поскольку на обмен валюты тогда в Германии существовали строгие ограничения.
В общем очередной, 1938 год оказывается для Аденауэра и его семьи вполне благополучным. «В Швейцарии было великолепно», – пишет он Хервегену 19 августа. Сад тоже его утешает. Хорошее известие приходит от Рии: она ждет ребенка. Словом, обычные радости пенсионеров.
Однако в большом мире назревают серьезные события. В марте 1938 года происходит аншлюсе Австрии. Согласно дневниковой записи Буслея, наш герой выражает «глубокое удовлетворение» этим событием (позже он, разумеется, опишет свою реакцию в прямо противоположном виде). В сентябре Гитлер принимает в Бад-Годесберге британского премьер-министра Невилла Чемберлена, который соглашается на отторжение от Чехословакии Судетской области и передачу ее Германии. Много лет спустя в одном из интервью, данном в начале 1961 года, он скажет, что «был потрясен продемонстрированным Чемберленом непониманием сущности Гитлера и его партии». В то время, однако, его собственные представления были, мягко говоря, не столь однозначны. Тот же Буслей занес в свой дневник такие высказывания Аденауэра по поводу позорного мюнхенского сговора между Гитлером, Муссолини, Чемберленом и французским премьером Даладье, сделанные им во время совместного Чаепития 9 ноября 1938 года: «Колоссальный успех Гитлера – в истории Германии не было ничего подобного... Версаль окончательно рухнул... Полное поражение Парижа и Лондона».
Конечно, для политиков это обычное дело – приписывать себе задним числом мудрость и проницательность, которых на самом деле просто не было в природе. Свидетельствам современников следует доверять больше. В случае с Аденауэром эти свидетельства являют нам сложную картину. С одной стороны, нет оснований считать, что Аденауэр изменил свое мнение об основополагающих принципах нацистской идеологии и практики. Его комментарии язвительно-иронического свойства но поводу, положим, Берлинской олимпиады и Нюрнбергского съезда нацистской партии в 1936 году – достаточное тому доказательство. Вместе с тем трудно отрицать, что его буквально восхищали «достижения» Гитлера в сфере внешней политики. Двадцать пять лет спустя он вдруг вспомнил, что в январе 1939 года высказал в разговоре с генералом Гансом-Гюнтером фон Клюге нечто в том духе, что «это чистое безумие – полагать, что Германия может завоевать весь мир». Но сам Клюге был к тому времени давно мертв и не мог ни подтвердить, ни опровергнуть ни сам факт своего разговора с Аденауэром, ни упомянутых слов последнего. Сомнение в аутентичности источника из сферы «устной истории» в данном случае более чем оправданно.
У нас нет никаких данных, которые могли дать ответ на вопрос о том, какие эмоции в том же 1938 году вызывала у Аденауэра судьба немецких евреев. Он не мог не знать о том, что происходит. Закон «Об имперском гражданстве» от 15 сентября 1935 года, который, по существу, ставил «неарийцев» вне каких-либо правовых рамок, не был секретным: он был опубликован для всеобщего сведения и руководства. То же самое можно сказать по поводу закона «О защите немецкой крови и немецкой чести», который запрещал браки между немцами и евреями и объявлял преступлением внебрачные связи между ними, – он был опубликован в тот же день, что и первый. В августе 1936 года Гитлер в особом меморандуме изложил принцип, согласно которому за любой ущерб, нанесенный германской экономике действиями лиц еврейской национальности, ответственность должна нести вся еврейская община Германии, принцип, который лег в основу вскоре принятого распоряжения о тотальной конфискации банковских вкладов евреев в иностранной валюте.
Конечно, можно предположить, что у Аденауэра в 1935– 1936 годах хватало своих проблем и он мог просто не обратить внимания на эти юридические акты, которые его лично никак не касались. В применении к 1938 году этот довод уже не работает. Во-первых, личные проблемы для нашего героя к этому времени во многом утратили свою остроту, а во-вторых, самое главное – с июня этого года начался процесс тотальной «ариизации». Врачам-евреям было разослано уведомление, что к октябрю они должны прекратить свою практику. В сентябре аналогичное уведомление получили евреи-юристы. В октябре Геринг громогласно заявил, что «евреи должны быть полностью удалены из народного хозяйства». Наконец, 9 ноября произошел массовый общегерманский погром, получивший название «Хрустальной ночи», после чего на еврейскую общину была наложена контрибуция в один миллиард марок за «беспорядки», вызванные поджогами их же синагог и грабежом их же лавок. Два дня спустя был опубликован указ «Об устранении евреев из экономической жизни».
Уж на эти факты Аденауэр просто не мог не обратить внимания. Тем более что одна из подожженных синагог находилась в его родном Кёльне, руководство кёльнского банковского дома «Соломон Оппенгейм» взял на себя его друг Роберт Пфердменгес, соответственно изменив и название банка, а в Рендорфе закрылась лавка мясника-еврея, в которой семья покупала продукты. Что он об этом тогда думал, какова была его реакция на эти вопиющие акты произвола, остается загадкой. Разумеется, он не был антисемитом – достаточно вспомнить его связи с кёльнскими банкирами-евреями и отношения с Хейнеманом. После войны, когда стала известна вся правда о холокосте, Аденауэр произнес немало прочувствованных слов об ужасной судьбе соотече-ственников-евреев. Однако нет ни одного даже косвенного свидетельства, которое говорило бы о том, что он осуждал эти преступления тогда, когда они творились, хотя бы в ходе каких-то личных бесед с глазу на глаз. Возможно, как полагают некоторые исследователи, он, особенно после Мюнхена, окончательно уверился в том, что нацистскую систему террора ничем не остановить, что надо просто выждать, любой ценой выжить, чтобы потом, после ее неизбежного краха, начать процесс очищения и наказания виновных. Это соображение в какой-то мере объясняет его молчание. Можно предположить и другие мотивы; в конце концов католические иерархи после заключения конкордата приняли гитлеровский режим как священную и законную власть, а официальное отношение Ватикана к евреям определялось догмой о том, что они виновны в распятии Христа. Насколько эта, по сути, антисемитская позиция католической церкви влияла на глубоко верующего католика Аденауэра – это большой и пока не разрешенный вопрос.
В начале 1939-го поползли слухи о войне. В марте Германия потребовала от Польши возвращения Данцига. В ответ Чемберлен предоставил Польше англо-французскую гарантию от неспровоцированного нападения. 3 апреля Гитлер издал директиву о подготовке вооруженных сил к войне на уничтожение против Польши. 28 апреля он выступил с речью, где высмеял инициативу президента США Рузвельта, призвавшего Германию гарантировать целостность и неприкосновенность границ окружающих ее государств.
Затем в процессе неуклонно нараставшей напряженности наступила некоторая пауза. 11 августа Гитлер с похвальной откровенностью изложил свой план действий Верховному комиссару Лиги Наций в Данциге, Карлу Буркхарту: «...Все, что я делаю, направлено против России. Но если Запад настолько глуп и слеп, чтобы не понять этого, я буду вынужден договориться с русскими, разгромить Запад, а потом объединенными силами повернуться против Советского Союза». Все произошло как раз по этому сценарию. 23 августа министры иностранных дел СССР и Германии, Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп, подписали пакт о ненападении. На следующий день Гитлер заявил своим генералам: «Теперь Польша попала в ту западню, которую я для нее готовил... Боюсь только, чтобы в последний момент какая-нибудь свинья не сунулась с предложением о посредничестве». 1 сентября 1939 года немецкая армия вторглась на территорию Польши. Началась Вторая мировая война.
Что в это время делал наш герой? Еще в начале июля он с супругой, сыном Конрадом и молодой четой Рейнерс – Рией и Вальтером – едет на отдых в Швейцарию. 15 августа он пишет Хейнеману из Шандолена, что они планируют остаться там до 21-го, а потом отправиться в Глион, оттуда, возможно, в Женеву – и домой. Сроки их пребывания в Швейцарии, продолжает он, – это «вопрос франков», мягко намекая тем самым адресату, что тот мог бы прислать ему перевод, чтобы «немного продлить» его путешествие. Тот, кстати, так и сделал.
Однако планы оказываются нарушенными. Неделю с 1 по 8 сентября 1939 года Конрад и Гусей вынуждены провести в деревушке Шинцнах неподалеку от Базеля: в Швейцарии всеобщая мобилизация, железные дороги забиты воинскими эшелонами, все пассажирские поезда отменены.
Лишь 8 сентября они пересекают границу у Брегенца, проводят ночь в Линдау, на берегу Констанцского озера, откуда посылают Буслеям почтовую открытку с восторженным описанием куполов местной церкви и выражением надежды на скорую встречу. Никакой политики.
Однако в появившейся в 1955 году «авторизованной биографии» Аденауэра его поездка в Швейцарию летом 1939 года выглядит как хорошо рассчитанная операция, продиктованная заботой о собственной безопасности, и не только собственной. Согласно представленной там версии, где-то в начале лета он пригласил к себе своего старого знакомого Шмиттмана и в ходе разговора высказал мысль, что скоро начнется война, а с ней – аресты всех тех, кто в глазах нацистов мог считаться «подозрительными элементами». Оба они – и Аденауэр, и Шмиттман – наверняка в этом списке. Отсюда вывод: надо на время исчезнуть, переждать начало войны за границей, а потом – потом, когда все уляжется, – можно и вернуться. К сожалению, Шмиттманы не вняли этим рекомендациям; после отдыха в Австрии они вернулись в Кёльн, и глава семьи действительно был сразу же, 1 сентября, арестован, отправлен в концлагерь Заксен-хаузен, откуда вскоре пришло сообщение, что 13 сентября задержанный скончался от сердечной недостаточности. Сам же Аденауэр, вовремя укрывшись в Швейцарии, сумел избежать этой участи; позднее он узнал, что его фамилия действительно была в списке подлежащих немедленному аресту, но впоследствии ее вычеркнули. Словом, налицо лишнее доказательство мудрости нашего героя и опасности, которой он подвергался со стороны нацистского режима и которой буквально чудом сумел избежать.
Версия эта вряд ли может считаться убедительной. Все говорит за то, что он планировал вернуться в Рендорф к 1 сентября и застрял в Швейцарии на неделю исключительно из-за тамошних мобилизационных мероприятий. Помимо всего прочего, если бы он был в списке подлежащих аресту, неделя не играла никакой роли: его вполне могли бы арестовать сразу по прибытии на место постоянного жительства.
Истина заключается, видимо, в том, что Аденауэр, конечно, мог предполагать летом 1939 года, что война не за горами, он мог далее предполагать, что Шмиттман как-то связан с кругами Сопротивления и поэтому вполне мог посоветовать ему уехать и не возвращаться. С другой стороны, уехать самому и потом вернуться – зная, что его фамилия в «проскрипционном списке гестапо», – это было крайне нелогичное решение. Разумнее было бы остаться в Швейцарии. Тем не менее он вернулся, и ничего с ним не случилось. Единственное объяснение следует, видимо, искать в том простом предположении, что фамилия Аденауэра вопреки его позднейшим откровениям никогда не фигурировала в «проскрипционном списке гестапо». Его тактика – не высовываться, держаться от всего подальше – оправдала себя. В глазах нацистов он перестал считаться «подозрительным элементом».
ГЛАВА 5
ДАЛЕКАЯ ВОЙНА
«Я понял, что чем становишься старше, тем загадочнее для тебя люди и весь окружающий мир»23
В маленькой деревушке Рендорф первые месяцы мировой войны прошли относительно спокойно. Правда, время от времени случались перебои с продуктами, особенно в холодную зиму 1939—1940 годов, стал хуже работать транспорт – вот, пожалуй, и все. В семье Аденауэров возникали время от времени свои проблемы, с войной прямо не связанные. Пауль заболел скарлатиной, а через несколько недель в Берлине ту же инфекцию подхватил старший сын Конрад – довольно странное совпадение. Макс был призван в армию, в качестве лейтенанта танковых войск он участвовал в польской кампании, а йотом был переведен на голландскую границу. Рия с младенцем сперва оставалась в Менхенгладбахе, но к марту 1940 года уже готовилась тоже перебраться в Рендорф. Все четверо младших оставались дома, ходили в школу в Хоннефе. Сам глава семейства был полностью поглощен садом и изобретениями.
Увы, что касается последних, все по-прежнему оставалось на уровне хотя и оригинальных, но маловразумительных идей. К примеру, он «открыл» приспособление, при котором машинистка с помощью специального зеркальца могла одновременно видеть и текст, и клавиатуру. Беда была в том, что любая квалифицированная машинистка печатает вслепую, и ей такое хитрое устройство просто ни к чему. С другими «изобретениями» было не лучше.
Сад таких разочарований не приносил, но и в уходе за ним старший Аденауэр стал проявлять признаки некоей эксцентричности, обычной для мужчин, мягко говоря, не первой молодости. Он занашивал брюки до такой степени, что уже некуда было ставить новых заплат, притом упорно отказываясь от покупки новых. Откуда-то с чердака была извлечена старая соломенная шляпа, в которой владелец усадьбы обнаруживал некое хотя и отдаленное, но явное сходство с огородным пугалом.
Короче говоря, практически ничего не осталось от прежней властной и порой деспотической личности, которая некогда правила Кёльном как своей вотчиной. В первые месяцы Второй мировой войны перед нами – добродушный и мягкий старичок, полностью погруженный в дела своей семьи и своего хозяйства. Судьбоносные события большого мира затрагивали его как бы по касательной, если вообще затрагивали. 10 мая 1940 года, когда началось немецкое наступление во Франции, Бельгии и Голландии, Аденауэр был занят составлением письма в патентное бюро, в котором описывал свое очередное изобретение – распылитель для садового шланга. Это письмо было отправлено 31 мая – в тот день, когда в самом разгаре была эвакуация британских войск из Дюнкерка. Кстати сказать, именно под Дюнкерком был тяжело ранен его сын Макс. Пуля прошла рядом с сонной артерией, и врачи всерьез опасались за его жизнь. Отец об этом узнал, естественно, много позже: все его внимание было тогда приковано к саду – была пора цветения.
Однако война все более властно вторгалась в эту идиллию. «Мы тут особого беспокойства не испытываем. Но вот эти бедняги в Бонне уже пережили на этой неделе две неприятные ночи. Здорово бомбили речной порт в Нейсе... Мы до сих пор ничего не знаем о Максе», – пишет Аденауэр Рие 6 июня. Большая часть письма, правда, посвящена повседневным мелочам: у Гусей – сенная лихорадка, жарко и сухо, вишни будет мало, начинается клубника, расцветают розы; однако в конце письма – снова о войне. «К сентябрю Англию нужно оккупировать, иначе это придется
отложить до весны» – такова его оценка стратегических возможностей для Германии.
В этом письме четко отразились его тогдашнее настроение и образ мыслей. Внешне он вроде бы полностью поглощен своими изобретениями, садом и домашними делами, однако чувствуется, что положение аутсайдера явно тяготит его. «Ощущать, что ты еще что-то можешь, и не иметь возможности что-то сделать – с такой ситуацией мне очень трудно примириться», – жаловался Аденауэр в одном из личных писем, относящихся еще к марту 1940 года.
Отлучки из Рендорфа были редкостью: в конце июня он съездил навестить Макса, который долечивался в госпитале в швабском Гмюнде близ Штутгарта, а в октябре – в Дуйсбург на похороны своего старого кёльнского приятеля, промышленника Петера Клекнера, скончавшегося в почтенном возрасте семидесяти семи лет. На Рождество вся семья вновь собралась вместе. Из Берлина приехал Конрад, из Кенигсберга – своего нового места службы – Макс; он успел не только поправиться, но и обручиться с некоей Гизелой Клейн – «очень приятной девушкой из Кёльна», как ее охарактеризовал глава семейства. Пауль благополучно окончил гимназию и готовился к поступлению в семинарию, младшие были на каникулах. Не смогли приехать только Рия с мужем. -








