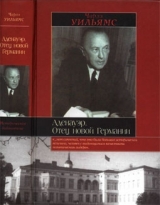
Текст книги "Аденауэр. Отец новой Германии"
Автор книги: Чарлз Уильямс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 41 страниц)
Все эти события развертывались отнюдь не в вакууме. На международной арене усиливалось противостояние Востока и Запада. В апреле – мае и июне – июле 1946 года в Париже прошли две сессии Совета министров иностранных дел четырех держав, где, в частности, рассматривался и германский вопрос. Единственным их результатом стало то, что американцы и англичане пришли к выводу: Советский Союз не собирается придерживаться совместной политики, согласованной в ходе Потсдамской конференции 1945 года. В этой ситуации американская сторона предложила английской объединить хозяйственные механизмы обеих зон. Англичане согласились. Так возникла Бизония – полу государственное образование с малоудачным названием, рождавшим ассоциации со стадом жвачных животных где-нибудь в прериях. Во время очередного заседания Зонального консультативного совета, проходившего в Гамбурге в августе 1946 года, заместитель военного губернатора генерал-лейтенант Брайан Робертсон сообщил Аденауэру эту новость. Очевидно, она была для него отнюдь не неприятной.
Весьма позитивно была воспринята им и речь государственного секретаря США Джеймса Бирнса, произнесенная им в Штутгарте 6 сентября того же года. По тону она резко отличалась от того, что немцы привыкли дотоле слышать от союзников. Чего стоила такая, например, тирада: «Американский народ желает помочь немецкому народу обрести почетный мир в обществе свободных и миролюбивых наций земного шара»28. Примерно такой же характер носило заявление, которое спустя месяц сделал в палате общин министр иностранных дел Великобритании Эрнст Бевин. Пожалуй, единственным диссонансом прозвучало решение французского правительства о фактической аннексии – впредь до подписания мирного договора – Саарской области.
Для Аденауэра вывод из этого международного положения был ясен: Германия скоро обретет более или менее независимый статус, и тем более важно, чтобы она подошла к этому рубежу уже сформировавшейся в духе его собственных представлений и образов. Другими словами – борьба и еще раз борьба, не только с Шумахером и его партией, но и с группировкой Кайзера – Леммера в собственной партии, с теми, кто их поддерживал и хотел сдвинуть Германию влево.
Однако как искусный тактик, Аденауэр умел выждать, на время отступить, пойти на компромисс, когда это диктовалось соображениями политической целесообразности. В апреле 1947 года предстояли выборы в ландтаг земли Серверный Рейн-Вестфалия, и обострение отношений между «правыми» и «левыми» в ХДС, между сторонниками «рен-дорфской» и «валлербергской» программ могло стоить партии многих голосов электората. Два человека – Альберс от «левого» профсоюзного крыла и Пфердменгес от «правого», представлявшего банковские и промышленные круги, – принялись под чутким руководством самого Аденауэра за выработку взаимно приемлемого компромисса. В начале февраля 1947 года продукт их коллективного творчества был представлен на обсуждение руководства ХДС британской зоны. Оно состоялось в маленьком шахтерском городке Ален в Вестфалии и закончилось единодушным одобрением представленного документа. Он получил название «Аленской программы».
Эта была программа весьма радикальных экономических и социальных преобразований. Важнейшие ее положения предусматривали перевод угольной промышленности в общественную собственность, введение антимонополистического законодательства и право рабочих на соучастие в управлении предприятиями. Аденауэр пошел на принятие этих положений с явной и единственной целью – утихомирить «левых» в своей партии. Тем, кто его знал, было ясно, что как только пройдут выборы, он сделает все, чтобы выхолостить «Аленскую программу», нейтрализовать ее радикальное содержание.
Так оно и случилось. Выборы дали небезынтересные результаты: ХДС завоевал 92 мандата из 216, СДПГ – 64, коммунисты (КПГ) – 28, Центр – 20 и либералы (СвДП) – 12. Партия Аденауэра оказалась на первом месте, но лично для Аденауэра это было равнозначно поражению. ХДС не имел абсолютного большинства и должен был идти на коалицию с социал-демократами и частью фракции Центра.
Аденауэр как руководитель фракции ХДС в ландтаге не мог этому воспрепятствовать. Министром-президентом стал Арнольд, к удовлетворению англичан и к вящему неудовольствию Аденауэра. Он остался как бы в стороне от реальной политики. Результатом был полный и окончательный разрыв личных связей между Арнольдом и Аденауэром и переход последнего к тактике закулисных интриг против нового правительства.
Первой жертвой этой тактики стала «Аленская программа». Формально Аденауэр как лидер фракции повел себя как лояльный исполнитель воли своей партии: он внес на обсуждение ландтага ни много ни мало – сразу три законопроекта, направленные, по его словам, на воплощение в жизнь утвержденных высшим партийным органом программных положений, правда, в несколько модифицированном виде, дабы сделать их, опять-таки по его словам, более понятными и приемлемыми для всех. Расчет был на то, что социал-демократов эти изменения не устроят и они внесут собственный проект, который будет предусматривать более радикальные меры по национализации. Так и случилось: социал-демократы попали в поставленную ловушку, развернулась долгая и нудная дискуссия: фракция СДПГ защищала свой проект, фракция ХДС – свой, никто не мог убедить друг друга, и все кончилось тупиком. «Аленская программа» оставалась официальным документом ХДС, но в интерпретации, которую дал ей ее лидер.
После этого блестяще разыгранного действа можно было и отдохнуть. В июне 1947 года, когда дебаты по новым законам в ландтаге еще только разворачивались, Аденауэр счел ситуацию достаточно предсказуемой, чтобы уехать в отпуск. Прошение о нем было подано в оккупационную администрацию сразу же после апрельских выборов, в качестве мотива специально упоминалась необходимость ухода за больной женой. К тому времени, когда англичане дали добро, в состоянии здоровья Гусей наступило некоторое улучшение, и супружеская пара, как в старые добрые времена, в приподнятом настроении отправилась в Шандолен, где провела три безмятежных недели. Это было их первое с 1939 года путешествие за пределы Германии. Они нашли, что Швейцария мало изменилась за это время. «В Шандолене почти все так же, как и раньше... Погода чудесная, повсюду такая красота... Все есть, только дорого», – пишет глава семьи дочери Рии и зятю Вальтеру Рейнерсам. Гусей от себя делает приписку: «Это как во сне! Время здесь как будто остановилось!» Письмо датировано 3 июля 1947 года. В Европе в это время развертываются драматические события, связанные с «планом Маршалла». За день до этого провалом закончилась парижская конференция министров иностранных дел Англии, Франции и СССР: советский министр Молотов покинул зал переговоров, отказавшись от дальнейшего обсуждения американской инициативы. Надвигалась холодная война.
Кризис наступил и в состоянии здоровья Гусей. Вскоре после возвращения из Швейцарии ее самочувствие резко ухудшилось. На коже вновь высыпала сыпь, к октябрю добавилась постоянная лихорадка. Был созван консилиум, который рекомендовал немедленную госпитализацию. Больная была помещена в боннский госпиталь Йоханнеса. Там ей сделали операцию но удалению зараженных тканей. Лотта и Либет несколько раз сдавали кровь, чтобы переливанием поддержать слабеющий организм матери. Однако инфекция не поддавалась лечению, заражение шло все глубже.
Зима принесла некоторое улучшение, сменившееся новым ухудшением, – и так несколько раз. Прибыл крупный медицинский авторитет из Швейцарии, еще несколько специалистов. Они делали, что могли. К новому году показалось, что больная вот-вот пойдет на поправку, но в начале февраля наступили необратимые изменения к худшему. Была сделана еще одна операция, предпринимались переливания крови – бесполезно. 1 марта очередной консилиум вынес свой приговор: больше ничего нельзя сделать. В этот же день больная впала в кому. 3 марта наступила смерть.
Панихиду устроили в Рендорфе, по этому печальному поводу вся семья впервые за долгое время собралась вместе. Вторая жена Аденауэра обрела вечный покой на том же тихом лесном кладбище, где была похоронена и Эмма. Их могилы оказались рядом.
Что можно сказать о Гусей в качестве эпитафии? Она была хорошей женой для своего мужа. Одна из ее невесток, Лола, нашла, пожалуй, самые подходящие слова: «Она жила не для себя, а для других, прежде всего для своего мужа и для своих детей. Она была такая простая, естественная, воплощение доброты и покоя». Что касается ее супруга, то его чувства к ней, конечно, отличались от тех, которые он испытывал к первой жене. Эмма была подругой его молодости, с ней он познал первую, еще юношескую, но всепоглощающую страсть. Гусей была надежной спутницей его зрелых лет, когда все по-иному – размереннее, спокойнее, без надрыва.
Характерный штрих – в последние месяцы жизни постоянно с Гусей были дети: сын Пауль – он ради этого на время оставил монастырь Мария Лаах, где готовился к посвящению в духовный сан, дочери Лотта и Либет, невестка Лола. Глава семьи появлялся у постели больной лишь время от времени. Его мысли были прикованы к политике: 15 декабря 1947 года безрезультатно закончилась очередная сессия Совета министров иностранных дел четырех держав в Лондоне, началась подготовка к конференции «шестерки» – США, Англии, Франции, Бельгии, Голландии и Люксембурга, которая должна была вновь заняться обсуждением германского вопроса – и вновь в Лондоне. Аденауэр напряженно размышлял, чем это все обернется для его страны, для его партии, для него лично. Он наверняка переживал за Гусей. Но – издалека. Трудно представить себе, с другой стороны, чтобы что-то могло помешать ему просиживать дни и ночи у постели умирающей Эммы в том далеком 1916-м. Два прочных, счастливых брака – а какая между ними разница!
ГЛАВА 3
НОВАЯ ГЕРМАНИЯ: НАЧАЛО
«Я счел совет (Робертсона) правильным: надо было заняться конкретными делами»29
Смерть близкого человека, даже если она не приходит неожиданно, всегда вызывает шок, зачастую сопровождающийся желанием уйти в себя, ни с кем не общаться, как бы отгородиться от всего мира. Всякое постороннее вмешательство, даже если это выражение сочувствия, способно вызвать реакцию раздражения и даже ярости. Так случилось и с Аденауэром. Уже на похоронах Гусей он резко оборвал одного из присутствовавших, который попытался завязать с ним проникновенную беседу. В последующие дни он вообще замкнулся; рассчитывать на общение с ним могли только те визитеры, у которых были не терпящие отлагательства дела.
Помимо боли утраты, у него были и другие причины для тяжких раздумий. При всей глубине его скорби после смерти первой жены тогда у него была перспектива вновь обрести и подругу жизни, и нормальную семью, что вскоре и стало реальностью. Теперь такой перспективы по понятным причинам не было и не могло быть. Предстояло как-то адаптироваться к мысли о том, что ему придется доживать свой век в одиночестве. Более того, его, вероятно, преследовало и определенное чувство вины за то, что он не смог уделить достаточно времени умирающей супруге, а возможно, и за то, что недоглядел за ней, когда она, борясь со своей депрессией, явно превысила допустимую дозу приема транквилизаторов.
С последним комплексом наш герой справился, во всяком случае, достаточно легко: он смог убедить себя, что болезнь Гусей началась еще тогда, когда она попала в руки гестапо, и с тех пор уже была обречена. С медицинской точки зрения это, разумеется, нонсенс: само но себе единичное отравление, даже такое тяжелое, которое Гусей перенесла в Браувейлере, не могло вызвать тех последствий для организма, которые привели к роковому концу. Дефицит лейкоцитов может быть только следствием длительного и все увеличивающегося употребления лекарства, которое она принимала в надежде справиться со своими нервами. Тем не менее даже в написанных много лет спустя мемуарах Аденауэр ио-прежнему утверждал, что его супруга уже к концу войны была «безнадежна больна» в результате пребывания в застенках гестапо. По-видимому, эта мысль его утешала.
Как и после смерти Эммы, вдовец стал уделять особое, подчеркнутое внимание дому, детям. Вновь возобновились совместные семейные трапезы в Рендорфе, однако обстановка их стала иной. Во время войны домочадцы привыкли к образу мягкого, внимательного и добродушного патриарха – «дедушки». Теперь им пришлось привыкать к совсем другой манере его поведения – холодновато-жесткой. Как писала впоследствии его невестка Лола, которая не без основания могла считать себя его любимицей, «если кому-то удавалось избежать уколов его сарказма, он мог считать, что ему на этот раз крупно повезло». Главу семейства теперь уже невозможно было представить себе в заплатанных штанах и дырявой соломенной шляпе; строгий темный костюм, длинное пальто, высокая шляпа – таков был теперь его обычный наряд. Неудивительно, что семейные застолья больше напоминали заседания кабинета министров.
К нему вернулись многие из тех качеств, которые были характерны для него в период деятельности в качестве кёльнского бургомистра. Вернулась агрессивность в ведении политической дискуссии – вернулась в новом качестве, на несколько регистров выше. То, что раньше было едкой иронией, превратилось в злобные инвективы, порой граничащие с вульгарностью. Личные атаки на оппонентов приобрели черты вендетты, притом не без применения грязных приемов политического оговора. К примеру, он распустил слух, будто его коллега по партии Якоб Кайзер поддерживает какие-то тайные контакты с сотрудниками советской военной администрации и вдобавок еще с бывшими генералами вермахта. Этого было достаточно, чтобы подорвать авторитет соперника как солидного и заслуживающего доверия политика, что Аденауэру и требовалось. В общем, можно сказать, что он не только усвоил правила политической игры, но и был готов играть вообще без правил.
Того же, что и от своих политических союзников – полного и абсолютного подчинения, – Аденауэр отныне требовал и от членов своей семьи. Неудивительно, что та же Лола констатировала, говоря о времени 1947—1948 годов: «Мой свекор стал совсем другим по сравнению с тем человеком, которого я знала когда-то, когда впервые с ним познакомилась». Его новым любимцем стал Пауль, и понятно почему: он от природы был из детей самым мягким по характеру, готовился принять сан, а с ним обеты безбрачия, бедности и терпения; последнее особенно было необходимо для любого, кто общался с «новым» Аденауэром, а для него, в свою очередь, это качество сына – способность безропотно сносить его агрессивные выходки – было, по-видимому, особенно ценным.
Не в оправдание нового стиля поведения нашего героя, но по крайней мере в качестве объяснения причин его возникновения можно привести то соображение, что события как на международном, так и на внутригерманском уровне развивались в то время с такой головокружительной быстротой, что от любого политика требовалась гигантская мобилизация интеллектуальной и нервной энергии, чтобы удержаться на гребне волны, не рухнуть вниз и не оказаться в конечном счете в мусорной яме истории. За штутгартской речью Бирнса последовала в марте 1947 года «доктрина Трумэна», с которой в международный лексикон вошло понятие «сдерживания», затем в июне, о чем уже говорилось, – «план Маршалла». Мир все более оказывался в тисках блоковой конфронтации.
Это соответствующим образом отражалось и в германской политике. Аденауэр одержал наконец окончательную победу над «восточным» ХДС – правда, не без помощи со стороны Советов, которые в декабре 1947 года отстранили Кайзера и Леммера с руководящих постов в партии под тем предлогом, что они не поддержали организованное коммунистами движение Немецкого народного конгресса. В восточной зоне развернулась кампания арестов функционеров ХДС; всего ее жертвами за период с 1948 по 1950 год стали не менее шестисот человек; аресты проводил пятый отдел уголовной полиции (К-5), который был создан советской военной администрацией для того, чтобы вылавливать укрывшихся нацистов, но фактически стал орудием расправы с политическими противниками режима; большинство арестованных оказались в советских лагерях. Политические соперники Аденауэра, таким образом, мало того что потеряли самостоятельную базу для своей деятельности, они лишились всяких доводов в защиту тезиса о возможности найти «средний путь» между Западом и Востоком; отныне чистой химерой была и идея о том, что ХДС должен управляться из Берлина.
В июне 1947 года во Франкфурте-на-Майне состоялось первое заседание Экономического совета Бизонии. Впервые за четырнадцать лет публика увидела поднятый по этому случаю черно-красно-золотой флаг германской республики; правда, провисел он недолго: американцы распорядились его снять, чтобы ни у кого не создалось впечатления, что оккупация заканчивается и немцы начинают восстанавливать свой суверенитет хотя бы в символической форме. Более исторически значимым событием этого заседания было решение фракции СДПГ отвергнуть коалицию с ХДС/ХСС и уйти в оппозицию. Не меньшую роль сыграло и принятие советом так называемых ие-реходных законоположений, согласно которым суверенитет земель ограничивался в пользу будущего федерального центра. Каким будет этот центр и какой будет федерация, оставалось неясным, но, по существу, это был уже шаг к суверенитету, по крайней мере в теории; важно, что оккупационные власти в отличие от истории с флагом на этот раз решили не возражать.
Самым острым политическим вопросом в Бизонии был в то время демонтаж промышленных предприятий. В октябре 1947 года обнародовали англо-американскую программу ликвидации военных заводов, к числу которых были отнесены не только те, которые изначально предназначались для производства вооружений, но и те, которые, не являясь таковыми, были в свое время переведены на выпуск военной продукции или выполняли военные заказы. Особенно сильно эта программа затронула предприятия британской зоны. Аденауэр оказался в числе самых активных ее противников. Учитывая то, что продуктов питания ио-прежнему не хватало, а индекс промышленного производства едва превышал треть от довоенного, демонтаж мог только обострить ситуацию. Сомнения по поводу разумности этой программы испытывали и в Лондоне; не кто иной, как лорд Пакенхэм, член кабинета, ответственный за германские дела, признавался задним числом в том, что в данной связи пережил «глубокий внутренний конфликт». Логика, которую использовал Аденауэр, была внешне безупречной: нельзя говорить об экономическом восстановлении Европы, которое предусматривалось «планом Маршалла», и одновременно взрывать немецкие заводы – одно исключает другое.
Наконец в феврале 1948 года, как раз когда болезнь Гусей вступила в критическую фазу, произошло событие, приковавшее к себе внимание всего мира (и, очевидно, заставившее Аденауэра на какое-то время если не забыть об умиравшей супруге, то, во всяком случае, как-то отодвинуть на задний план мысли о ней): коммунисты захватили власть в Чехословакии. А потом пошло-ноехало: последовало заключение договоров о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Советским Союзом и странами Восточной Европы; в марте советский представитель в Союзном контрольном совете маршал Соколовский («Соко», как несколько фамильярно именовали его между собой западные члены совета) демонстративно покинул его заседание, и совет фактически прекратил свое существование; в апреле советский истребитель «Як» врезался в английский самолет с пассажирами, когда тот заходил на посадку в западноберлинском аэропорту Гатов; обе стороны обменялись но этому поводу жесткими нотами протеста. Траектория отношений между Советами и западными оккупационными властями в Германии пошла резко – почти вертикально – вниз, к нулевой отметке. Ситуация приняла непредсказуемо опасный характер.
Она еще более обострилась, когда в Лондоне собралась очередная конференция по германскому вопросу, на которую демонстративно не был приглашен Советский Союз, незадолго до этого отказавшийся принять помощь по «плану Маршалла». Советы, естественно, восприняли свое исключение из круга стран, которые должны были определить будущее Германии, как провокацию – уход Соколовского с заседания контрольного совета как раз и был на нее ответом, который, в свою очередь, лишь усилил решимость Запада идти своим путем. Генерал Робертсон, ставший к тому времени из заместителей военным губернатором британской зоны (ранее этот пост номинально занимал маршал Шолто Дуглас), выступая 7 апреля в ландтаге земли Северный Рейн-Вестфалия, выразился с военной прямотой: «Вы должны идти вперед и обустраивать ту часть вашей страны, которая составляет большую ее часть и находится по эту сторону железного занавеса. Со временем и все остальное придет к вам. Мы предлагаем вам нашу добрую волю и сотрудничество». Как писал позднее Аденауэр, «эта речь нас сильно ободрила». Еще бы!
В это время на сцене появилась новая фигура, которой было суждено привлечь к себе внимание политиков – но крайней мере тех из них, которые интересовались экономикой, – Людвиг Эрхард. Поначалу его мало кто знал, и его взлет стал в известной мере делом случая. Первым директором Экономического совета Бизонии был представитель баварского ХСС Йоханнес Землер; наличие солидной партийной поддержки не спасло его, однако, от гнева американцев: он осмелился покритиковать их за то, что в качестве продовольственной помощи они поставляют кукурузу, которая в довоенной Германии шла в основном на корм домашней птице, притом требуя оплаты в твердой валюте. Особенно задело оккупантов замечание Землера насчет того, что уж если приходится принимать то, что дают, и платить столько, сколько требуют, то совсем лишнее рассыпаться в благодарностях таким благодетелям. Американский губернатор, генерал Льюшес Клей, немедленно уволил строптивца.
Аденауэр хотел было продвинуть на освободившееся место некоего Германа Пюндера, личность весьма бесцветную, а потому и неопасную. В дело вступил Пфердменгес, попытавшийся организовать кампанию в пользу Пюндера, но из этого ничего не вышло. Американцы предпочитали того, кого они знали, – Эрхарда. С их точки зрения, эта кандидатура имела ряд явных преимуществ. При нацистах он, уроженец Франконии, никак не «засветился», во время войны руководил в Нюрнберге каким-то институтом, о котором мало кто что знал, кроме того, что там вроде бы изучались долгосрочные экономические проблемы города. Он лично сочинил довольно скучный труд на тему военных долгов и экономической политики в побежденной стране. С апреля 1945-го до января 1947 года работал в органах временного самоуправления в Баварии, ничем себя особенно не проявив, а потом перешел на преподавательскую работу в Мюнхенский университет. Казалось бы, никаких особо благоприятных предпосылок для успешной политической карьеры.
Однако, очевидно, его идеи были для американцев достаточно привлекательными, и в октябре 1947 года «почетный профессор» Мюнхенского университета неожиданно оказывается в кресле руководителя «специального бюро по вопросам валюты и кредитов», созданного при Экономическом совете Бизонии. Истинное предназначение этого «бюро» держалось в строжайшем секрете: речь шла о подготовке денежной реформы в западных зонах. Эрхард с этой миссией успешно справился. Пятьсот тонн новых «дейчмарок», отпечатанных в США, были благополучно доставлены во Франкфурт, и 20 июня 1948 года новая марка стала единственным платежным средством в трех западных зонах, а позднее и в Западном Берлине.
Одновременно Эрхард, даже не проконсультировавшись с военными губернаторами союзников, своим единоличным актом отменил контроль над ценами. Клей пытался образумить авантюриста, заявив ему: «Мои советники говорят, что то, что вы сделали, страшная ошибка». Эрхард и не подумал отступать. «Господин генерал, не обращайте на них внимания. Мои советники говорят то же самое» – этот его остроумный ответ американскому проконсулу вошел в историю.
Аденауэр не сыграл какой-либо значительной роли в событиях, связанных с денежной реформой. Он был не очень сведущ в экономических расчетах и понимал свою слабость в этой области. Понял он и другое: импозантный Эрхард с его вечной сигарой будет для него идеальным партнером в качестве министра экономики, он возьмет на себя большую часть проблем, относящихся к внутренней политике, и даст ему, Аденауэру, возможность полностью сосредоточиться на международных делах. Пока об этом было рано говорить, эта мысль осталась как бы в глубине сознания – на будущее, но она уже созрела, и это была одна из самых верных мыслей, которые когда-либо посещали нашего героя.
Первой серьезной акцией Аденауэра на международной арене, если не считать нескольких случайных бесед с христианскими политиками из других европейских стран и интрижек с французами по поводу проекта «Рейнского государства» (мы упоминали о них выше), было его участие в Гаагском конгрессе движения за «единую Европу», который состоялся в начале мая 1948 года и на котором он возглавлял делегацию ХДС. Форум был достаточно масштабный: свыше восьмисот участников, из одной Великобритании делегация в сто сорок человек во главе с Уинстоном Черчиллем и с участием таких видных политиков, как Антони Иден и Гарольд Макмиллан; творческую интеллигенцию представляли дирижер Адриан Баулт и поэт Джон Мейсфилд. Из Бельгии приехал Поль-Анри Сиаак, из Франции – Леон Блюм и Эдуард Эррио, из Италии – Альчидо де Гасиери. Словом, аудитория была солидная.
Конгресс открылся вступительной речью Черчилля – длинной, прочувствованной, полной, естественно, всяких красивых фраз о единстве Европы. Он особо упомянул о присутствии представителей от Германии и приветствовал их в теплых выражениях. О сути германской проблемы он сказал ясно и четко: она состоит в том, чтобы «вдохнуть жизнь в экономику Германии и возродить прежнюю славу немецкой расы, не допуская в то же время восстановления ее военной мощи, которая стала бы новой угрозой соседям, у которых, как и всех нас, еще не зарубцевались раны от ее применения в прошлом». Черчилль удостоил Аденауэра личной аудиенции. Тот оценил этот жест по достоинству.
Фундаментального перелома в представлениях Аденауэра о Черчилле, разумеется, не произошло: он хорошо помнил высказывание британского экс-премьера о немцах: они «или лижут вам пятки, или хватают за горло». Тем не менее после окончания аудиенции он попросил лорда Пакенхэма, который также присутствовал на ней, передать свою «глубокую благодарность» Черчиллю и его сподвижникам, добавив: «Мы были узниками Гитлера, и, если бы не господин Черчилль, нас бы сейчас давно уже не было в живых». На вопрос Пакенхэма, почему он сам не сказал этого прямо во время беседы, Аденауэр ответил с достоинством: «Сейчас моя нация унижена, и если в такой момент говорить принародно о таких вещах, то это будет выглядеть мелким подхалимажем, попыткой подлизаться к победителю, что не в интересах моей страны». Так что «лизать пятки» наш герой не захотел. Более того, в письме старому знакомому еще по двадцатым годам, Сильвербергу, он отозвался о своем английском собеседнике довольно сдержанно: «Черчилль произвел на меня неплохое впечатление. Но он уже очень стар». Между прочим, Черчиллю было тогда семьдесят три года, а самому Аденауэру – «всего-навсего» семьдесят два – гигантская разница, конечно!
В целом Аденауэр имел все основания быть довольным результатами Гаагского конгресса, о чем он и сообщил на очередном заседании правления ХДС британской зоны. Он, в частности, выразил полное согласие с тезисом о том, что будущее Германии – в европейской федерации. В ней, по его словам, – «спасение для Европы, спасение для Германии». Вполне удовлетворял его и принцип наднациональности, согласно которому, говоря словами Гаагской декларации, «европейские нации должны передать в общее распоряжение некоторые из своих суверенных прав с тем, чтобы обеспечить осуществление необходимых совместных действий в сфере экономики и политики».
К этому времени у Аденауэра улучшились отношения с английскими оккупационными властями – по крайней мере в личном плане. С Робертсоном они приняли даже сердечный характер и позднее переросли в нечто близкое к настоящей дружбе. Аденауэр симпатизировал также лорду Пакенхэму – тот тоже был католик, как и он, и этот фактор играл немаловажную роль в достаточно теплых чувствах, которые они испытывали друг к другу. Когда Пакенхэм в конце мая 1948 года, получив новое назначение, покидал Германию, Аденауэр удостоил его даже приглашения на чашку чая в свой рендорфский дом. Тем не менее перемены были относительными, взаимные подозрения оставались.
Настоящий кризис наступил, когда 7 июня на прессконференции, созванной для ознакомления общественности с итогами только что завершившейся Лондонской конференции, были оглашены три «рекомендации», которые западные союзники адресовали немецким политикам в своих зонах: одна предусматривала созыв учредительного собрания для принятия конституции, другая – выработку оккупационного статута, который разграничил бы права и компетенцию между немецкими властями и военными губернаторами после вступления конституции в силу, и, наконец, третья – создание Международного органа по Руру, который регулировал бы производство и распределение продукции угольной и сталелитейной промышленности Рурского бассейна. Именно эта третья «рекомендация» стала для Аденауэра чем-то вроде красной тряпки для быка. Западники пытаются украсть у немцев их главную мастерскую – таков был лейтмотив его пылких обличений, даже вопрос о демонтаже отошел в них на второй план.
Между тем на подходе был уже куда более серьезный международный кризис – берлинский. Через две недели после обнародования «Лондонских соглашений» в западных зонах была проведена, о чем уже говорилось выше, денежная реформа, которая вызвала крайне резкую реакцию со стороны Советов. Началось то, что вошло в историю как «блокада Берлина». Западные союзники организовали воздушный мост из своих зон в Западный Берлин. Мир, казалось, висел на волоске, вот-вот могла разразиться Третья мировая война. Аденауэру до всего этого, казалось, не было никакого дела. Для него был один-единственный жупел: проектируемый Международный орган по Руру. «В сравнении с ним Версаль – это букет роз», – писал он, сознательно утрируя негативный характер западной инициативы. В действие была приведена партийная машина: через три дня после обнародования решений Лондонской конференции в Бад-Кенигштейне собрались функционеры земельных организаций ХДС обеих зон, входивших в Бизонию. Конференция, проходившая иод председательством Аденауэра, приняла заявление, в котором решительно отвергались касавшиеся Рура положения лондонских «рекомендаций». Аденауэр попытался даже войти в контакт с руководством СДПГ, чтобы начать общую кампанию протеста, однако Шумахер был болен, а в его отсутствие никто не решился взять не себя ответственность за важное политическое решение.








