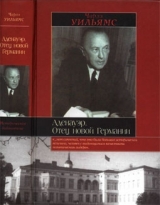
Текст книги "Аденауэр. Отец новой Германии"
Автор книги: Чарлз Уильямс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 41 страниц)
Первый допрос ей учинили в Хоннефе, а к вечеру того же дня Гусей перевели в кёльнскую штаб-квартиру гестапо. Камера, в которую ее поместили, была полна уголовницами – главным образом проститутками. Тусклый свет от электролампы под потолком, в углу – две параши, жуткий запах, одни девицы напевают, другие пританцовывают под доносящиеся сверху, из комнаты охраны, звуки радиолы. Легко себе представить шок, который испытала новая узница. Никогда в жизни она не оказывалась в такой обстановке и в таком обществе. Когда ее вызвали на допрос, она почувствовала даже нечто похожее на облегчение. Оно быстро прошло, когда она оказалась с глазу на глаз со следователем гестапо, комиссаром Ветке: он – за столом, в темноте, она – перед ним на прикрепленном к полу стуле, яркая лампа направлена ей прямо в лицо. Комиссар повторяет вопрос: где ее муж? Гусей отказывается отвечать; после долгого молчания, прерываемого лишь стуком карандаша по столу, следователь дает ей «доброжелательный» совет: подумать еще и одуматься. Ее уводят.
В камере за это время произошли кое-какие перемены. Танцы и пение прекратились, дамы разлеглись на полу, заняв своими телами все пространство, негде даже присесть – Гусей так и осталась стоять. Через два часа – новый вызов на допрос. На этот раз следователь сразу берет быка за рога: он спрашивает, сколько лет ее дочерям. «Девятнадцать и шестнадцать», – отвечает она почти механически. Следователь холодно излагает ей альтернативу: или она немедленно скажет ему, где скрывается ее муж, или ее усадьба будет конфискована, а обеих дочерей отправят туда, откуда она только что вышла, – в камеру к проституткам. Одной мысли, что ее дочери окажутся в ее положении и переживут то, что переживает она, – этого для матери более чем достаточно; она сдается и сообщает следователю все, чего тот от нее добивался. Для него она больше не представляет интереса: ее отправляют в только что переоборудованную из монастыря тюрьму в Браувейлере – местечке к западу от Кёльна.
На рассвете следующего дня, 25 сентября 1944 года, наряд из трех гестаповцев подкатывает к «Нистер Мюле». Разбуженный ревом мотора и мощным светом фар, направленных прямо на окно его номера, Аденауэр вскакивает с постели, хватает в охапку одежду и, как был, босиком и в чем мать родила, бросается на чердак: может быть, гестаповцы, не обнаружив его в комнате, решат, что он убежал в лес? Но те не дураки: они начинают тщательный обыск всего строения. Один из агентов поднимается на чердак – и вот в луче фонарика перед ним предстает согбенная фигура, пытающаяся укрыться за дымоходом. «Ну что же это вы так, господин бургомистр! В ваши ли годы по ночам голышом скакать?» – в голосе гестаповца мешаются ядовитый сарказм и глубокое удовлетворение от образцово проведенной операции.
Его доставляют туда же, куда и Гусей, – в Браувейлер, попутно со смаком разглагольствуя на тему о том, как его выдала собственная жена, и что, возможно, им представится случай повидаться за решеткой, и он тогда сможет утешиться тем, что хотя бы на словах воздаст ей по заслугам. Вероятно, это мыслилось как соль на раны жертвы. По прибытии в тюрьму Аденауэра ведут в каптерку, где у него забирают подтяжки, шнурки, галстук и перочинный нож. «Чтобы вы ничего с собой не сделали, – любезно поясняет присутствующий при сем гестаповский чин, – а то мне лишние неприятности». Аденауэр спрашивает, какие основания у того думать о нем как о потенциальном самоубийце. Он хорошо запомнил ответ гестаповца: мол, уже почти семьдесят, от жизни ждать больше нечего, на его месте тот бы предпочел покончить с собой. Камера, в которую его привели, – одиночка, зарешеченное окошко у потолка, маленький шкафчик, постель без матраца, без отопления, но по стандартам Браувейлера почти что люкс.
За ту неделю, что оба супруга вместе провели в Брау-вейлере, им действительно однажды устроили свидание. Гусей тяжело переживала то, что она сама считала актом предательства но отношению к мужу. Дважды она пыталась покончить с собой. Первый раз – приняв целую бутылку препарата от головной боли – пирамидона, но это лишь привело к сильному головокружению, не более того. Второй раз она выбрала другой способ уйти из жизни: в швейной мастерской, куда ее определили работать, она присмотрела большие портновские ножницы и, улучив момент, вонзила их в левое запястье. Ей удалось вскрыть одну из главных артерий, она потеряла много крови, но ее откачали. И вот, измученная телом и душой, с рукой в шине и на перевязи, вся в слезах, она предстала перед обожаемым мужем, по отношению к которому отныне и до конца своих дней не перестанет испытывать чувство глубокой вины. Тщетно тот пытался убедить ее в том, что она не могла поступить иначе, что он ничуть не изменил свое мнение о ней – ничто не помогало. Гусей фактически унесли обратно в камеру, а через несколько часов ей было объявлено, что получен приказ о ее освобождении.
Так удачно совпало, что в это время ее дочь Либет в поисках местопребывания родителей как раз добралась до Браувейлера, поэтому было кому помочь Гусей доехать до Рендорфа. Либет оставила трогательные воспоминания о том, какой она встретила мать по выходе из тюрьмы: «Она была бледная и вся какая-то вымотанная. Глаза – красные, воспаленные, опухшие от слез. Волосы, обычно такие ухоженные, висели космами, она просто собрала их на затылке и перевязала сапожным шнурком». Еще долго но возвращении домой она практически не могла общаться с окружающими – только односложные слова, выражающие эмоции беспокойства и страха. Добродушный юмор, заразительное веселье, ранее характерные для нее, безвозвратно остались в прошлом.
Для ее мужа тоже наступили тяжелые дни. Дни и хуже того – ночи, когда с нижнего этажа в камеру доносились крики пытаемых, когда он ежеминутно ждал, что вот-вот заскрипит ключ, откроется дверь и – «с вещами на выход»: в эшелон, направляющийся на восток, в лагерь смерти. Позднее он узнал, что его имя было в списке тех, кто был предназначен к «устранению»; спасло его, по-видимому, то обстоятельство, что ввиду приближения союзных войск кёльнская штаб-квартира гестапо была поспешно эвакуирована и вообще весь слаженный карательный аппарат Третьего рейха начал уже потихоньку разваливаться.
Родственники тем временем делали все, чтобы вызволить главу семейства из заточения. Удачный ход придумала Либет. Сразу же после ареста матери она отправила телеграмму сводному брату Максу, где, разумеется, тщательно выбирая выражения, чтобы не привлечь внимания цензуры, сумела сообщить о постигшем семью несчастье. Тот получил телеграмму в своей части 4 октября и сразу же подал рапорт о предоставлении ему отпуска по семейным обстоятельствам. Поначалу последовал отказ, но тут вмешалась его жена Гизела: она пошла прямо к непосредственному начальнику мужа и, без всяких экивоков изложив суть дела, добилась-таки положительного решения вопроса. 24 октября Макс получил отпускные документы, два дня спустя он уже был в Браувейлере.
Может показаться странным, но ему немедленно, без проволочек и придирок было разрешено свидание с отцом. Они провели три часа с глазу на глаз, без свидетелей. Вообще следует сказать, что к тому времени отношение к Аденауэру со стороны тюремных властей и следователей несколько смягчилось. Последние явно приняли его объяснения на тот счет, что он не имел ничего общего с заговорщиками 20 июля. Тюремный врач прописал ему перевод в отапливаемую камеру, дополнительное питание и ежедневные прогулки. Ему стали выдавать книги для чтения, бумагу и карандаш.
В ходе беседы между отцом и сыном был выработан следующий план: Макс поедет в Берлин и попытается использовать личные связи, чтобы облегчить участь узника Браувейлера, а в случае неудачи обратится прямо в центральную штаб-квартиру гестапо на Принц-Альбрехтштрассе. Так он и сделал. Ни личные контакты, ни посещение 2 ноября главного здания гестапо не принесли прямого успеха. Однако на Принц-Альбрехтштрассе ходатаю подсказали другой адрес и другое учреждение, в чьих руках, как оказалось, было следствие по делу Аденауэра. На следующий день Макс отправился туда. К тому времени следствие уже фактически сняло обвинение в участии в заговоре против фюрера, оставался лишь пункт о побеге с места заключения, что трактовалось как косвенное признание подследственным своей вины (по логике: если невиновен, то сиди и не рыпайся). Но тут Макс ввел в дело аргумент, который они с отцом общими усилиями сформулировали в виде риторического вопроса: «Как может себя чувствовать солдат на поле боя, если узнает, что в тылу ни за что просто хватают и сажают старика отца?» А ведь в данном случае речь идет даже о трех таких солдатах: трое сыновей Конрада Аденауэра доблестно сражаются с врагом, и они вправе требовать справедливости. Этот ли аргумент подействовал или что иное, но факт остается фактом: Макс добился приказа о незамедлительном освобождении отца из заключения.
26 ноября 1944 года Аденауэр наконец вышел на свободу, правда, без подтяжек, шнурков и галстука, затерявшихся в тюремном складе. Ему удалось найти какой-то фургон, водитель которого пообещал ему подбросить его до Рендор-фа. Они объехали Кёльн во избежание всяких случайностей, пересекли Рейн в Бонне; добравшись до Кенигсвинтера, Аденауэр решил позвонить домой и предупредить о своем скором прибытии. Однако напрямую проехать оказалось невозможным: дожди превратили дорогу вдоль Рейна в сплошное месиво, пришлось выбрать кружной путь – через Семигорье, в результате чего фургон подъехал к дому с противоположной, южной стороны, через Хоннеф. Домашние к тому времени уже решили, что глава семьи уже после своего телефонного звонка напоролся на какую-нибудь заставу и его снова арестовали. Тем радостнее была встреча, когда поздним вечером изрядно утомившийся путник добрался наконец до родного очага.
Теперь главное было продержаться, не привлекая ничьего внимания, до прихода союзников. Лучше всего было бы, конечно, вообще не выходить за пределы усадьбы, но жизнь диктовало иное. В январе 1945 года Лола рожает второго ребенка. До и после родов Аденауэр с Гусей совершают ежедневные пешие вылазки из Рендорфа в Хоннеф и обратно, чтобы навестить невестку. Каждые пять минут – остановка: у Гусей нестерпимые боли. Транспорта нет: пассажирское движение но железной дороге прекращено, машины стоят из-за отсутствия бензина. Издали доносится гром артиллерийской канонады. Лола выписывается из родильного дома досрочно, домой приходится добираться с новорожденным сыном пешком. В Рендорфе все-таки вроде бы безопаснее, именно поэтому туда перебирается и Рия с двумя своими чадами – это случилось еще раньше, буквально через день после возвращения главы семьи из Брау-вейлера.
В марте началось наконец долгожданное наступление союзников. По мнению Аденауэра, оно должно было бы развиваться по двум направлениям: на севере англичане, считал он, будут двигаться через бельгийские равнины на Рур, на юге американцы – на Майнц и дальше на Франкфурт, в результате район Рендорфа, расположенный как раз посередине между этими двумя клиньями, окажется вне зоны активных военных действий. Эти размышления делают честь стратегу-дилетанту: именно таковы и были первоначальные планы англо-американцев. Однако, как часто бывает в истории, вмешался случай. 7 марта танковый разведотряд американской армии вышел к Рейну у железнодорожного моста в Ремагене; к удивлению американцев, мост был целехонек и его охраняла всего-навсего пехотная рота, окопавшаяся на правом берегу. Завязался бой, он длился до вечера и закончился тем, что немцы были отброшены, мост достался американцам и через него на восток хлынули колонны из бронетанковых соединений. 9 марта в доме Аденауэров раздался телефонный звонок от сестры из Ункеля, она взволнованно сообщила: «Мы уже свободны... Здесь у нас американцы...»
Аденауэр быстро оценил изменение военной ситуации и сделал свои выводы, опять-таки вполне корректные: американцы наверняка постараются расширить свой плацдарм у Ремагена (захват Ункеля – явный признак этого намерения) и продвинуться в направлении автобана Кёльн – Франкфурт, идущего с севера на юг сразу же за Семигорьем. Рендорф, расположенный на западных отрогах Семигорья, оказывался, таким образом, как раз на направлении главного удара американских войск. Аденауэру была знакома тактика американцев: прежде чем двинуть вперед танки или пехоту, они так обрабатывали передний край противника авиацией и артиллерией, что там живого места не оставалось. Последствия для дома по Ценнигсвег, 8а, и его обитателей нетрудно было себе представить.
Подвал в цокольном этаже дома срочно переоборудовали в бомбоубежище. Туда начали сносить стулья, матрацы, одеяла, создавался запас продуктов. 9 марта к дому стал приближаться вал артиллерийского огня. К вечеру снаряды ложились уже совсем близко. Около четырех утра 10-го дом весь вздрогнул от близкого разрыва тяжелого снаряда. Это повторилось еще несколько раз. Глава семейства, Гусей и Георг поспешно спустились в подвал-бункер (остальные члены семьи уже давно были там). В любой момент дом мог быть накрыт прямым попаданием.
На рассвете обстрел закончился. Вышедший на рекогносцировку Аденауэр увидел следующую картину: немецкая линия обороны отодвинулась дальше и выше по склонам Семигорья, их дом оказался как бы на ничейной территории, впрочем, ниже их дома, недалеко от рендорфской церкви, на боевой позиции ио-прежнему стоял немецкий танк. День прошел тихо, без происшествий, если не считать появления пятерки французов из соседнего концлагеря, среди них был старый знакомый Луи, вскапывавший когда-то землю на аденауэровском участке. Беглецы искали убежища. В душе Аденауэра боролись соображения разумного эгоизма и заповеди христианской этики; в результате был достигнут компромисс: французам было разрешено укрыться в сарае, а в подвал они могли спускаться только чтобы поесть.
Вечером американцы возобновили обстрел, дом опять затрясло. Утром Конрад и Гусей выбрались из подвала сварить картошки. Не успели они завершить это дело и спуститься с котелками вниз, как раздался страшный удар: снаряд попал прямо в дом – была полностью разрушена одна из спальных комнат и рухнул весь угол здания. Во второй половине дня – еще одно прямое попадание в дом, вырвало с корнем несколько деревьев в саду. Когда стало смеркаться, пятерка французов вышла из сарая и начала проситься в подвал. Аденауэр смилостивился: совесть христианина победила все прочие мотивы. Население подвала увеличилось до девятнадцати человек.
«Битва за Рендорф» продолжалась около недели. Каждый день начинался для Аденауэра с обзора местности; он поднимался до верхней кромки садового участка, проводил рекогносцировку и сообщал домочадцам о происшедших изменениях в тактической обстановке. Больше никому не разрешалось даже высунуть носа из бункера. Американские артиллеристы-наблюдатели скоро заметили странную фигуру на противоположном берегу реки. На всякий случай решили выпустить но этой цели несколько снарядов. Они легли совсем рядом с ним, как он позднее утверждал, в нескольких метрах, а один он даже якобы успел увидеть в полете!
Битва закончилась негласным перемирием, достигнутым благодаря посреднической миссии швейцарского консула Вейса – его загородный дом, напомним, был неподалеку. Размахивая своим государственным флагом вместо белого, он явился в расположение американских войск в качестве парламентера, взывая к гуманности: вокруг полно госпиталей с ранеными, продолжение обстрела приведет к массовой гибели беззащитных людей. Убедил. Немецких военачальников он, в свою очередь, убедил отвести войска с позиций на Скале дракона; взамен им были даны гарантии, что они могут спокойно подобрать и эвакуировать своих раненых. Район расположения госпиталей объявлялся «нейтральной зоной». Для Рендорфа и усадьбы Аденауэров это означало чудесное спасение. 15 марта обитатели бункера окончательно выбрались на поверхность, по улицам грохотали американские танки. Младший из Аденауэров, Георг, нашел самые подходящие к случаю слова: «Войне конец!»
Чудеса на этом не кончились. На следующий день, 16 марта, около трех часов дня пополудни, – был чудесный весенний денек – перед калиткой усадьбы по Ценнигсвег, 8а, остановился американский армейский джип. Из него вышли бургомистр Хоннефа и два офицера. Группа направилась вверх к дому. Аденауэр в это время был занят беседой с искусствоведом Вернером Боршхеймом. Офицеры извинились за вторжение, представились: подполковник Тьюес, капитан Эмерсон; они прибыли по поручению военного губернатора Кёльна, генерал-лейтенанта Джона Паттерсона, чтобы пригласить доктора Аденауэра возобновить исполнение обязанностей бургомистра этого города.
Едва придя в себя от изумления, хозяин пригласил американских эмиссаров в дом; бургомистр Хоннефа поспешно откланялся, считая свою миссию законченной; оставшись наедине с американцами в гостиной, Аденауэр поблагодарил их за чрезвычайно лестное предложение и твердо заявил, что ни в коем случае не может его принять. Теперь очередь изумиться была за его собеседниками. Они попытались переубедить упрямого старика. Тот попросил Гусей зайти и принять участие в разговоре. Она внимательно выслушала аргументы гостей и поддержала решение мужа. Почему он не может принять на себя предложение американских военных властей? Да очень просто: у них трое сыновей в армии, им придется отвечать за своего отца-коллабора-циониста. Их могут и расстрелять. На этом дискуссия закончилась. Американцы засобирались в обратную дорогу. Напоследок они задали ему дежурный вопрос: чем он думает заняться? Ответ прозвучал несколько высокопарно: «Внедрять в немецкий народ идеи мира». За этой помпезной фразой скрывалась простая мысль: Кёльн – слишком узкая база для его будущей деятельности. Правда, позднее он говорил своей секретарше, что занять вновь пост бургомистра Кёльна было тогда верхом его мечтаний, но нет особых оснований принимать это откровение за чистую монету.
В конце концов наш герой согласился принять участие в деле восстановления родного города в качестве советника американской администрации. Он сделал это под влиянием тех аргументов, которые изложил ему один из адъютантов Паттерсона, капитан Швейцер. Сам архитектор по образованию, этот американский офицер сумел затронуть некие чувствительные струны в душе Аденауэра, напомнив ему о его собственных планах преобразования облика города, которыми тот увлекался в 20-е годы. Посетивший Аденауэра кардинал Фрингс тоже уговаривал его не отвергать с порога предложения американцев. В том же духе «обрабатывал» его и свояк – муж сестры Лили, Вилли Зут. Швейцеру удалось уговорить чету Аденауэров совершить трехдневную ознакомительную поездку но Кёльну за счет американской казны.
Она началась 27 марта и стала своего рода эмоциональным катарсисом для супругов. Им дали возможность осмотреть бывшее здание гестапо на Аниельхоф-платц, заглянуть в кабинет их истязателя, комиссара Ветке, с еще висевшим там на стене портретом Гейдриха. Аденауэр сорвал его и швырнул на пол так, что посыпались осколки стекла. Его завезли и на Макс-Брухштрассе, он печально оглядел обгорелые развалины своего шикарного особняка. Не больше радости доставил и осмотр разрушенного центра города. Единственное утешение доставило посещение кладбища в Мелатене: могилы родителей и Эммы остались в целости и сохранности.
Аденауэр решился: он сделает все, что в его силах; должность бургомистра примет на себя его свояк, Вилли
Зут, сам он будет считаться его советником вплоть до окончания войны, а йотом возьмет бразды правления в свои руки не только фактически, но и формально. 3 мая состоялось его официальное назначение на пост бургомистра. Это было своего рода возвращение к пройденному, и именно поэтому оно не могло полностью удовлетворить нашего героя. Он понимал, что на помощь победителей вряд ли стоит особенно уповать: поведение американских солдат по отношению к немцам хотя бы в том же Рендорфе не оставляло почвы для иллюзий. Понимал он и то, что возродить Кёльн из праха – это задача для представителя нового поколения, никак не для семидесятилетнего старца.
Еще до того, как принять предложение стать бургомистром Кёльна, он поделился с одним младшим офицером армии США своими сокровенными мыслями о будущем Германии. В разговоре с лейтенантом Джастом Ланнингом, который состоялся 28 марта 1945 года, он говорил о двух Германиях: с одной стороны – это Германия, «фундаментом которой является наследие романской культуры», с другой – та, в которой господствует дух пруссачества, «навязывающего немцам свою волю». Идеальным вариантом, с его точки зрения, было бы государственное образование, «объединяющее в себе Австрию, такие части Пруссии, как Рейнланд и Вестфалия, а также южногерманские территории». Таким образом, считал он, можно будет «нейтрализовать негерманское влияние Пруссии».
Это была уже четкая и законченная политическая программа. Германия Гитлера ушла в прошлое. Наступало время для Германии Аденауэра. Характерный штришок личности нового кумира: с приходом американцев французские пленные, укрывавшиеся в бункере его рендорф-ского дома, собрались домой. Хозяин остановил их: пусть они вначале оставят расписки в том, что жили и укрывались у него и не имеют к нему никаких претензий. Так, на всякий случай.
ЧАСТЬ IV
ГЕРМАНИЯ АДЕНАУЭРА
ГЛАВА 1
ВЫШВЫРНУТЫЙ АНГЛИЧАНАМИ
«Хочется, чтобы нашелся хоть один английский государственный деятель, который отозвался бы о нас как о западноевропейцах»25
А/ июля 1945 года восьмидесятилетний английский гене-X vr рал-отставник, сэр Чарльз Фергюсон, отправил в Форин офис примечательное послание. Суть его состояла в том, что его автор, прочтя в шотландском выпуске «Дейли экспресс» за 2 июля интервью корреспондента газеты с «неким доктором Аденауэром» и узнав оттуда о назначении последнего на пост бургомистра Кёльна, решил поделиться с руководством английского внешнеполитического ведомства своими воспоминаниями об опыте общения с этим немецким политиком, который он приобрел, будучи с декабря 1918 по июль 1919 года военным губернатором британской зоны оккупации Рейнланда. Воспоминаниями, скажем сразу, далеко не самыми приятными.
Не отрицая способностей Аденауэра как политика, Фергюсон отметил и другое – запомнившееся ему высказывание кёльнского бургомистра: «Мы никогда ничего не забудем и не успокоимся, пока не добьемся реванша – пусть на это потребуется пять, десять или двадцать лет». Престарелый вояка сформулировал свои выводы достаточно недвусмысленно: «Я абсолютно убежден в том, что ненависть к Англии была и остается самым глубоким чувством в его душе, усомниться в этом можно только в одном случае – если ныне это совсем другая личность, чем двадцать пять лет тому назад. Он умен, хитер, прирожденный интриган и в целом человек очень опасный. Положиться на него никак нельзя, и в отношениях с ним наши власти должны проявлять максимум осторожности».
Разумеется, это послание можно было списать в архив как типичный образец старческого ворчания или даже маразма, в конце концов его автор умудрился сделать ошибку даже в написании собственной фамилии. Однако в данном случае в Форин офис решили подстраховаться: «телегу» не только переправили в штаб-квартиру английского оккупационного контингента, но и потрудились навести соответствующие справки. Обращение к архивному досье выявило, в частности, что с преемниками Фергюсона Аденауэр установил достаточно ровные отношения (а с Джулианом Пиг-готом прямо-таки почти сердечные), но, с другой стороны, в 1926 году он проводил уходящих оккупантов такой речью, которую трудно было назвать иначе, чем подстрекательской. Соответствующая информация тоже ушла в штаб-квартиру английской зоны.
Насколько аутентичен был нарисованный Фергюсоном образ Аденауэра как крайнего англофоба? Верно: он осуждал англичан (как, впрочем, и французов) за то, что те попустительствовали Гитлеру – в частности, при оккупации Рейнской демилитаризованной зоны в 1936 году, он негодовал по поводу ковровых бомбардировок его родного Кёльна британской авиацией, но в то же время, вспомним* с полным доверием относился к передачам германской службы Би-би-си. Верно: в мае 1945 года в одном из частных раз говоров он отозвался о Черчилле как человеке, который «ненавидит немцев», а о Сталине – как «друге Германии». Однако было бы явной натяжкой на основании этих случайных высказываний (разумеется, по существу своему абсолютно не отражавших истину) характеризовать его тогдашние взгляды как «антибританские» либо тем более как «просоветские».
Фактом, однако, оставалось то, что Аденауэр всегда плохо знал реалии внешнего мира, а двенадцать лет полной изоляции от него – с 1933 по 1945 год – только увеличили степень его невежества в этом плане. На более рациональной основе складывалась его представления и оценки, касающиеся собственной страны. Двенадцать лет фактического заточения усилили в нем антипатию ко всему прусскому. У него сложилось достаточно глубокое мнение на тот счет, что именно прусский милитаризм проложил дорогу Гитлеру, что прусская бюрократия проявила крайний эгоизм и глупость перед лицом нацистского вызова, что единственным способом положить конец прусской гегемонии в Германии является формирование некоей франко-германской общности – то, о чем он думал еще после Первой мировой войны. Еще сильнее в нем стала проявляться приверженность интересам и ценностям его родного Рейнланда: даже его рейнский акцент стал более заметным.
Впрочем, в конкретной обстановке лета 1945 года у Аденауэра было мало времени раздумывать над проблемами будущего, хватало мелких повседневных дел. Прежде всего следовало наладить отношения с американскими оккупантами, а об американцах как нации кёльнский бургомистр не имел ровно никакого представления. Те первые двое американских офицеров, которые появились у порога его рен-дорфского дома, произвели на него вполне благоприятное впечатление, и поначалу он был даже рад, что Кёльн попал в зону ответственности армии США. Незнание английского не помешало ему установить хороший контакт с ее тамошними представителями, упоминавшимися подполковником Паттерсоном и капитаном Швейцером. Ему польстило, что, как он узнал, его фамилия фигурировала первой в «белых списках» американской разведки26 как для Кёльна, так и для Германии в целом (при этом он, видимо, не вполне понял подлинную причину такого предпочтения своей персоне, а она была очень простой – его фамилия начиналась с буквы «А», да и вторая буква в ней была достаточно близка к началу алфавита).
Вместе с тем чем дальше, тем сильнее у Аденауэра росло разочарование американскими проконсулами. «Малые дети в том, что касается науки управления» – так отозвался он о них в разговоре со швейцарским консулом Вейсом – «дядей Тони», как его звали в семье. Все распоряжения американских администраторов касательно расчистки улиц, снабжения населения продуктами или восстановления транспортной системы казались ему абсурдными, не учитывающими «немецкий менталитет». «Малые дети» – это была самая безобидная характеристика; он говорил об американцах еще и как о «плохо воспитанных», «распущенных» детях. Когда они ушли из города, передав его под управление англичанам (это произошло 21 июня 1945 года), Аденауэр нисколько об этом не сожалел.
Его, однако, ждало новое разочарование. Он рассчитывал, что его отношения с британскими оккупантами будут развиваться по тому же сценарию, как и после Первой мировой войны, но не учел, что ситуация 1945 года коренным образом отличалась от той, которая была в 1918-м. Тогда англичане вошли в город, который практически не был затронут военными действиями, в котором сохранилась вся административная инфраструктура. Тогда они могли иозво-
лить себе особенно не вмешиваться в сферу компетенции бургомистра, и тот, по сути, не испытывал особых ограничений со стороны оккупационных властей. Ныне все было по-иному: Кёльн представлял собой груду развалин, в котором число жителей уменьшилось с семиста девяноста тысяч в канун войны до тридцати тысяч, причем и эта горстка уцелевших горожан вынуждена была ютиться но подвалам; старая нацистская администрация рухнула, а новую еще только предстояло создать; в мировом общественном мнении преобладало чувство ненависти и отвращения к немцам как таковым вне зависимости от их личной ответственности за нацистские зверства. На внеслужебные отношения с немцами был наложен строжайший запрет, предусматривалось проведение в жизнь программ «денацификации» и «перевоспитания». Позицию британского военного истеблишмента исчерпывающе выразила фраза из относящегося к ноябрю 1945 года меморандума бригадного генерала Джона Барраклоу: «Для военной администрации любой немец – персона нон грата».
На все это накладывались и чисто технические трудности. Не было телефонов, бумаги – и прежде всего не было подходящих людей, которых можно было бы использовать в органах немецкого самоуправления. Почти все, кто занимал соответствующие должности на протяжении последних двенадцати лет, были нацистами и подлежали увольнению. Проблемы были даже с подысканием помещения для бургомистра: для работы ему и его немногочисленному аппарату нашли здание, в котором раньше располагалась страховая компания, а для жилья им с Гусей предоставили две комнаты в госпитале Гогенлинд. Для человека, приближавшегося к восьмому десятку, это был не самый удобный вариант. Более того, все, что он делал или собирался сделать, подлежало строжайшему контролю со стороны оккупационных властей. Хозяевами в городе были именно они, а вовсе не бургомистр. Неудивительно, что Аденауэр стал быстро терять интерес к городским делам.
Мысли его все больше начали обращаться к проблемам политического будущего Германии, и все больше он концентрировался на попытках сыграть, как и раньше, на противоречиях между победителями. Он знал, что, когда в феврале 1945 года на Ялтинской конференции было решено предоставить зону оккупации Франции, то для нее выкроили несколько кусков из американской и английской зон. Знал он и то, что французы, в частности генерал де Голль, крайне недовольны незначительностью предоставленной им территории и хотят ее расширить: в ходе состоявшейся в июле 1945 года беседы между швейцарским консулом Вейсом и французским генералом Бийоттом последний недвусмысленно высказался за включение Аахена и Кёльна во французскую зону, и «дядя Тони» тут же сообщил об этом своему другу Аденауэру.








