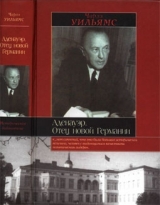
Текст книги "Аденауэр. Отец новой Германии"
Автор книги: Чарлз Уильямс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц)
На этот вопрос папа пытается дать ответ во второй части энциклики. Там сформулировано четыре основополагающих принципа. Первый постулирует активную роль церкви в разрешении конфликта классов. Церковь должна постоянно напоминать всем классам о «взаимных обязательствах, которыми они связаны по отношению друг к другу». Церковь отнюдь не должна ограничивать себя заботой о душах своей паствы, «она преисполнена желания, чтобы лишенные собственности работники вышли из состояния нищеты и улучшили условия своего существования». Второй принцип касается роли государства. «Богатые могут полагаться на то, что их защитит их богатство... массе же бедняков нечем себя защитить, и они вынуждены полагаться на защиту государства». Но опять-таки в основном речь здесь идет о поддержке обнищавших и безработных. Третий – это обязанности самих тружеников. Они должны стараться вырваться из своего пролетарского состояния солидарными и ответственными акциями.
«Христианские рабочие могут создавать свои собственные ассоциации и, объединяя свои силы, смело идти к освобождению от оков несправедливости и угнетения». Четвертый и последний обращен к «богатым собственникам средств производства и работодателям»: они тоже должны осознать свои обязанности по отношению к обществу. Но в конечном счете, говорится в заключение энциклики, «только религия способна полностью искоренить зло этого мира... до каждого должна дойти та истина, что первое, что он должен сделать, – это обратиться вновь к ценностям христианской морали».
На словах все это было неплохо, хотя и несколько абстрактно, но на практике не принесло особых результатов. Энциклику папы Льва XIII заучивали чуть ли не наизусть в теологических колледжах, но это никак не повлияло на положение трудящихся классов: оно на протяжении последующих десятилетий, скорее, ухудшилось. Дело решил поправить папа Пий XI новой энцикликой «Квадрагезимо анно. О восстановлении социального порядка», которая была опубликована в мае 1931 года.
Само ее название (в переводе с латыни – «Спустя сорок лет») показывает, что новый папа отталкивается от текста послания своего предшественника, как бы пытается подвести итог тому, как реализовывались его положения, какое влияние оно оказало на мир. Естественно, новая энциклика начинается с хвалебных слов по адресу старой и деяний ее автора в целом. «Апостолический глас прогремел не зря» – и далее в таком же духе на нескольких страницах. Но затем следует плавный переход к критической переоценке: «Случилось так, что учение Льва XIII, столь благородное и возвышенное, стало предметом всяческих подозрений и домыслов, имеющих распространение даже среди верующих католиков, а некоторые усматривают в нем и нечто для себя неприемлемое и оскорбительное».
Мягко, но решительно новый папа отмежевывается от предшественника. Да, он готов признать, что «Рерум но-варум» дала импульс образованию католических профсоюзов, но тут же констатирует, что «относительно толкования некоторых разделов энциклики Льва XIII либо следующих из них выводов возникают определенные сомнения, каковые, в свою очередь, ведут к спорам и противоречиям среди католиков и нарушают мир паствы». Другими словами, содержание старой энциклики нуждается в корректировке. Этой цели и служила «Квадрагези-мо анно».
Прежде всего в ней церковь фигурирует в качестве уже не просто посредника между классами, а верховного арбитра, причем не только в вопросах социальных отношений, но и в вопросах «экономической деятельности». Прежняя безоговорочная апология частной собственности заменяется более осторожными формулировками, из которых следует, что права собственника священны и неприкосновенны только при том условии, что он руководствуется целями общественного блага. И опять же церкви должно принадлежать решающее слово в определении того, «что позволено и что не позволено собственникам в распоряжении своей собственностью». Наконец, Пий XI по сравнению со своим предшественником отводит значительно большую роль государству. Оно не должно заниматься мелкими проблемами, его задача – сосредоточиться на решении больших задач, которые «никто, кроме него, не может решить»; оно призвано «направлять, наблюдать, побуждать и ограничивать там, где это возможно и необходимо». Особенно подробно говорится об обязанности государства следить за тем, чтобы господство монополий не задушило свободную конкуренцию.
Тема социализма в отличие от «Рерум новарум» возникает лишь в заключительной части новой энциклики. Она рассматривается более детально, но здесь Пий XI ничуть не уступает предшественнику в разоблачительной риторике. Энциклика отмечает разницу между коммунизмом – «учением, проповедующим насилие», – и «более умеренной сектой», под которой понимается современная социал-демократия. Коммунизм, естественно, подвергается анафеме с порога. Труднее оказалось обосновать осуждение другой «секты», которая отвергала насилие. К тому времени многие верующие вступали в социалистические партии, не считая, что это противоречит моральным заповедям христианства. В частности, это имело место в германской СДПГ. В отношении этой тенденции приговор энциклики звучит твердо: речь идет о феномене, «крайне прискорбном». Социализм и коммунизм, по существу, ставятся на одну доску как учения, равным образом далекие от «заветов Евангелия»; более того, Пий XI счел нужным особо подчеркнуть: «Религиозный социализм, христианский социализм – все это противоречия в понятиях; нельзя быть в одно и то же время истинным социалистом и добрым католиком». Короче говоря, коммунистам и социал-демократам – одна и та же дорога: на мусорную свалку истории. Единственное спасение для них – исправиться, отрешиться от заблуждений и прильнуть к «материнской груди церкви». Вот так, не больше и не меньше.
Все это стало для нашего героя руководством к действию на будущее, пока же более непосредственное влияние на него оказал монастырский розарий. Как мы помним, его всегда тянуло к земле, и даже его ухаживания за молоденькой соседкой начались на этой почве. Но одно дело – несколько грядок и кустов в городском дворе, и совсем другое – настоящие плантации, поразившие его воображение в Мария Лаах. «Я никогда не имел возможности наблюдать природу во всей ее целостности, а сейчас я буквально погружен в нее... Почти каждый день все выглядит по-новому; я поистине ошеломлен этой огромной мощью природных сил, так явно проявивших себя за последние полтора месяца, что я нахожусь здесь», – торопится он излить на бумаге переполнявшие его эмоции.
Эти строки написаны им 6 мая. Адресатом письма была Дора Пфердменгес, женщина, роль которой в жизни нашего героя до сих пор остается некой загадкой. Его письма к ней совсем иного рода, чем те, которые он адресовал Гусей. Доре он доверял свои самые сокровенные мысли и эмоции; это не просто обмен мнениями о новых спектаклях или вопросы об общих знакомых, тут присутствуют философские размышления о тайнах природы и попытки анализа современной политики. Ее письма к нему не сохранились, но можно предположить, что они были выдержаны в том же ключе. Интересно, что первое письмо из Мария Лаах он направил именно Доре, и именно она первой навестила его там.
Кто была эта женщина? Попытки разузнать о ней подробнее у наследников ни к чему не привели. Удалось лишь установить, что она была родом из Гладбаха (ныне этот город называется Менхенгладбах), что ее девичья фамилия звучала как Бренкес (или Бресгес, как это было записано в метрике ее сына), что семья имела голландские корни, что она познакомилась со своим будущим мужем в местном теннисном клубе, и, когда его в 1905 году перевели в лондонское отделение банка, в котором он служил, не долго думая последовала за ним. Поженились они только четыре года спустя, церемония прошла в родном Гладбахе, после чего молодая чета вновь вернулась в Лондон. Жили они в пригородном районе Форест-Хилл. Там в октябре 1910 года у них родился первый ребенок – сын. Роберт Пфердменгес был лютеранином, довольно строгих правил, чем, судя но всему, был очень горд. Дора принадлежала к той же конфессии, но явно придерживалась более свободных представлений о нормах поведения в обществе: жить с мужчиной четыре года вне уз законного брака – это был прямой вызов тогдашним представлениям о морали и нравственности.
Возможно, независимость духа и чувств как раз и привлекала Аденауэра в этой женщине. Их отношения вряд ли переходили рамки чисто дружеских; Дора и Гусей, кстати, были близкими подругами, однако письма Конрада Доре свидетельствуют, что она ему была достаточно близким человеком; во всяком случае, когда Гусей привезла ему официальную бумагу об увольнении (она была датирована 24 июля; не помогло ни заступничество тестя, почтенного профессора, ни новый визит в Берлин с попытками оправдаться), то длинное и эмоциональное письмо, в котором выразилась его реакция на эту печальную новость, он адресовал не жене, а ее подруге. В другом письме он поделился с ней своей озабоченностью но поводу того, как будут складываться отношения между новым режимом и духовенством обеих конфессий. Там же присутствует и такая поистине примечательная фраза: «По моему мнению, единственное спасение следует видеть в монархии; пусть это будет Гогенцоллерн или даже Гитлер; его бы вначале можно было сделать пожизненным президентом; таким путем все в конце концов утрясется».
Не будем выносить поспешного и слишком сурового приговора автору этих откровений. Многие немцы разделяли тогда эти странные идеи: возврат к довеймарским временам казался благом в сравнении с тем хаосом, который ассоциировался с республикой и, главное, с тем, к чему это все привело. Аденауэр был отнюдь не одинок и в представлении, что Гитлер оказывает сдерживающее влияние на нацистское движение. Кроме всего прочего, сказывались долгие дни монастырского уединения: в этой обстановке самый практичный ум может начать давать сбои, продуцируя самые экстравагантные теоретические схемы. Нельзя забывать и о том, что чтение газет, чем усердно занимался наш отшельник, также вряд ли могло дать ему адекватную информацию о том, что происходит в стране. И все-таки выраженный им в письме «оптимальный сценарий» обнаруживает новые и неожиданные черты в тогдашнем ментальном мире нашего героя.
Посетителей у него было немного. О визите Доры уже говорилось выше – это было в мае. В начале июня приезжала Гусей с детьми; пообедали вместе на природе: гостиничный ресторан был не по карману. В конце июля Гусей приехала снова – с официальным извещением об увольнении его с поста бургомистра. Об этом тоже уже упоминалось. В тексте официального документа содержалась ссылка на параграф 4 закона «О реформировании государственной службы» от 7 апреля 1933 года. Газета «Вестдейчер беобах-тер» откликнулась на это событие огромной шапкой: «Аденауэр уволен – конец эре позора». Его адвокат, Фридрих Гримм, провел у него неделю ранней осенью, обсуждая с ним тактику защиты. В письме Хервегену Аденауэр говорил об «одном-двух месяцах», но его пребывание в Мария Лаах явно затягивалось.
«Вестдейчер беобахтер» неодобрительно отозвался о том, что духовное заведение стало прибежищем для злодея, укрывающегося от справедливого гнева сограждан. Очередную порцию желчи нацистский листок выпустил по поводу того, что с 1 ноября Аденауэру стала начисляться пенсия – чуть больше тысячи марок. Почти весь декабрь новоиспеченный пенсионер провел в Берлине, тщетно пытаясь добиться улучшения своей участи. Он попытался получить аудиенцию у президента Рейхсбанка Шахта – отказ. Он снова встретился с Хейнеманом, попытался было заговорить с ним о каком-нибудь местечке в его компании, последовали сочувственные восклицания и ничего больше. Останавливался он там, естественно, не в гостинице, а в приюте религиозной общины – «госпитале Марии-Виктории». Все хлопоты оказались зря.
Перед возвращением в Мария Лаах они с Гусей договорились, что Рождество всей семьей встретят вместе – будь что будет. Сняли номер в ближайшей к монастырю гостинице, нарядили елку; впервые почти за девять месяцев отец увидел детей; были трогательные сцены, особенно когда все получили подарки – на этот раз, естественно, очень скромные.
Торжественная месса в базилике монастыря прошла при большом стечении народа, хотя пускали по пригласительным билетам: все было оформлено как сугубо частное мероприятие. Тем не менее оно вылилось в своеобразную демонстрацию солидарности с изгнанником. Месса длилась с десяти часов вечера до двух часов ночи. После окончания все вышли на воздух. Ночь была ясная, сияли звезды, все казалось так чудесно.
Расплата не заставила себя ждать. Власти из Кобленца дали понять настоятелю, что дальнейшее пребывание Аденауэра в Мария Лаах нежелательно и может повредить самому монастырю. Хервеген соответствующим образом информировал об этом гостя. Вопрос был: куда направиться? В Кёльне его ждало скорее всего «превентивное задержание», в Бонне или Бад-Годесберге было тоже опасно. Аденауэр решил ехать в Берлин. 8 января 1934 года он покинул Мария Лаах. Временный приют он нашел в обители еще одного религиозного ордена – на этот раз это были францисканцы.
В письме к Хейнеману, написанном в середине октября, Аденауэр подвел неутешительный итог очередному году своей жизни: «Я живу оторванный от семьи, не зная, что будет с ней и со мной самим, в вынужденной праздности, которую я уже не силах переносить... Я не могу уснуть без таблеток и сплю не больше нескольких часов. То же самое – с моей бедной женой. Она храбрится, но и ее силы иссякают». Год 1933-й оказался хуже некуда, но суждено ли было новому году принести перемены к лучшему?
ГЛАВА 2
КОЛЬЦО СМЫКАЕТСЯ
«Гитлер не выпустит из-под прицела ни одного из своих бывших противников»20
Покидая Мария Лаах, Аденауэр все еще тешил себя надеждой на то, что гитлеровская революция закончится тем же, чем все революции обычно кончаются: революционеры пожрут друг друга, и он получит возможность вновь вернуться к своей политической карьере. Когда один из его гостей в Лаахе, бывший коллега по партии Центра Рудольф Амелюнксен, выразился в том смысле, что Гитлер, пожалуй, года два наверняка протянет, Аденауэр воскликнул: «Два года? Нет, ни в коем случае! Тогда я буду уже слишком стар, чтобы начать все заново». Оба в данном случае ошибались, но, впрочем, у нашего героя были в это время более насущные проблемы, чем те, что касались перспектив его будущего как политика. Надо было просто сперва выжить.
Переезд в Берлин был в этом смысле неплохим ходом. В большом городе было легче затеряться, а может быть, и найти какую-нибудь работу. Наверняка его ободрил тот факт, что старший сын Коко как раз сумел получить место стажера в крупной берлинской фирме; если это удалось ему, неопытному юнцу, то почему не удастся мне? Таков примерно мог быть ход его мыслей. Кроме того, близость к центру власти была нелишней в обстановке, когда первоочередной задачей для него было добиться снятия выдвинутых против него обвинений. И впрямь кое-чего удалось добиться: из Кёльна в министерство внутренних дел Пруссии пришла бумага, где говорилось, что «с политической точки зрения продолжение следствия не представляет более интереса». Правда, большего ему так и не удалось выяснить.
В начале марта Аденауэр ненадолго вернулся в Лаах. Взгляды Хервегена за это время успели уже кардинально поменяться: он не скрывал своего разочарования новым режимом. «Сумерки богов!» – заметил но этому поводу Аденауэр, возможно, не совсем кстати. Для него ситуация только изменилась к худшему. Монастырь теперь был под постоянным наблюдением, ходили даже слухи, что его вообще скоро закроют. Было время поста, холод пробирал до костей, и через несколько дней Аденауэр решил ехать обратно в Берлин. «Годовщину моего «отъезда» из Кёльна я «отпраздную» в Берлине», – с горькой иронией пишет он 4 марта Доре Пфердменгес.
В конце марта он еще раз заезжает в Лаах, вероятно, для того, чтобы забрать оставшиеся вещи. К этому времени он нашел подходящую квартиру в Бабельсберге, на берегу озера Грибниц-зее, почти на границе между Берлином и Потсдамом. Этот район шикарных вилл за последний год обезлюдел: их владельцы, банкиры и торговцы «неарийского» происхождения, оказались достаточно предусмотрительными, чтобы вовремя эмигрировать. Владелец виллы по Аугустусштрассе, 40, которую облюбовал Аденауэр, тоже собирался последовать их примеру и с радостью сдал свое владение известному противнику гитлеровского режима. Договор аренды был заключен на год, размеры арендной платы были вполне приемлемыми. В мае вся семья Аденауэров переехала на новое место жительства.
Переселение прошло в два этапа. 3 мая из Мария Лаах прибыл глава семьи, двумя днями позже из Кёльна приехала Гусей с четырьмя детьми. Дом был прекрасно меблирован, к нему примыкал обширный, хотя и сильно запущенный, сад. Был даже бассейн. Словом, все устроилось как нельзя лучше. Детишкам, правда, было трудно освоиться в новой школе, а глава семьи все еще испытывал тревогу за будущее, но по крайней мере все теперь были вместе.
9 июня пришло ободряющее известие от кардинала Шульте: три дня назад кёльнский суд закрыл дело бывшего бургомистра за недостатком улик. Аденауэр ждал такого решения, но одно дело ждать, другое – когда эти ожидания сбываются. Одной проблемой стало меньше.
Оставались неясными перспективы его собственного иска к новым городским властям, где он оспаривал размеры выделенного ему вспомоществования – нормальной пенсией бургомистра эту тысячу марок действительно было трудно назвать. С деньгами было по-прежнему напряженно. Аденауэру пришлось продать некоторые из своих картин и часть сада на Макс-Брухштрассе. У Гусей украли ее драгоценности, но, к счастью, они были застрахованы, и семья получила какую-то сумму от страховой компании. Хейнеман прислал очередной «заем». Все это быстро расходилось, но все-таки они кое-как держались на плаву.
Глава семьи ввел строгое разделение домашнего труда: сам он занимался покупками и садом, Пауль чистил обувь для всех членов семьи, за Лоттой была стирка, за Либет – уборка, только трехлетний Георг был освобожден от трудовой повинности. Карманные деньги распределялись в строгом соответствии с количеством и качеством произведенной работы. «В жизни никто ничего не получает даром», – поучал он ребятишек. Он помогал им с уроками, занимался с ними плаванием (включая и малыша Георга), много гулял, учил их распознавать разные дикие растения и травы. Июнь 1934 года прошел иод знаком некоей чуть ли не идиллии.
Все кончилось в последний день месяца. Вечером 30 июня началась кровавая оргия, ставшая развязкой давно тлевшего конфликта между Гитлером и одним из его ближайших сподвижников, главарем штурмовиков Эрнстом Ремом. Суть конфликта была проста: Гитлер нуждался в поддержке офицерского корпуса рейхсвера, он хотел стать преемником Гинденбурга на посту президента и понимал, что без его генералов этого ему не добиться. Рем же был типичным революционером: он хотел, чтобы его СА стали ядром вооруженных сил рейха, отодвинув на задний план «консервативных» генералов; кроме того, он считал, что его и его дружков обошли при раздаче должностей: ему самому достался всего лишь пост министра без портфеля, а другие лидеры штурмовиков вообще остались ни с чем.
Рем был глубоко уязвлен и – что стало для него роковым обстоятельством – не особенно это скрывал. Он обвинял Гитлера в «союзе с реакцией», «заискивании перед восточнопрусскими генералами», сетовал на то, что «уходит возможность свершить нечто новое и великое, то, что свернуло бы мир с катушек». Мало того, что он не стеснялся выражений типа «эта свинья Адольф», он еще умудрился начисто испортить отношения с другими шишками в нацистской иерархии – Герингом, чье бахвальство он всячески высмеивал, и Гиммлером: он заявлял, что его штурмовики утрут нос эсэсовцам.
На самом деле как раз эсэсовцы провели образцовую операцию но обезвреживанию своих соперников. В ночь с 30 июня на 1 июля 1934 года Рема и его сподвижников без лишних церемоний вытащили из постелей и расстреляли во дворе тюрьмы Штадельхейм, что под Мюнхеном. Как впоследствии выяснилось, рейхсвер предоставил отрядам СС транспорт и оружие. Регулярные части были подняты по тревоге, чтобы оказать помощь эсэсовцам на случай, если бы те встретили серьезный отпор. Генералы, возможно, тогда еще не осознавали того, что они своим поведением нарушили традиционную заповедь своей профессии – не вмешиваться в политические дрязги. В своей почти детской наивности они не поняли и другого: нацисты воспользуются моментом, чтобы свести счеты с любыми не устраивающими их лицами, включая тех, кто никак не был связан ни с Ремом, ни с его СА. Отныне армия оказалась глубоко скомпрометированной соучастием в этом акте абсолютного произвола, скомпрометированной, в частности, и изданным на следующий день после побоища позорным приказом министра обороны генерала фон Бломберга, где восхвалялось «истинно солдатское и беспримерно мужественное» поведение фюрера перед лицом «мятежников и предателей».
В Бабельсберге еще с утра 30 июня начали появляться признаки каких-то надвигающихся необычных событий: грузовики с эсэсовцами, мчащиеся куда-то на бешеной скорости, колонны солдат, марширующие по улицам... Стало известно, что в своем кабинете в Министерстве внутренних дел убит Эрих Клаузенер, лидер организации «Католическое действие» и доверенное лицо вице-канцлера Папена, с каждым часом слухи об арестах и расстрелах обрастали все новыми неопровержимыми подробностями и деталями.
Около семи часов вечера перед домом по Аугустус-штрассе, 40, останавливается небольшой автомобиль. Из него выходит человек в штатском и нажимает кнопку звонка у калитки. Не дождавшись, пока кто-нибудь откликнется на звонок, он ловко перепрыгивает через изгородь и двигается прямо к хозяину, который в это время, как обычно, поливает цветы. «Гестапо», – приветствует нашего героя незнакомец, отворачивая лацкан пиджака, чтобы показать свой жетон. Затем столь же лаконично и как-то буднично: «Вы арестованы. Соберите вещи и следуйте за мной». Аденауэр ставит лейку на землю, и оба неторопливо направляются к дому. Гусей встречает их на террасе, вся волнение: «Что вам нужно от моего мужа?» Агент гестапо невозмутимо отвечает: «Временная мера пресечения». Она не отступает: «Скоро мой муж вернется?» Ответ звучит уклончиво: «Боюсь, это займет некоторое время».
Быстрые сборы, торопливое прощание с женой и перепуганными детьми, и оба направляются к калитке. Последние слова утешения: «Не беспокойся, я ни в чем не виновен».
Последний взмах рукой – уже перед дверцами машины. Едут через лес в сторону Потсдама. Агент как бы между прочим задает вопрос: нет ли у него с собой оружия? «Тут я почувствовал: дело плохо», – рассказывал Аденауэр впоследствии; ему было известно, как это делается: заводят человека в чащу и – «убит при попытке к бегству». Но все обошлось, машина не остановилась. Оставшиеся домочадцы однако ясно услышали звуки выстрелов и сразу подумали, что с их мужем и отцом случилось самое худшее. Оказалось, что это на вилле неподалеку отряд эсэсовцев расправился с предшественником Гитлера на посту канцлера – генералом Шлейхером, заодно они убили и его жену.
Аденауэр провел ночь и весь следующий день вместе с тремя десятками товарищей по несчастью в реквизированном эсэсовцами школьном здании, превращенном в тюрьму: мест в обычных тюрьмах не хватало. В понедельник утром он был доставлен в полицейское управление Потсдама, там его несколько часов продержали в одиночной камере, йотом начался допрос... Гусей в это время обивала пороги разных участков и учреждений в попытках узнать что-нибудь о муже. От нее попросту отмахивались. Вернувшись в Ней-Бабельс-берг, она не может сообщить детям ничего утешительного, остается только просить милости у Бога.
Внезапно в понедельник вечером у дома вновь останавливается машина, и – о чудо! – из нее появляется отец семейства, живой и невредимый, только с явными следами двух бессонных ночей. Его освобождение стало следствием отданной Гитлером директивы – прекратить дальнейшие репрессии и выпустить всех, кто прямо не был связан с Ремом и его компанией. Домочадцы радуются: теперь все будет в порядке. Сам Конрад настроен менее оптимистично; он увидел нацистскую карательную машину в действии и мрачно бросает: «Гитлер не выпустит из-под прицела ни одного из своих бывших противников».
До событий 30 июня 1934 года – «ночи длинных ножей», как она вошла в историю, – Аденауэр еще мог испытывать если не симпатии, то но крайней мере некоторые иллюзии в отношении Гитлера и национал-социализма. То, чему он был свидетелем в первый год нацистской диктатуры, никак не укладывалось в рамки его понятий и представлений. Он явно считал это временным отклонением, которое скоро пройдет, и вновь начнут действовать общепринятые правовые нормы. Тот факт, что кёльнский суд принял решение в его пользу, только укрепило его в этих надеждах.
Теперь все эти надежды и иллюзии рухнули. Какие там нормы законности: был Рем в чем-то виновен или нет, разделались с ним без всякого суда и следствия. Та же судьба постигла и Клаузенера, одного из коллег Аденауэра но партии Центра, и многих других, не имевших никакого отношения к грехам Рема и его преторианцев. Контуры нового порядка окончательно прояснились, когда, после того как 1 августа в возрасте восьмидесяти восьми лет скончался Гинденбург, рейхстаг мгновенно проштамповал закон об объединении постов президента и главы правительства и о присвоении Гитлеру нового титула – «фюрера и рейхсканцлера».
Для Аденауэра выводы были очевидны. Он отдавал себе отчет, что его фамилия занесена в какой-то «черный список». На него явно кто-то имеет зуб, вероятно, не на самом верху, а на более низком уровне, по каким-то, может быть, личным мотивам. Значит, нужно апеллировать к высшим инстанциям, попробовать оправдаться, доказать, что он всегда был и остается патриотом Германии, лояльным государственником, и тогда, возможно, его оставят в покое.
Именно эти соображения руководят им, когда он 10 августа 1934 года отправляет длинное послание на имя ближайшего сподвижника фюрера, прусского министра внутренних дел Вильгельма Фрика. Этот документ впоследствии дал немало пищи для критики по адресу Аденауэра. Сам он говорил, что в письме речь шла исключительно о его пенсионных делах. Это верно, но не совсем. .
Большая часть письма посвящена доказательству того тезиса, что бургомистр Кёльна «всегда корректно относился к национал-социалистской партии». Примеров там приводится предостаточно: он неоднократно выступал против решений центральных берлинских властей и собственной фракции в городском собрании, которые были направлены против деятельности НСДАП; вопреки указанию прусского МВД он предоставил ее членам возможность пользоваться городскими стадионами и спортивными площадками для парадов и тренировок; он помещал официальные объявления в «Вестдейчер беобахтер», соответственно оплачивая их, а ведь это тоже противоречило указаниям министерства; он разрешал вывешивать флаги со свастикой – соответствующие его распоряжения можно найти в архиве; а если он и вынужден был однажды убрать эти флаги с моста, то ведь он был вовсе не против их вывешивания перед выставочным комплексом в Дейце и даже послал своих служащих для установки подходящих флагштоков.
Значительное место в тексте письма заняли опровержения в причастности к «рейнскому сепаратизму». Аденауэр заявляет, что он был решительным противником подписания Версальского договора, что в октябре 1923 года против него французами и сепаратистами был организован заговор – его собирались убить либо привлечь к суду «революционного трибунала» и потом расстрелять.
Все это, по мнению автора письма, исключает применение к нему параграфа 4 закона «О реформировании государственной службы», где речь идет о лицах, чья преданность национальным ценностям вызывает сомнения, и соответственно его дело должно быть пересмотрено.
Позднейшие критики Аденауэра, анализируя стиль и содержание этого документа, высказывали порой мнение, что если бы Фрик выразил готовность признать, что в деле бывшего бургомистра Кёльна допущена юридическая ошибка, что ему дадут хорошую пенсию, обеспечат безопасность ему, жене и детям, но он должен в благодарность за это вступить в НСДАП, то Аденауэр скорее всего принял бы условия такой сделки. Трудно гадать, что было бы, если... Во всяком случае, в реальности такой альтернативы перед Аденауэром не стояло. Ответ от Фрика пришел только в ноябре, и это был лаконичный и категорический отказ в удовлетворении его просьбы о пересмотре дела.
Тем временем тучи сгущались. Кто-то из администрации Рейнской области в Кобленце, видимо, имевший контакт с настоятелем монастыря в Лаахе, сообщил ему, что там снова всплыл вопрос о бывшем бургомистре Кёльна: ему грозит опасность; Хервеген немедленно сообщил об этом Аденауэру; тот счел за благо на время исчезнуть. Действительно, с середины августа его следы теряются; он переезжает с места на место, нигде не задерживаясь больше, чем на сутки. К началу следующего месяца, очевидно, опасность прошла. 4 сентября Аденауэр, уже не таясь, отправляет письмо Хейнеману с обратным адресом «Капиель»: в этом тихом местечке в Шварцвальде он снимает комнату, Гусей уже с ним, самое позднее к 14 сентября они планируют вернуться в Берлин.
В Берлине его ждала повестка из кёльнского суда. Он вызывался в качестве свидетеля но делу бывшего директора кёльнского филиала «Дейче банка» Антона Брюнинга, против которого было выдвинуто обвинение в мошенничестве. Аденауэр не испытывал к обвиняемому никаких симпатий: ведь это был тот самый Брюнинг, который в свое время дал ему злосчастный совет покупать акции Блютгена и на которого он сам из-за этого едва не подал в суд. Выяснилось, однако, что Аденауэру предназначена роль не столько свидетеля, сколько соучастника обвиняемого; дело в том, что, согласно показаниям Брюнинга, он однажды лично передал бургомистру пятьдесят пять тысяч марок в обмен на обещание направлять финансовые потоки из городского бюджета именно через «Дейче банк». Аденауэр срочно связался с остававшимися в Кёльне братьями. Ганс, напомним, был каноником в кёльнском соборе, Август вел юридическую практику. Он попросил их узнать поподробнее о существе дела и принять меры, чтобы о его приезде в родной город не пронюхала пресса.








