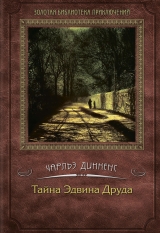
Текст книги "Тайна Эдвина Друда"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
– Вы забываете, миссис Топ, – говорит с добродушной улыбкой Джаспер, садясь за стол, – и ты также, Нэд, что дядя и племянник – слова, здесь запрещенные с общего согласия и по особому постановлению. Да будет имя Божие благословенно за ниспосылаемый хлеб насущный… Аминь!
– Как здорово это у тебя сказано, Джак! Самому ректору впору! Свидетель я, Эдвин Друд! Ну, Джак, начинай резать жаркое, я не умею.
С этой шутки и легкой болтовни начинается обед, который к настоящему рассказу не имеет отношения, да и вообще ни к чему не имеет, пока гость и хозяин не покончили с ним. Наконец скатерть снята и на столе появляются блюдо грецких орехов и графин золотистого хереса.
– Слушай, Джак, – обращается к дяде молодой человек, – неужели ты действительно думаешь и чувствуешь, что всякое упоминание о нашем родстве может нас разъединить, помешать нашей дружбе? Я так не думаю.
– Как правило, Нэд, дяди бывают настолько старше своих племянников, что у меня инстинктивно возникает такое чувство.
– Как правило, может быть. Но что значит разница в каких-нибудь шесть-семь лет, это имеет какое-то значение? К тому же в больших семействах случается, что дяди бывают и моложе своих племянников. Дорого бы я дал, чтобы и у нас так было!
– Почему?
– Тебя это интересует? Потому что тогда я взял бы тебя в руки, Джак, наставлял бы тебя на путь истинный и был бы умен и строг, как «Скучная забота, обратившая юношу в старика, а старика в персть земную». Эй, Джак, погоди, не пей!
– Отчего?
– Ты еще спрашиваешь! Пить в день рождения Кошурки и без тоста за ее здоровье! За здравие Кошурки, Джак, и пусть их будет много и много, я хочу сказать – дней ее рождения!
Дружески положив ладонь на протянутую руку юноши, как будто дотрагиваясь до его бесшабашной головы и беззаботного сердца, Джаспер с улыбкой молча выпивает предложенный бокал.
– Пусть она будет здорова сто лет, еще сто, да еще годик после этого! Ура, ура, ура! И так далее, и так далее! А теперь, Джак, поговорим о Кошурке. Дайте нам две пары щипцов для орехов! Одну возьми ты, Джак, а другую дай мне! Ну, каковы же успехи Кошурки, Джак?
– В музыке? В общем и целом неплохо.
– Какой ты слишком осторожный в словах человек, Джак! Но я ее знаю, слава Богу! Она невнимательна, не правда ли? Или ленится?
– Она может выучить все, когда захочет.
– Когда захочет! Вот в этом-то и дело. Ну, а если она не захочет?
– Крак! – Джаспер колет орехи.
– Как она сейчас выглядит, Джак?
– Очень похожа на твой рисунок, – отвечает Джаспер. И на этот раз во взгляде мистера Джаспера, устремленном на племянника, снова будто бы находит отражение портрет над камином.
– Я этим портретом горжусь, – говорит юноша, самодовольно глядя на свою картину. Прищурившись, с щипцами в руке, он внимательно разглядывает портрет как настоящий профессионал. – Недурно схвачено по памяти; я, должно быть, верно уловил это выражение, ибо я его довольно часто видел у Кошурки.
– Крак! – со стороны Эдвина Друда.
– Крак! – со стороны мистера Джаспера.
– Действительно, – продолжает молодой человек, перебирая ореховую скорлупу с каким-то недовольным видом, – я улавливаю это выражение всякий раз, когда хожу к Кошурке. И если его нет на ее лице в момент моего прихода, то непременно появляется, когда я ухожу. Вы это сами знаете, дерзкая резвушка! Вот я вас! – И он замахивается щипцами на портрет.
– Крак! Крак! Крак! – медленно со стороны Джаспера.
– Крак! – быстро и резко со стороны Эдвина Друда.
Молчание с обеих сторон.
– Что, ты проглотил язык, Джак?
– А ты, Нэд?
– Нет, но, право… Ведь действительно?
Джаспер вопросительно поднимает свои темные брови.
– Но справедливо ли быть лишенным выбора в таком деле? Знаешь ли, Джак, я тебе признаюсь, что если бы я мог выбирать, то из всех хорошеньких девушек на свете выбрал бы только Кошурку.
– Но тебе и не надо выбирать.
– Вот это-то и плохо. Ведь вздумалось же моему покойному отцу и покойному отцу Кошурки обручить нас так рано, чуть не в колыбели. На кой черт, сказал бы я, если бы это не было непочтительно по отношению к их памяти, они это сделали? Отчего им было не оставить нас в покое?
– Тише, тише, дорогой мой! – мягко и нежно останавливает его Джаспер.
– Тише, тише, тебе хорошо так говорить, Джак. Тебе все равно, ты спокоен. Твоя жизнь не рассчитана, не расчерчена, не размечена вся наперед, как топографическая карта. Ты не чувствуешь неприятного подозрения, что тебя насильно навязывают девушке, которая, возможно, этого совсем не хочет! А ей неприятно сознавать, что ее, может быть, навязали тебе или тебя ей против твоего желания! И что от этого никуда не деться. Ты-то можешь свободно выбирать свою судьбу. Жизнь для тебя – яблоко с его естественным румянцем, которое никто не соскоблил для тебя, а подали свежим, прямо с дерева… А мне из-за чрезмерной заботливости подали вымытое, вытертое, без аромата… Джак, что ты?
– Не останавливайся, мальчик, продолжай.
– Неужели я сказал тебе что-то неприятное, обидное, Джак?
– Как ты мог сказать мне что-то неприятное или обидеть меня?
– Господи, как ты побледнел, Джак! У тебя даже глаза будто помутнели.
Джаспер с натянутой улыбкой протягивает к нему правую руку, как бы желая уничтожить всяческое подозрение и то ли успокоить племянника, то ли попытаться успокоиться самому и выиграть время. Наконец, спустя некоторое время, он тихо произносит:
– Я принимал опиум от болей, от страданий, которым я иногда подвержен. Влияние этого лекарства выражается в каком-то тумане, по временам застилающем мне глаза. Именно сейчас наступила такая минута, но это скоро пройдет. Отвернись, пожалуйста, тогда скорее пройдет.
Испуганный юноша подчиняется и устремляет глаза на тлеющие угли в камине. Джаспер, не отводя пристального взгляда от огня, а, напротив, как бы усиливая его сосредоточенность, крепко впивается пальцами в ручки кресла и в продолжение нескольких минут, напряженный, сидит неподвижно. Затем крупные капли пота выступают у него на лбу, он тяжело переводит дыхание и приходит в себя. Племянник подходит к нему и нежно ухаживает за ним. Когда же силы его полностью возвращаются, то, положив руку на плечо юноши, Джаспер неожиданно произносит тоном более спокойным, чем того требует содержание его слов, даже несколько иронически, словно подтрунивая над простодушным юношей:
– Говорят, что в каждом доме есть своя тайна, о которой никто не догадывается, и ты полагал, дорогой Нэд, что в моей жизни ее нет?
– Клянусь жизнью, Джак, я и сейчас так думаю. Однако, если задуматься, то даже в доме Кошурки, если бы у нее был дом, и у меня, если бы он был у меня…
– Когда я тебя невольно прервал, ты, кажется, хотел сказать, что у меня самая спокойная жизнь, не правда ли? Вокруг меня, по-твоему, ни шума, ни суеты, я не знаю ни риска, ни хлопот, ни беспокойства от перемены мест и, преданный своему любимому искусству, живу в свое удовольствие, сидя в тихом уголке. Так ведь?
– Я действительно хотел сказать нечто подобное, но ты, говоря о себе, пропустил кое-что, о чем я сказал бы…. Например, я непременно упомянул бы прежде всего, что ты всеми уважаем, как светский клерк или как там называется твоя должность в нашем соборе, что ты пользуешься репутацией преобразователя хора певчих, с которым прямо творишь чудеса, что ты занимаешь в обществе независимое положение и имеешь большие связи, наконец, что ты обладаешь педагогическим талантом (даже Кошурка, которая не любит учиться, и та говорит, что у нее никогда не было такого учителя, как ты).
– Да, я видел, к чему ты клонишь. Я ненавижу свое положение.
– Ненавидишь, Джак? – восклицает с изумлением юноша.
– Да, ненавижу. Горькое однообразие моей жизни точит меня. Ты слышал наше пение в соборе? Каким ты его находишь?
– Чудесным, просто божественным!
– А мне оно часто кажется адским. Оно мне так надоело. Эхо моего собственного голоса под мрачными сводами собора, кажется, издевается над моим ежедневным горемычным прозябанием. И так ведь будет до конца дней – и сегодня, и завтра, все одно и то же, одно и то же… Ни одному несчастному монаху, жившему трутнем прежде меня, день и ночь бормотавшему молитвы в этом мрачном здании, жизнь не могла, наверное, так надоесть, как мне. Они, эти монахи, могли хоть для развлечения, для души вырезать дьяволов на стенах и сиденьях. А мне что делать? Вырезать разве дьяволов или демонов из своего собственного сердца?
– А я-то полагал, что ты нашел свое место в жизни, Джак, – с удивлением отвечает Эдвин Друд, наклоняясь к Джасперу, кладя ему руку на колени и с беспокойством и сочувствием глядя ему в глаза.
– Я знаю, что ты так думал. Все так думают.
– Да, наверное, – говорит Эдвин, будто размышляя вслух, – по крайней мере, Кошурка так думает.
– Когда она тебе об этом говорила?
– В последний раз, когда я был здесь. Помнишь, три месяца тому назад?
– Как же именно она сказала?
– Да ничего такого. Она только сказала, что стала твоей ученицей и что ты просто создан быть учителем, это твое призвание.
При этом молодой человек взглянул на портрет над камином, что не ускользает от Джаспера, который видит портрет, не отрывая взгляда от племянника.
– Как бы то ни было, милый Нэд, – произносит он, качая головой и со спокойной улыбкой, – я должен примириться со своим призванием, теперь уже поздно что-либо менять. А что в душе, сверху не видно. Помни только, Нэд, это должно остаться между нами.
– Я свято сохраню твою тайну, Джак.
– Я потому и доверился тебе, что…
– Я знаю. Потому что мы закадычные друзья и ты меня любишь и доверяешь мне, как я тебя люблю и доверяю тебе. Поверь мне, я это прекрасно чувствую. Давай руку, нет, обе руки, Джак!
Джаспер берет протянутые ему руки и, сжимая их, не спуская глаз со своего племянника, продолжает:
– Ты теперь знаешь, не правда ли, что даже несчастный певчий и жалкий музыкант в его однообразном положении может терзаться честолюбием, амбицией, недовольством или беспокойством, испытывать неудовлетворенность, иметь какие-то стремления, мечты, как хотите это называйте…
– Да, милый Джак.
– И ты будешь это помнить?
– Еще бы, как я могу забыть то, что ты произнес с таким чувством?
– Так пусть это послужит тебе назиданием и предостережением.
Он отпускает юношу и, отойдя назад, пристально вглядывается в него.
Высвободив свои руки из рук Джаспера, Эдвин останавливается на минуту, чтобы обдумать, к чему относятся последние слова Джаспера; потом произносит растроганным голосом:
– Я боюсь, что я пустой, легкомысленный малый, Джак, и голова моя не из лучших. Но я молод и, быть может, с годами стану лучше, поумнею. Во всяком случае я надеюсь, что во мне есть нечто способное чувствовать и понимать, глубоко чувствовать все благородство твоего поступка. Я понимаю, как бескорыстно ты, несмотря на всю горечь для себя, раскрыл передо мной свое сердце, только чтобы предостеречь меня от будущих грозящих мне опасностей.
Напряженность лица и всей фигуры Джаспера достигает такой крайней степени, что дыхание словно замирает у него в груди.
– Я не мог не заметить, Джак, что это стоило тебе большого усилия, что ты был очень взволнован и совсем не походил на себя. Конечно, я знал, что ты сильно меня любишь, но я не мог ожидать, что ты готов принести себя таким образом в жертву ради меня.
Джаспер, к которому снова вернулось дыхание, и он вновь ощутил себя человеком из плоти и крови, смеется и машет правой рукой.
– Нет, не отказывайся от своего чувства, Джак, я говорю теперь совершенно искренне. Я нимало не сомневаюсь, что то болезненное состояние духа, которое ты так страшно описал, приносит настоящие, мучительные страдания, которые невыносимо переносить. Но позволь мне, Джак, тебя успокоить: я не думаю, чтобы мне угрожало такое положение. Через несколько месяцев, менее чем через год, ты знаешь, я заберу из школы Кошурку под именем миссис Эдвин Друд и отправлюсь на Восток, где меня ждет место инженера, конечно, вместе с Кошуркой. Хотя сейчас мы иногда ссоримся из-за неизбежного однообразия моего ухаживания (ведь какой особенный пыл в любви, если все у нас решено заранее), я не сомневаюсь, что мы отлично заживем, когда нас обвенчают, возврата не будет и деваться будет некуда. Одним словом, Джак, говоря словами старой песни, которую я почти процитировал за обедом (а кто лучше тебя знает старые песни?), «я буду петь, жена плясать, и жизнь в веселье протекать». Что Кошурка красавица, в этом нет сомнения, а когда вы, дерзкая барышня, – продолжает Эдвин, обращаясь к портрету, – будете и добры, и послушны, то я сожгу эту карикатуру и напишу новый портрет вашему учителю музыки!
Джаспер слушает Эдвина, подперев рукой подбородок, с благосклонной улыбкой на лице и внимательно следит за выражением и жестами молодого человека, вслушиваясь в каждую его интонацию. Даже когда тот закончил, он несколько минут продолжает оставаться в той же позе, в каком-то очаровании, исходившем от того сильного интереса, который возбуждает в нем столь любимый им юноша. Наконец он произносит со спокойной улыбкой:
– Так ты не хочешь слушать мое предостережение?
– Нет, Джак, это не нужно.
– Значит, тебя не стоит предостерегать?
– Нет, Джак, тебе нельзя. К тому же я не считаю себя в опасности и не желаю, чтоб ты ставил себя в подобное положение из-за любви ко мне.
– Что же, пойдем прогуляемся по кладбищу?
– Конечно. Ты только позволишь мне на минуту забежать в Монастырский дом и отдать посылку? Это всего лишь перчатки для Кошурки, столько пар, сколько ей сегодня минуло лет. Не правда ли, поэтично, Джак?
– Нет ничего сладостнее в жизни, Нэд, – произносит Джаспер, оставаясь все в той же позе.
– Вот они, перчатки, в моем пальто. Их непременно надо передать сегодня, а то пропадет вся поэзия. Я не могу, по правилам школы, видеть ее вечером, но отдать посылку не запрещено. Ну, Джак, я готов!
Джаспер встает, и они оба отправляются в путь.
Глава III
Монастырский дом
По уважительным причинам, которые станут понятны из нашего последующего рассказа, мы должны назвать этот город со старинным собором вымышленным именем. Пусть он будет Клойстергам. Это очень древний городок, и, вероятно, он был известен друидам под другим, уже забытым названием, римлянам – под третьим, саксонцам – под четвертым, а нормандцам – под пятым; поэтому одним именем больше или меньше в длинном ряду веков не может иметь никакого значения для его пыльных летописей.
Клойстергам – древний городок и неудобное местожительство для всех, кого привлекает шумный свет, мирская суета. Однообразный, вроде бы скучный городок, он пропитан каким-то могильным запахом, запахом плесени, исходящим от соборного склепа; да и на каждом шагу в городе вы встретите множество остатков монашеских могил, так что жители разводят клумбы на прахе настоятелей и настоятельниц, а детишки играют песком, который некогда был прахом монахов и монахинь, тогда как соседние пахари на ближнем поле обращаются с государственными казначеями, архиепископами, епископами и подобными знатными особами так, как желал обращаться со своими посетителями людоед в детской сказке, то есть смолоть на муку их кости и испечь себе хлеб.
Сонный городок этот Клойстергам, и жители его полагают со странной, хотя и не редкой непоследовательностью, что все перемены в нем уже в далеком прошлом и что в будущем его ничего нового не ожидает. Удивительное и не особенно логичное будто бы рассуждение, если вспомнить историю: ведь и в самой глубокой древности люди думали так же. Улицы Клойстергама так тихи и безмолвны (хотя эхо в них раздается чрезвычайно громко при малейшем звуке), что в жаркий летний день спущенные в лавках шторы не смеют шелохнуться под дуновением южного ветра. Вообще город так благолепен и приличен, что обожженный солнцем бродяга, который случайно забредет в него, удивленно озираясь вокруг, торопится поскорее выбраться с его строгих улиц. Впрочем, этот последний подвиг не слишком труден, так как весь Клойстергам состоит из одной узкой улицы, по которой входишь и выходишь из города; все остальное – только тесные проулки, заводящие в тупик, с колодезными насосами посредине. Исключение составляют площадь перед собором, сам собор и мощеная площадка перед домом квакеров, по форме и цвету чрезвычайно похожим на чепчик квакерши.
Одним словом, Клойстергам с его хриплыми соборными колоколами, с его такими же хриплыми грачами, снующими над башней собора, и с еще более хриплыми не так заметными «грачами», размещающимися в креслах внизу собора, – это город не нашего, а давно прошедшего времени. Обломки старых стен и часовни, посвященной какому-нибудь святому, здания женской обители и монастыря и т. д. как-то странно вклинились в новые дома и сады, подобно тому как такие же отжившие понятия поселились в сознании многих клойстергамских жителей. Все тут носит печать прошлого. Даже единственный в городе ростовщик не выдает более ссуд и тщетно старается распродать накопившиеся у него запасы, среди которых самое дорогое – это старые, словно вспотевшие, с побледневшими или почерневшими циферблатами часы, сломанные, поблекшие щипцы для сахара и разрозненные тома каких-то книг мрачного содержания. Самые обильные и приятные доказательства прогрессивной, победоносной жизни Клойстергама – это процветающие, богатые буйной растительностью многочисленные сады. Даже обветшалый, жалкий маленький местный театр имеет свой садик, и, когда злой дух по ходу действия проваливается со сцены в преисподнюю, он падает на этот клочок земли среди бобов или устричных раковин, смотря по сезону.
В самом центре Клойстергама возвышается Монастырский дом – старое-престарое почтенное кирпичное здание, теперешнее название которого, вероятно, связано с легендой о том, что в нем когда-то был женский монастырь и жили монахини. На тяжелых старинных его воротах блестит начищенная медная вывеска с надписью: «Пансион для девиц. Мисс Твинклтон». Фасад у этого дома такой старый и обветшалый, а медная вывеска так ярко сияет и бросается в глаза, что прохожий с некоторым воображением может представить себе, глядя на это здание, старого отжившего щеголя с новеньким блестящим моноклем в слепом глазу.
Ходили ли по этим коридорам в те времена монахини (бывшие, по слухам, намного скромнее, чем сегодняшние их ровесницы) с опущенными головами, чтобы не натолкнуться на нависшие над головами балки потолков в низеньких кельях; сидели ли они в глубоких амбразурах, перебирая четки для умерщвления своей плоти, а не нанизывая их в ожерелье для своего украшения; были ли некоторые из них замурованы живыми в углублениях ниш или выдающихся углах здания за то, что в них бродила еще та закваска матери Природы, которая до сих пор поддерживает жизнь сего мира, – все это вопросы, быть может, интересные лишь призракам, посещавшим этот дом (если таковые были), но они не упоминались в полугодовом балансе мисс Твинклтон. Они не появлялись ни в статьях постоянного, ни в статьях срочного расхода, ни как пансионерки, ни как приходящие. Дама, руководившая поэтическим просвещением воспитанниц этого учреждения за мизерную плату, не имела в своем списке стихотворений ни одного, посвященного такой бесприбыльной теме.
В некоторых случаях, при частом пьянстве или под регулярным гипнозом, у человека возникают два разных состояния, которые никогда не приходят в столкновение, а каждое из них идет по своему отдельному пути, словно этот путь никогда не прерывался и не сменялся время от времени другим: так, если я, например, в пьяном виде спрячу часы, то в трезвом не знаю, куда спрятал, и, чтобы найти их, мне надо опять напиться. Подобным же образом мисс Твинклтон имела две отдельные, определенные фазы существования. Каждый вечер, после того как молодые девицы отправляются спать, мисс Твинклтон взбивает свои локоны, придает глазам небывалый блеск и вообще становится такой живой, легкомысленной и веселой мисс Твинклтон, какой ее никогда не видывали и не знали воспитанницы. Каждый вечер в один и тот же час мисс Твинклтон возвращается к прерванному предыдущим вечером разговору, обсуждает все сплетни, скандалы, любовные истории Клойстергама, о которых днем она вовсе не подозревает, и предается воспоминаниям о счастливом сезоне на Тенбриджских водах (легкомысленно называемых ею в этой фазе своей жизни просто Водами). Именно о том сезоне, когда один приятный джентльмен, которого мисс Твинклтон в этой фазе своей жизни сострадательно называет «глупец мистер Портерс», объяснился ей в любви (об этом факте мисс Твинклтон в школьной фазе своей жизни имеет такое же понятие, как камень или гранит). Постоянная собеседница мисс Твинклтон в обеих фазах ее существования и одинаково приспособленная к той и другой, вдова по имени миссис Тишер, почтенная женщина с больной спиной, хроническим кашлем и глухим, тихим голосом. В пансионе она следит за гардеробом девиц, постоянно напоминая им, что видала лучшие дни. Вероятно, поэтому из-за таких неопределенных намеков между слугами и распространились слухи, принимаемые на веру всеми – как старыми, так и новыми обитателями Дома, – что покойный мистер Тишер был парикмахером.
Любимая ученица Монастырского дома – мисс Роза Буттон, прозванная, конечно, Розовым Бутоном, удивительно хорошенькая, очень юная и весьма капризная девочка. Молодые девицы, ее подруги, питают к мисс Буттон особый, романтичный интерес: всем известно, что по официальному завещанию ее отца ей уже избран муж, которому ее опекун обязан передать девушку из рук в руки по достижении им совершеннолетия. Мисс Твинклтон в школьной фазе своего существования старалась побороть, погасить романтичный оттенок судьбы мисс Буттон и часто за хорошенькими плечиками девочки горестно пожимала плечами, демонстрируя сочувствие к несчастной будущности бедной маленькой жертвы. Но все ее усилия ни к чему не приводили, быть может, оттого, что в них проскальзывало воспоминание о «глупом мистере Портерсе»; во всяком случае, девицы, видя эти проделки мисс Твинклтон, единогласно восклицали по вечерам в дортуаре: «Вот противная старая жеманница!»
Никогда в Монастырском доме не бывает такого волнения, как во время очередного посещения предназначенного маленькой Розе мужа (все девицы единогласно полагают, что он имеет законное право на эту привилегию и что, если бы мисс Твинклтон стала бы сопротивляться, то ее немедленно арестовали бы и выслали). Когда ожидается или действительно раздается его звонок у ворот, то каждая девица, которой под каким-нибудь предлогом это удается, высовывается из окна; каждая из тех девиц, что играют в это время на фортепиано, берет фальшивые ноты, а урок французского проходит так плохо, что штрафная метка «за невнимание» путешествует по всему классу так же быстро, как заздравный кубок в веселой пирующей компании.
На другой день после описанного обеда у мистера Джаспера звонок у ворот Монастырского дома вызвал обычную реакцию: смятение и суматоху.
– Мистер Эдвин Друд к мисс Розе, – докладывает старшая горничная.
– Вы можете идти вниз, милая, – говорит мисс Твинклтон со скорбным видом, обращаясь к юной жертве. И мисс Буттон выходит из комнаты, провожаемая пристальными любопытными взглядами всех девиц.
Эдвин Друд между тем дожидается Розу в собственной гостиной мисс Твинклтон, приятной комнате, совершенно не напоминающей об унылой школьной обстановке. Только два глобуса (один изображает Землю, а другой – небесный свод) должны красноречиво напоминать родителям и опекунам девиц, что даже в те минуты, когда мисс Твинклтон отдыхает и возвращается к частной жизни, чувство долга может каждую минуту сделать ее неким подобием Вечного Жида[2]2
Герой средневековых сказаний, еврей-скиталец, обреченный Богом на вечную жизнь и скитания.
[Закрыть], странствующего по земле и небесам в поисках знаний для пользы девиц – своих воспитанниц.
Новая горничная, еще никогда не видевшая джентльмена, с которым помолвлена мисс Роза, старательно пытается познакомиться с ним сквозь щель полурастворенной двери и, пойманная на месте преступления, быстро с виноватым видом убегает по черной лестнице в кухню в ту самую минуту, как прелестное маленькое видение, с наброшенным на голову шелковым передником, вбегает в гостиную.
– О, как это глупо! – восклицает видение, останавливаясь посреди комнаты. – Не надо так делать, Эдди.
– Чего не надо делать, Роза?
– Не подходи ближе. Это так глупо!
– Что глупо, Роза?
– Все! Глупо быть сиротой-невестой, обрученной почти в колыбели, глупо, что все девицы и слуги повсюду следят за мной, точно мыши под обоями, глупее всего, что ты приходишь сюда!
Судя по выговору, очевидно, во рту у видения пальчик.
– Нечего сказать, ты любезно принимаешь меня, Кошурка!
– Ну, погоди минутку, Эдди, сейчас еще я не могу. Как ты поживаешь? Как себя чувствуешь? – Сказано очень быстро и резко.
– Не могу тебе сказать, что всегда чувствую себя хорошо, когда вижу тебя, особенно теперь, в данную минуту, когда я тебя вовсе не вижу, Кошурка.
При этом упреке из-за угла передника выглядывает блестящий черный глаз с насупленной бровкой, но в то же мгновение исчезает, и скрытое видение кричит изо всей силы:
– О, батюшки, что ты наделал? Ты отрезал себе почти все волосы!
– Лучше бы я отрезал себе голову, – недовольно говорит Эдвин, взъерошивая оставшиеся волосы и с досадой взглянув в сторону зеркала. – Что же мне, уходить?
– Нет, не уходи пока еще, Эдди, а то девицы станут меня преследовать вопросами, почему ты ушел так скоро.
– Что же, Роза, ты откроешь когда-нибудь свою взбалмошную головку и поздороваешься со мной как следует?
Затем фартучек падает и из-под него появляется очаровательное детское личико.
– Ну, здравствуй, Эдди, как ты поживаешь? – произносит девочка. – Как, это вежливо с моей стороны? Вот и я. Дай я пожму тебе руку. Нет, целоваться не могу, у меня во рту леденец.
– Ты совсем не рада меня видеть, Кошурка?
– Нет, я страшно рада. Садись поскорее! Мисс Твинклтон!
Эта почтенная особа считает своим долгом во время посещений молодого человека являться в комнату каждые три минуты либо сама, либо присылать миссис Тишер, и таким образом, под предлогом поиска какой-либо забытой вещи достойная воспитательница приносит свой дар на алтарь Приличия. На этот раз мисс Твинклтон лично входит в комнату и, прошагав туда и сюда, вроде бы на ходу говорит:
– Здравствуйте, мистер Друд, очень рада вас видеть. Извините, пожалуйста, я забыла ножницы. Благодарствуйте! – После этого она скрывается за дверью.
– Я получила вчера перчатки, Эдди, и очень обрадовалась. Они прелестные, очень мне понравились.
– Дождался хоть чего-нибудь, – снисходительно отвечает жених, ворча себе под нос. – Я человек скромный, и всякое малейшее внимание принимаю с благодарностью. А как ты провела свой день рождения, Кошурка?
– Чудесно! Все мне сделали подарки, и у нас был пир, а вечером бал.
– А, пир и бал? Кажется, эти важные события отлично проходят и без меня. И тебя не огорчило мое отсутствие? И без того было весело?
– Отлично! – восклицает Роза весело, без малейшего смущения.
– А в чем же состоял ваш пир? Чем угощали?
– Были креветки, апельсины, желе, пирожные.
– А на балу были кавалеры?
– Мы танцевали друг с дружкой, сэр. Но некоторые из девиц изображали своих братьев, и это было так весело!
– А кто-нибудь изображал…
– Тебя? Конечно! – восклицает Роза, весело смеясь. – Об этом подумали прежде всего.
– Я надеюсь, что мою роль хорошо исполнили, – говорит Эдвин с некоторым сомнением.
– О, чудесно! Замечательно! Я, конечно, не хотела с тобой танцевать, ты понимаешь?
Эдвин этого не понимает и просит Розу объяснить ему, почему же все-таки?
– Потому что ты мне уже надоел, – отвечает Роза, но, увидев неудовольствие и обиду на его лице, быстро прибавляет: – Но ведь и я тебе тоже надоела, Эдди, милый, ты же знаешь!
– Разве я когда-нибудь это говорил, Роза?
– Говорил? Ты никогда не станешь такое говорить! Но только давал почувствовать! О, как она это хорошо сыграла! – восклицает Роза в восторге от удачного выступления подруги, сыгравшей роль ее жениха.
– А это, должно быть, чертовски бесстыдная девчонка, – говорит Эдвин Друд. – Итак, Кошурка, ты провела свой последний день рождения в этом старом доме.
– О да! – произносит Роза, всплеснув руками, тяжело вздыхая и грустно качая головой.
– Тебе, кажется, жаль, Роза?
– Конечно, мне действительно жаль старого дома. Я чувствую, что и он станет скучать, и всем будет скучно, когда меня увезут отсюда так далеко, такую молоденькую…
– Не лучше ли в таком случае нам покончить с этим делом, Роза?
Девочка бросает на него быстрый, веселый взгляд, но через секунду качает головой и, снова вздохнув, потупляет взор.
– Что же ты хочешь сказать, Кошурка, что мы оба должны мириться со своим положением?
Она молча наклоняет голову в знак согласия и после короткой паузы живо восклицает:
– Ты же сам знаешь, Эдди, что мы должны пожениться и венчаться здесь, и свадьбу сыграть, а то бедные девицы будут так разочарованы!
На лице жениха Кошурки появляется скорее жалость к себе и к ней, чем любовь. Но он пересиливает свое волнение и спокойно предлагает:
– Хочешь, пойдем погуляем, милая Роза?
Милая Роза не совсем уверена, хочет ли она пойти погулять или нет, но вдруг ее личико, комично задумчивое, с выражением озабоченности, светлеет, и она восклицает:
– О да, Эдди, пойдем гулять! И я тебе скажу, что мы сделаем. Ты притворись женихом какой-нибудь другой девушки, а я представлю, что вообще не выхожу замуж и ни с кем не помолвлена, вот мы тогда и не будем ссориться.
– Ты думаешь, Роза, это поможет? Помешает нам спорить?
– Непременно. Поможет, я уверена. Но тише, смотри в окно – миссис Тишер.
По какому-то случайному стечению обстоятельств именно сейчас миссис Тишер что-то понадобилось в комнате, куда она величаво вошла, зловеще шелестя своим платьем, как легендарный призрак вдовы – старой герцогини в шелковых юбках.
– Я надеюсь, вы здоровы, мистер Друд? – произносит она. – Хотя, видя вас, нечего об этом и спрашивать. Извините пожалуйста, что вас беспокою, но я забыла здесь костяной ножик для разрезания бумаги. Ах, вот он, благодарствуйте!
И она торжественно исчезает.
– И еще, Эдди, ты должен сделать, что я тебя попрошу, пожалуйста, – говорит Роза. – Открыв дверь и выпустив меня на улицу, ты сам иди у самой стенки, да прижмись к ней как можно ближе, а я пойду по тротуару.
– Изволь, Роза, если это тебе доставит удовольствие, но смею спросить: зачем?
– Да потому, что я не хочу, чтобы тебя видели девицы.
– Сегодня хорошая погода, светит солнце, правда, но хочешь, я раскрою над собой зонтик?
– Не дурачьтесь, сэр, – произносит Роза, надув губки и передернув плечом. – На тебе сегодня не лакированные туфли.








