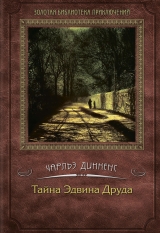
Текст книги "Тайна Эдвина Друда"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Глава XIX
Тень на солнечных часах
Снова мисс Твинклтон произносит своим воспитанницам прощальную напутственную речь с приложением белого вина и фруктового кекса, и вновь молодые девицы разъезжаются по домам. Елена Ландлес тоже покидает Монастырский дом, чтобы разделить участь своего брата, посвятив себя заботам о нем, и хорошенькая Роза остается одна.
Клойстергам так светел и ярок в эти солнечные дни, что собор, и монастырское здание, и развалины сияют, словно прозрачные. Солнечные лучи, кажется, исходят изнутри, а не падают снаружи; какой-то мягкий свет лучится из всех строений, и они радужно глядят на знойные хлебные поля и дымные от пыли дороги, их окружающие! Клойстергамские сады – все в румянце поспевающих фруктов. Еще недавно было время, когда уставшие, покрытые паровозной копотью путешественники большими толпами проходили через город, не отдыхая на его тенистых улицах. Теперь город заполнен другими путешественниками, кочующими, как цыгане, между сенокосом и жатвой и до того запыленными, что кажутся сделанными из пыли. Они долго отдыхают в тени на прохладных ступенях чужих лестниц, стараясь починить давно отказавшуюся от починки обувь или, выбросив ее в городские канавы, надевают другую, хранившуюся в их заплечных мешках вместе с обернутыми в солому серпами. У всех городских водоемов эти путешественники охлаждают свои босые усталые ноги под бьющей из желоба струей и утоляют жажду, булькая и брызгаясь, черпая воду пригоршнями; между тем клойстергамская полиция смотрит на них подозрительно и, выражая нетерпение, ждет не дождется, когда эти нарушители тишины и спокойствия покинут городские пределы и снова окажутся на палящем зное в удушливой пыли больших дорог.
После полудня в один из таких дней, когда последняя служба в соборе окончилась и на ту сторону Большой улицы, где находится Монастырский дом, пала благодатная тень, пропуская солнечные лучи в просветы между ветвями окружавших здания садов, служанка докладывает Розе, к величайшему ужасу последней, что к ней пришел мистер Джаспер и желает с ней поговорить.
Если он искал случая застать девушку врасплох, в самый неудобный для нее момент, то, конечно, вполне в этом преуспел: лучшего для себя дня и часа он не мог выбрать. Быть может, он это знал и это было его целью. Елена Ландлес уехала, миссис Тишер была в отпуске, мисс Твинклтон отправилась на пикник со специально испеченным пирогом с телятиной (сейчас она пребывала в неслужебной фазе своего существования).
– О, зачем, зачем ты сказала, что я дома! – в отчаянии восклицает Роза, ломая руки.
Служанка отвечает, что мистер Джаспер вовсе не спрашивал, дома ли она, что он сказал только: «Я знаю, она дома, и скажите ей, что я желаю ее видеть».
«Что мне делать? Что делать?» – думает Роза в отчаянии. И тут же вне себя от растерянности она решительно громко заявляет, что выйдет к мистеру Джасперу в сад. Ее пугает мысль остаться запертой с ним в доме – нет, об этом страшно подумать! Много окон выходят в сад, там ее могут слышать и видеть, и, если что, можно закричать и убежать. Вот такие дикие мысли гнездятся в голове Розы.
Она не видела его со времени роковой ночи, за исключением того дня, когда давала показания у мэра и Джаспер мрачно присутствовал при этом в качестве представителя своего племянника, решительно настроенный отомстить за него. Повесив себе на руку круглую шляпку, Роза выходит в сад. Увидев его издали, с крыльца, опиравшегося на солнечные часы, она испытывает то странное, ужасное чувство покорности и безволия, которое она всегда ощущала в его присутствии. Она готова побежать назад, но он притягивает ее к себе и заставляет ее ноги двигаться по направлению к нему. Она не может сопротивляться этой вязкой, притягательной силе и, опустив голову, садится на садовую скамью подле солнечных часов. Она не может взглянуть на него, так сильно ее отвращение, однако замечает, что он в глубоком трауре. Она и сама также в глубоком трауре. Сначала она не хотела надевать траур, но теперь потеряла всякую надежду и оплакивала исчезнувшего юношу как умершего.
Он хотел взять ее за руку. Она инстинктивно поняла его намерение и отдернула руку. Его глаза пристально устремлены на нее, она это чувствует, знает, хотя не сводит глаз с травы у своих ног.
– Я довольно долго ждал, – начал он, – что вы пошлете за мной для продолжения исполнения моих обязанностей.
Она несколько раз тщетно пытается что-то промолвить, зная, что он пристально следит за всеми движениями ее губ. Губы ее несколько раз складываются для какого-то невнятного возражения, затем невольно раскрываются.
– Каких обязанностей, сэр?
– Обязанности учить вас музыке и служить вам в качестве вашего преданного наставника.
– Я бросила музыку.
– Не совсем и не навсегда, я надеюсь. Я слышал от вашего попечителя, что вы временно приостановили ваши занятия музыкой после удара, который мы все так болезненно ощутили. Когда вы возобновите эти занятия?
– Никогда, сэр.
– Никогда? Вы не могли бы принести большей жертвы, даже если бы действительно любили моего бедного мальчика.
– Я любила его! – кричит Роза, сильно разозлившись.
– Да, конечно. Но не совсем – как бы точнее выразиться? – не совсем так, как следует, не так, как думали, как от вас ожидали. Мой дорогой мальчик, к несчастью, был слишком самоуверен и самодоволен (я не сравниваю его с вами в этом отношении, о вас я так не говорю), чтобы любить вас именно так, как следовало и как любой другой на его месте любил бы вас или должен был бы вас любить!
Она продолжает сидеть неподвижно, но вздрагивает всем телом и еще больше отодвигается от него.
– Итак, – заметил он, – сообщение о том, что вы временно приостановили ваши занятия со мной, – это был вежливый отказ от моих услуг навсегда?
– Да, – отвечает Роза с неожиданной силой. – Вежливость была со стороны моего опекуна, а не с моей. Я ему просто сказала, что решила бросить свои занятия музыкой с вами и ничто не заставит меня изменить это решение.
– Вы и теперь придерживаетесь того же мнения?
– Да, сэр, и прошу меня более не расспрашивать об этом. Во всяком случае, я не буду отвечать, у меня не хватит сил.
Она чувствует, как восторженно он пожирает взглядом ее лицо, пылающее от злости и гнева, любуется ее живостью, она сознает это, и ее мужество исчезает, едва появившись, и заменяется ужасным чувством стыда, обиды и страха, как в тот памятный вечер, когда ей сделалось дурно за фортепиано.
– Я не буду вас более расспрашивать об этом, если вы не желаете и если вам неприятно, но сделаю вам чистосердечное признание…
– Я не хочу вас слушать, сэр, – вставая, возражает Роза.
В эту минуту он протягивает к ней руку и касается ее руки. Она, отшатнувшись, снова опускается на скамью.
– Мы иногда должны поступать вопреки нашим желаниям, делать то, чего не хочешь, – тихо говорит он. – Вы должны меня выслушать, вам придется это сделать, в противном случае вы принесете другим людям такой вред, какой никогда не будете в состоянии исправить.
– Какой вред?
– Подождите, я сейчас объясню, и вы все узнаете. Вы, однако, расспрашиваете меня, а сами запретили мне задавать вопросы вам. Это несправедливо. Впрочем, я все-таки вам отвечу на этот вопрос, но позже. Милая Роза! Прелестная Роза!
Она снова вскакивает с места.
Он теперь не прикасается к ней, не пытается ее удержать. Но он так страшен, его лицо так сурово! Он так странно стоит, облокотившись на солнечные часы, точно заслоняя своей мрачной фигурой самый свет дня, ставя на него черную печать, что Роза не может бежать, словно она прикована к месту ужасом, и смотрит на него со страхом.
– Я вовсе не забываю, что из многих окон на нас могут смотреть, – говорит он, указывая на Монастырский дом. – Я больше не дотронусь до вас и не подойду ближе, чем теперь. Сядьте – и никто, посмотрев на нас, не удивится, что ваш учитель музыки мирно разговаривает с вами, спокойно облокотясь на постамент, особенно после всего случившегося и нашего участия в этих событиях. Обычная картина. Сядьте же, моя любимая.
Она снова хочет убежать и убежала бы, если бы опять ее не остановило его дикое, страшное лицо и отражавшаяся на нем плохо скрываемая угроза. Случится что-то невероятное, если она уйдет. Бросив на него оцепенелый взгляд, она снова опускается на скамью.
– Роза, даже когда мой дорогой мальчик был твоим женихом, я безумно любил тебя. Даже когда я думал, что ты доставишь ему счастье, выйдя за него замуж, я безумно любил тебя. Даже когда я сам старался внушить ему преданность и более горячее чувство к тебе, я любил тебя. Даже когда он подарил мне твой портрет, так небрежно им набросанный, и я всегда видел его перед собой, будто этот портрет для меня – память о нем, а на самом деле ради счастья все время смотреть на твое лицо и все время страдать, я безумно любил тебя и боготворил сколько лет твое изображение. Днем, в часы скучных занятий, ночью, во время горькой бессонницы, преследуемый мрачной действительностью или подвергаясь с отчаяния галлюцинациям, мучительно переносящим меня то в рай, то в ад, в стране грез и видений я безумно любил тебя, а твой образ не покидал меня ни на секунду!
Его слова были противны и отвратительны, и если что-нибудь могло увеличить ужас, возбуждаемый в ней этими словами, так это контраст между его страстными, пламенными взглядами и нарочитым спокойствием его позы.
– Я все снес молча. Пока ты принадлежала ему – или я думал, что принадлежала, – я честно хранил свою тайну. Не правда ли?
Эта грубая, явная ложь, звучащая с такой правдивостью, переполняет чашу терпения Розы. Она не может этого вынести и отвечает, дрожа от негодования:
– Вы всегда, как и в настоящую минуту, были низким лицемером. Вы все время лгали. Вы всегда были вероломны по отношению к нему и предавали его каждый день и час. Вы знаете, что вы отравляли мою жизнь постоянными преследованиями. Вы вынудили меня скрывать правду. Я боялась ради его доброй, доверчивой души открыть ему глаза на вас и доказать, какой вы злой, дурной, бесчестный человек!
Его хладнокровная беспечная поза и чисто дьявольские судорожные подергивания лица и рук придают ему совсем уже сатанинский вид.
– Как ты прекрасна! – произносит он с пламенным восторгом. – Ты еще прекраснее, когда сердишься, чем когда ты спокойна. Я не прошу твоей любви! Отдай мне себя и свою ненависть, отдай мне себя и свою прелестную злость; отдай мне себя и свое очаровательное презрение – и мне этого будет достаточно.
Слезы нетерпения и негодования выступают на глазах бедной дрожащей девочки; с пылающим лицом, с глазами, сверкающими от гнева и ужаса, она снова хочет бежать и искать спасения в Монастырском доме, но он простирает руку по направлению к крыльцу, словно приглашая ее уйти.
– Я сказал тебе, моя очаровательная, милая волшебница, мой милый бесенок, что ты должна остаться и выслушать меня, иначе ты причинишь другим людям такой вред, которого ничем уже нельзя будет исправить. Ты спросила у меня, какой вред? Останься – и я скажу тебе какой. Уйдешь – и я его обрушу на их головы.
Роза снова содрогается при виде его грозного лица, хотя не понимает смысла этой угрозы, но она остается. Грудь ее тяжело вздымается, ей не хватает воздуха, и она тяжело переводит дыхание.
– Я признался тебе, что любовь моя безумна. Она до того безумна, что, если бы узы, связывавшие меня с моим дорогим потерянным мальчиком были хоть на волосок слабее, то я оказался бы в состоянии оторвать его от тебя еще тогда, когда ты проявляла к нему благосклонность.
На мгновение она поднимает глаза – и взгляд ее мутнеет, она едва не падает в обморок.
– Даже его, да, даже его! – повторяет он. – Роза, ты слышишь, что я говорю, ты видишь меня. Посуди сама, позволю ли я, чтобы любой другой твой поклонник, жизнь которого в моих руках, любил бы тебя и оставался в живых?
– Что вы хотите этим сказать, сэр?
– Я хочу показать тебе, как безумна моя любовь. Во время следствия на допросах мистер Криспаркл показал, будто молодой Ландлес признался ему, что он был соперником моего бедного погибшего мальчика. Это в моих глазах страшное, непростительное преступление. Тот же самый мистер Криспаркл знает, что я поклялся найти, изобличить и наказать убийцу, кто бы он ни был, что я решил не говорить об этой тайне ни с кем, пока не соберу улик, в которых можно будет запутать убийцу и поймать его, словно в сети. Я с тех пор терпеливо, мало-помалу стягивал вокруг него эту сеть и теперь, пока я говорю с тобой, она стягивается вокруг него все теснее и теснее.
– Вашу уверенность, если вы действительно уверены в виновности мистера Ландлеса, не разделяет мистер Криспаркл, а он человек честный и справедливый, – возражает Роза.
– Моя уверенность остается при мне и никого не касается, кроме меня, помолчим об этом, сокровище моего сердца! Обстоятельства могут так обернуться, что против даже ни в чем не повинного человека накопится столько подозрений, что стоит их как следует направить – и при ловком ведении дела этому человеку конец. Одна-единственная недостающая улика, найденная в процессе настойчивых поисков, может доказать его виновность, как бы ни были слабы все прежние улики, и тогда он погибнет. Так вот, молодой Ландлес, виновен он или нет, находится в смертельной опасности.
– Если вы действительно полагаете, – побледнев, говорит Роза, – что я оказываю предпочтение мистеру Ландлесу и неравнодушна к нему или что мистер Ландлес когда-либо и с чем бы то ни было обращался ко мне, то вы полностью заблуждаетесь.
Он молча отмахнулся и презрительно скривил губы, усмехаясь.
– Я хочу тебе показать, как я безумно тебя люблю, теперь еще безумнее, чем когда-либо. Я согласен отказаться от той цели в жизни, которой посвятил себя, – от мести за моего погибшего мальчика. Согласись быть моей – и я всю жизнь посвящу одной тебе и других целей у меня никогда не будет. Мисс Ландлес – твой самый близкий, сердечный друг. Ты заботишься о ее спокойствии?
– Я ее очень люблю.
– Тебе дорого ее честное имя?
– Я уже сказала, сэр, что очень ее люблю.
– Я невольно, – замечает он с улыбкой, кладя руки на солнечные часы и склоняя на них голову, так что из окон, где по временам появляются различные лица, он кажется занятым приятным, легким разговором, – я невольно опять провинился и стал задавать вопросы, а потому лучше буду говорить утвердительно, а не спрашивать. Ты заботишься о спокойствии и добром имени своего сердечного друга, своей любимой подруги. Так отведи же от нее тень виселицы, моя любимая!
– Как вы смеете мне такое предлагать!
– Да, голубушка, я смею тебе предлагать такое. Подожди. Правильнее сказать так. Если боготворить тебя – это дурно, то я худший из людей на земле; если это хорошо, то я самый лучший человек на земле. Моя любовь к тебе выше всякой иной любви, и моя преданность и верность тебе выше всякой иной преданности. Окажи мне милость, дай мне надежду, и я изменю своей клятве ради тебя!
Роза прижимает руки к вискам и, откинув назад волосы, с отвращением смотрит на него, словно старается соединить в одно целое то, что он хитроумно излагает ей отдельными отрывками и намеками.
– Не забывай в настоящую минуту, ангел мой, о жертвах, повергаемых мной к твоим дорогим, милым ножкам, которые я готов целовать, пресмыкаясь в любой грязи, и под которые с блаженством положу свою голову, как несчастный дикарь! Вот моя преданность умершему дорогому мальчику! Растопчи ее!
И при этом он делает рукой движение, словно швыряет к ее стопам нечто драгоценное.
– Вот непростительное преступление против моей любви, моего обожания – растопчи его.
И он повторяет то же самое движение рукой.
– Вот мои труды в продолжение шести месяцев во имя справедливой мести – растопчи их!
И в третий раз он повторяет то же движение рукой.
– Вот моя прошлая и настоящая горькая жизнь. Вот отчаяние и одиночество моего сердца и души. Вот мое спокойствие. Растопчи их в грязь, но возьми меня, даже если люто меня ненавидишь!
Его пламенная страсть, его восторженность достигают такой степени, что наводят на нее еще больший ужас и тем самым рассеивают чары, приковывающие ее к этому месту. Она бросается прочь, но через минуту Джаспер уже оказывается рядом с ней и говорит ей на ухо:
– Роза, я пришел в себя, я снова спокоен. Я иду абсолютно тихо. Я буду ждать, что ты мне подашь какую-то надежду. Я не нанесу слишком рано рокового удара. Покажи хоть знаком, что ты меня слышишь.
Она незаметно и напряженно делает движение рукой.
– Не говори об этом никому ни слова, или роковой удар разразится немедленно. Это так же верно, как то, что ночь следует за днем. Сделай опять знак рукой, что ты слышишь меня.
Она снова чуть приподнимает руку.
– Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю! Если ты теперь отвергнешь мою любовь (а ты не сможешь это сделать), то никогда от меня не избавишься. Я никому не позволю встать между нами. Я буду преследовать тебя до самой смерти.
В эту минуту подходит служанка, чтобы отпереть ему калитку, и он, спокойно сняв шляпу, кланяется и уходит, и на его лице признаков волнения не больше, чем на изображении отца мистера Сапси на вывеске. Роза поднимается по лестнице и вдруг падает в обморок; ее быстро уносят в спальню и кладут в постель. По словам служанок, собирается гроза, и бедняжка не выдержала духоты; они и сами целый день чувствовали «какую-то дрожь в коленках».
Глава XX
Бегство
Не успела Роза прийти в себя, как все, что произошло между нею и Джаспером, живо предстало перед ее глазами. Ей даже казалось, что осознание всего произошедшего не покидало ее и в минуты забытья, что она ни на секунду не была свободна от него. Что ей было делать? Она решительно не знала. В своем ужасном смятении она ясно чувствовала лишь одно, только одна мысль не покидала ее – она должна бежать от этого страшного человека.
Но где и у кого она могла искать убежища, как и куда могла она бежать? До этих пор она никому, кроме Елены, не говорила о том, что боялась его. Но если она отправится к Елене и расскажет ей обо всем случившемся, то этим самым может ускорить ужасное злодеяние, которым он ей угрожал и на которое, без сомнения, был способен. Чем страшнее представлялся Джаспер ее разгоряченному воображению, тем серьезнее казалась ей ее ответственность, ибо малейшая ошибка с ее стороны, малейшая торопливость или промедление могли навлечь несчастье на голову брата Елены.
Все последние шесть месяцев в уме Розы царил самый настоящий хаос. Какое-то неопределенное, не имевшее образа невысказанное подозрение, как щепка на бушующих волнах, то всплывало на поверхность и качалось там, то исчезало в этом хаосе, то принимало вид достоверности и как будто реализовывалось, то рассеивалось. Обожание Джаспером его племянника при жизни и его энергичное, настойчивое расследование причин смерти молодого человека были так живы в умах всех жителей Клойстергама, что никому бы не пришло в голову подозревать его в нечистой игре, в предательстве. Роза не раз спрашивала себя: «Неужели я такая глупая и злая, что подозреваю человека в таком злом деле, в такой гнусности, какую никто другой и представить не сможет?» Затем она, мысленно споря с собой, прибавляла: «Не зародилось ли это подозрение оттого, что я ненавидела его еще раньше, до этого несчастного события? И если так, то разве не доказывает это полнейшую его безосновательность?» Наконец она задала себе вопрос: «Если мое обвинение справедливо, то какой он мог иметь повод, зачем ему все это?» Ей стыдно было отвечать себе: «Чтобы завладеть мною!» Она даже закрывала лицо руками, словно одна мысль задумать убийство из-за такого пустого повода была почти столь же великим преступлением, и даже тень подобной мысли делала преступницей и ее.
Она припоминала и бегло повторяла сама себе все, что говорил ей в саду Джаспер, опираясь на солнечные часы. Он утверждал, что исчезновение его племянника было убийством, и твердо настаивал на этом – точно так же он всегда заявлял это публично со времени находки часов и булавки. Если бы он боялся раскрытия преступления, то скорее стал бы поддерживать мысль о добровольном исчезновении молодого человека. Не выгоднее ли это ему было? Он даже признался ей, что если бы узы, связывавшие его с племянником, не были бы так крепки, то он готов был бы «даже его» насильственно удалить от нее, стереть с лица земли. Неужели он стал бы говорить так открыто, если бы действительно это сделал? Он утверждал, что готов отказаться от своих шестимесячных трудов во имя справедливой мести, если она откликнется на его безумную страсть. Неужели он говорил бы это с таким жаром, если бы его труды были нереальными или придуманными? Разве он сказал бы о них в ту минуту, когда почти кричал о своем отчаянии, одиночестве своего сердца и души, о зря прожитой жизни, об утраченном покое и так далее? И первой жертвой, которую он готов был ей принести, будет его преданность памяти дорогого погибшего мальчика. Все это реальные факты, и они говорили против того подозрения, которое едва осмеливалось зародиться в ней. Но все-таки какой же он страшный человек! Одним словом, бедная молодая девушка (что она могла знать о душевном разладе преступника, который обычно не бывает понятен ни присяжным, ни ученым-исследователям, специально занимающимся этими вопросами, ведь они непременно хотят сравнить его разум с обычным разумом обычных людей, вместо того чтобы рассматривать его как особое, страшное, необыкновенное явление) не могла прийти ни к какому другому выводу, кроме того что Джаспер – страшный человек, чудовище, поэтому от него надо бежать.
Все это время она была опорой и утешением для Елены. Она постоянно убеждала ее, что полностью верит в невиновность ее брата, и сочувствовала и ей, и ему в их несчастье. Но она ни разу не видела Невила со времени исчезновения Эдвина Друда, и Елена никогда не упоминала о его признании мистеру Криспарклу относительно своих чувств к Розе, хотя это обстоятельство стало известно всем из показаний во время следствия. Он для нее был только несчастным братом Елены, и никем более. Когда она заверяла ненавистного Джаспера в полном отсутствии каких-либо отношений между нею и Невилом, то говорила сущую правду, хотя было бы гораздо лучше (она теперь это понимала), если бы она тогда промолчала. Как ни боялась его эта хрупкая, нежная девочка, гордость ее возмущалась при мысли, что он узнал об этом из ее собственных уст.
Но куда ей было бежать? Куда-нибудь, где он не мог бы ее достать? Но это не ответ на вопрос. Надо было что-то придумать и решить. Она подумала, что может отправиться к своему опекуну и поехать тотчас же, не теряя ни минуты. То чувство, о котором она говорила Елене в первой откровенной беседе, чувство, что нигде ей от него не спастись, что даже за толстыми стенами древнего монастыря она не избавлена от его преследований, теперь еще сильнее овладело ею, и никакие благоразумные мысли и рассуждения не могли побороть ее страх. Она так долго, слишком долго находилась под угнетающим влиянием какого-то странного, давящего ужаса и отвращения к нему, что, как ей теперь казалось, Джаспер мог привлечь ее к себе каким-то темным колдовством, что он приобрел над ней власть и просто мыслью способен приковать ее к месту. Даже теперь, когда Роза, уже поднявшись с постели и начав одеваться, случайно выглянула в окно и увидела солнечные часы, на которые он опирался, разговаривая с ней, изливая ей свои признания, она вдруг вся похолодела, вздрогнула и отвернулась, точно он придал этому бездушному предмету какие-то ужасные свойства и недобрую силу.
Она поспешно написала коротенькую записку мисс Твинклтон, в которой сообщала, что ей внезапно понадобилось переговорить со своим опекуном и она поехала к нему; в конце записки она просила добрую мисс Твинклтон не беспокоиться, так как все обстояло благополучно, ничего особенного не случилось. Затем она так же торопливо положила несколько совершенно ненужных вещей в маленький дорожный саквояж и, оставив записку на видном месте, тихонько вышла из Монастырского дома, неслышно притворив за собой дверь.
Впервые она очутилась одна на клойстергамских улицах, но, хорошо зная все закоулки города, все пути и повороты, она, не сбиваясь с пути, быстро добежала до того места, откуда отходили дилижансы. Как раз в эту минуту дилижанс отправлялся.
– Возьмите меня, пожалуйста, Джо, – попросила она. – Мне нужно ехать в Лондон.
Через пару минут она уже направлялась в карете к железнодорожной станции под покровительством Джо. По прибытии на станцию Джо проводил ее до поезда, усадил в вагон и осторожно внес ее саквояж, точно это был громадный, по меньшей мере пятипудовый чемодан, который сама она не в силах была поднять.
– Не можете ли вы, Джо, – попросила Роза, – когда вернетесь домой, сходить к мисс Твинклтон, успокоить ее и сказать, что вы проводили меня и видели, как я благополучно уехала?
– Будет исполнено, мисс.
– И прибавьте, пожалуйста, что я ей кланяюсь, целую ее.
– Хорошо, мисс, – и я бы от этого не отказался! – Эту часть фразы Джо, понятно, вслух не произнес, а только подумал.
По дороге в Лондон, куда поезд мчал ее на всех парах, Роза снова могла на свободе предаться тем размышлениям, которые были прерваны ее поспешным отъездом. Мысль, что его признание в любви так осквернило ее, что она могла очиститься от этого пятна, лишь обратившись за помощью к честным и благородным людям, поддерживала ее, утверждая все более и более в необходимости принятого ею второпях решения. Но, когда небо за окном становилось все темнее и темнее, многолюдный город надвигался все ближе и ближе, ее снова начали одолевать обычные в таких случаях сомнения. Она стала думать, не была ли ее поездка напрасной, необдуманной, и спрашивала себя, как примет ее мистер Грюджиус, застанет ли она его дома, что ей делать, если его не окажется в городе? Может быть, ей стоит сейчас же возвратиться, подождать еще, с кем-нибудь посоветоваться? Да, если б только возможно было вернуться, она бы с радостью это сделала! Масса подобных мыслей заполняла ее голову, и чем больше их возникало, тем сильнее возрастала ее тревога. Наконец поезд прибыл в Лондон, грохот его прокатился по крышам над пыльными серыми улицами с зажженными фонарями, хотя стоял светлый, летний вечер.
«Гирам Грюджиус, эсквайр, Степл-Инн, Лондон». Вот место назначения, адрес, который знала Роза, и этого оказалось достаточно, чтобы через несколько минут она ехала в кэбе по пыльным серым улицам, где толпы людей, вышедших подышать свежим воздухом, оглашали его монотонным скрипучим шумом своих ног, шаркающих по накалившимся за день тротуарам, где и дома, и люди выглядели серыми, пыльными и убогими.
Там и сям слышались звуки музыки, но это не придавало большей жизни окружающей картине. Ни шарманки, ни удары в большие барабаны не улучшали грустного настроения, не приносили веселья и бессильны были избавить город от скуки. Подобно бою колоколов, слышавшемуся время от времени из соседних церквей, они, казалось, вызывали лишь эхо, ударяясь о каменные здания, и повсюду поднимали облака пыли. Что же касается нежных флейт, то они пели такими надтреснутыми голосами, будто надрывали себе сердце от тоски по деревне.
Наконец дребезжащий экипаж остановился перед крепко-накрепко запертыми воротами, которые, похоже, принадлежали человеку, очень рано ложившемуся спать и очень боявшемуся воров. Роза отпустила кэб, подошла к воротам и робко постучала в них. Сторож тотчас же впустил ее.
– Здесь живет мистер Грюджиус? – спросила она.
– Мистер Грюджиус живет вон там, мисс, – ответил сторож, указывая на лестницу в глубине двора.
В это время пробило десять часов, когда Роза, пройдя через двор и поднявшись по лестнице, уже стояла на пороге. Она постучалась в дверь, на которой была надпись: «Мистер Грюджиус». Никто не отвечал, и, заметив, что дверь поддается, Роза открыла ее и увидела своего опекуна. Он сидел на подоконнике и смотрел в открытое окно; в дальнем углу комнаты на столе тускло горела лампа под темным абажуром.
Роза тихонько приблизилась к нему в полумраке, царившем в комнате. Он увидел ее и вполголоса произнес:
– Господи!
Роза бросилась к нему на шею и залилась слезами.
– Дитя мое, дитя мое, – сказал он, обняв и поцеловав ее. – Я принял тебя за твою матушку! Но что же случилось, что привело тебя ко мне? – прибавил он поспешно. – Что, что? Моя милая, зачем ты приехала, кто тебя привез?
– Никто, я приехала одна.
– Господи, – воскликнул Грюджиус, – одна! Почему ты мне не написала, я бы за тобой приехал.
– Не было времени. Я решилась внезапно! Бедный, бедный Эдди!
– Да, бедный юноша! Бедный юноша!
– Его дядя признался мне в любви! – воскликнула Роза, заливаясь слезами и нетерпеливо топая своей маленькой ножкой. – Я не могу этого выносить. Меня дрожь берет, когда я о нем вспоминаю. Я его боюсь и приехала к вам, чтобы вы защитили меня и всех нас – то есть, конечно, если вы не откажетесь.
– Я это сделаю! – воскликнул Грюджиус с неожиданной энергией. – Сделаю, будь он проклят!
Его политику сражу,
Его обманы поражу!
Тебя желать ему,
Проклятому?!
После этой необычной для него выходки и поразительной в его устах тирады мистер Грюджиус, совершенно выйдя из себя, забегал по комнате, сомневаясь, находится ли он в припадке благородного энтузиазма или воинственного обличения.
– Извини меня, дорогая, – сказал он наконец, останавливаясь и обтирая лицо платком. – Ты, конечно, рада, что мне уже гораздо лучше. Пожалуйста, больше не говори мне об этом сейчас, а то мне опять будет худо. Тебе надо отдохнуть и поесть. Что и когда ты ела в последний раз? Что это было – кофе, завтрак, обед, чай или ужин? И чего бы ты желала теперь: кофе, завтрак, обед, чай или ужин?
От его почтительной нежности, с которой он, преклонив колено, помог ей снять шляпку и распутать ее прекрасные волосы, зацепившиеся за шляпку, веяло чем-то рыцарским. Настоящий рыцарь! И кто, знавший мистера Грюджиуса лишь по внешности, мог бы ожидать встретить в нем рыцарственные чувства, да еще настоящие и непритворные?
– Надо также побеспокоиться о твоем ночлеге, – продолжал он. – У тебя будет самая лучшая, самая хорошенькая комнатка из всех, что есть в гостинице «Фернивал». Нужно также позаботиться о твоем туалете, и у тебя будет все, что только не ограниченная в финансовом отношении горничная сможет доставить. Это у тебя что, саквож? – прибавил он, пристально глядя на него; действительно, в полумраке комнаты этот маленький предмет едва можно было рассмотреть. – Это твоя собственность, милая?








