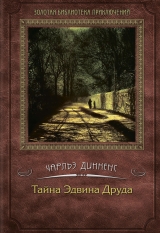
Текст книги "Тайна Эдвина Друда"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
– Кто, кроме вас, сэр, – отвечала Елена. – Что значит мое влияние и мой слабый ум в сравнении с вашим?
– В вас мудрость любви, – ответил младший каноник, – и не забывайте, что это высшая мудрость, какая существует на земле. Что же касается моего ума, моей мудрости, то, чем меньше говорить об этом мелочном предмете, тем лучше. Прощайте! Доброй ночи!
Она взяла протянутую ей руку и с благодарностью, почти с благоговением поднесла ее к губам.
– Шш! – тихо произнес младший каноник. – Это слишком высокая награда! Я этого не заслуживаю.
С этими словами он удалился.
По дороге домой во мраке ночи мистер Криспаркл обдумывал, как бы лучше, вернее добиться того, что он пообещал и что следовало совершить. А добиться было необходимо. «Меня, верно, попросят их обвенчать, – думал он, – как бы я желал, чтобы это было завтра и они поскорее обвенчались и уехали! Но теперь прежде всего надо устроить примирение». Главное было решить, как лучше и деликатнее это сделать – написать ли прямо молодому Друду или переговорить с Джаспером. Уверенность в своей популярности среди всего соборного причта побудила его решиться на последнее, а увидев свет в помещении над воротами, он сказал себе: «Надо ковать железо, пока горячо, зайду к нему сейчас».
Джаспер спал перед камином, когда Криспаркл, взобравшись по витой лестнице и не получив ответа на неоднократный стук в дверь, тихонько вошел в комнату. Впоследствии, через много времени младший каноник не раз вспомнил, как Джаспер вскочил, не придя в себя после сна, в каком-то бреду, восклицая:
– Что такое! Кто это сделал?
– Это я, Джаспер. Только я. Сожалею, что обеспокоил вас.
В блестящих глазах Джаспера, устремленных в пространство, сверкнуло нечто, ясно говорившее, что он узнал вошедшего, и он отодвинул два или три стула, чтобы освободить Криспарклу проход к камину.
– Я ужасно заспался, мне снились какие-то кошмары, очень рад, что вы меня разбудили, прервав этот нездоровый послеобеденный сон. Я уже не говорю о том, что всегда рад вас видеть.
– Благодарствуйте, – отвечал Криспаркл, усаживаясь в предложенное ему кресло, – но я не думаю, чтобы вы с первой минуты, увидев меня, были рады моему приходу, особенно по делу, по которому я пришел. Я проповедник мира и явился сюда в интересах мира. Одним словом, Джаспер, я хочу помирить наших юношей.
На лице Джаспера выразилось такое смутное изумление – то ли смущение, то ли растерянность, – что мистер Криспаркл не мог разобрать, в чем дело, и тоже несколько смущенный.
– А как? – тихо спросил Джаспер после минутного молчания.
– За этим-то «как» я и пришел к вам, чтобы поговорить. Я хочу просить вас, чтобы вы сделали мне большое одолжение и оказали важную услугу, уговорив своего племянника (я уже уговорил мистера Невила) написать вам небольшую записку – в его веселом непринужденном стиле, в которой он бы выразил готовность забыть прошлое, согласился протянуть руку Невилу. Я знаю, что он добрый юноша и что вы имеете на него большое влияние. Я ничуть не защищаю мистера Невила, но надо сознаться, что он был глубоко оскорблен.
Джаспер обернул свое растерянное и смущенное лицо к огню. Мистер Криспаркл не спускал с него глаз и нашел теперь, что его выражение было еще непонятнее, так как, по-видимому (что было почти невозможно), на нем можно было прочесть какие-то умственные расчеты и вычисления.
– Я знаю, что вы совершенно не расположены к мистеру Невилу, – начал было младший каноник, но Джаспер его перебил:
– Вы правы, я не расположен к нему.
– Это понятно. Конечно, я вполне согласен, что его характер дикий и необузданный, и я осуждаю его неумение владеть собой, но надеюсь, что мы это исправим со временем. Я потребовал от него торжественное обещание, что он будет впредь вести себя корректно по отношению к вашему племяннику, если вы его уговорите. Он дал мне слово, и я уверен, что сдержит его.
– На вас положиться можно, мистер Криспаркл, я привык вам верить, вы человек честный, надежный, но вы действительно уверены, что можете отвечать за него?
– Уверен. Могу.
Смущенное и смущавшее Криспаркла выражение лица Джаспера мгновенно исчезло.
– Прекрасно. В таком случае вы освобождаете меня от больших опасений, – сказал Джаспер, – с сердца моего гора свалилась. Я сделаю, как вы просите.
Мистер Криспаркл, откровенно обрадованный своей быстрой победой, самым любезным образом выразил свое удовольствие, рассыпавшись в благодарностях.
– Я это сделаю, – повторил Джаспер, – для успокоения моих смутных и ни на чем не основанных опасений. Ваше ручательство – для меня вещь надежная. Вы будете смеяться… Но скажите, вы ведете дневник?
– Не более строчки в день.
– Строчки в день было бы совершенно достаточно для моей однообразной, такой бедной событиями жизни, – сказал Джаспер, доставая книгу с полки. – Но мой дневник вместе с тем и дневник Нэда. Вы будете смеяться над этой записью, но угадайте, в какой день она сделана? «Полночь. После всего только что случившегося я чувствую какой-то болезненный страх, что ужасные последствия грозят моему дорогому мальчику, последствия, которых я не могу ни предупредить, ни побороть. Старался его преодолеть, но все мои усилия тщетны. Адское бешенство этого Невила Ландлеса, его нечеловеческая сила и дикая злоба, стремление уничтожить противника, которое я прочитал в его глазах, страшат меня. Так велико это впечатление, что я уже дважды ходил в комнату моего дорогого мальчика, дабы убедиться, что он в безопасности и спокойно спит, а не лежит мертвый, плавая в крови».
– А вот, – продолжал Джаспер, – что записано мною на следующее утро: «Нэд встал и уехал, столь же легкомысленный и ничего не подозревающий, как всегда. Он смеялся над моими предупреждениями и говорил, что он такой же молодец, как Невил Ландлес, и ничем не хуже. Я отвечал моему мальчику, что он лучше, он не такой злодей. Нэд продолжал легко относиться ко всему случившемуся, но я проводил его до самого дилижанса и расстался с ним очень неохотно. Я не в состоянии стряхнуть с себя эти мрачные предчувствия, если таким словом можно назвать выводы, основанные на ясных фактах».
– Снова и снова, – продолжал Джаспер, дальше перелистывая тетрадь, не спеша откладывать ее сторону, – я впадал в такие мрачные размышления, как доказывает дневник. Но теперь у меня есть ваше ручательство, и я внесу его в книгу, запишу здесь как противоядие моему страху и мрачным мыслям.
– Я надеюсь, что это противоядие, – отвечал Криспаркл, – окажется таким сильным, что заставит вас навсегда расстаться со всеми черными мыслями и в ближайшее время сжечь эту тетрадь. Я сегодня не должен был бы порицать вас, вы так быстро и охотно согласились со мной, но должен сказать, Джаспер, что, право же, ваша преданность племяннику заводит вас слишком далеко, заставляет делать из мухи слона. Все, что вы прочитали мне, – сильное преувеличение.
– Вы свидетель, – сказал мистер Джаспер, пожимая плечами, – в каком положении я был в ту ночь, что мне пришлось пережить, прежде чем я сел писать дневник, и в каких словах тогда, под свежим впечатлением, я выражал свои чувства. Помните, вы нашли, что одно употребленное мною выражение было слишком сильным? Оно было сильнее всего, что вы встретите дальше в моем дневнике.
– Хорошо, хорошо, попробуйте противоядие, – ответил Криспаркл, – и я надеюсь, что оно поможет вам более трезво и спокойно взглянуть на вещи. Но не будем об этом более говорить. Позвольте мне лично от себя вас искренне, от всего сердца поблагодарить за вашу любезность.
– Вы увидите, мистер Криспаркл, – продолжал Джаспер, пожимая ему руку, – что я ничего не делаю наполовину и добросовестно выполняю все, за что берусь. Я устрою так, что Нэд, если согласится со мной, первым протянет руку.
Через три дня после этого разговора мистер Джаспер вошел к мистеру Криспарклу со следующим письмом:
«Милый мой Джак!
Меня очень тронуло описание вашего разговора с мистером Криспарклом, которого я очень почитаю и уважаю. Я открыто признаю, что в тот вечер я забылся и виноват точно так же, как и мистер Ландлес; поэтому я искренне желаю помириться, чтобы прошлое было забыто и все уладилось.
Вот что, старина, попросите мистера Ландлеса отобедать с нами на Рождество (чем лучше день, тем лучше и дело); пусть нас будет только трое и никого больше, и, подав друг другу руки, мы пообещаем никогда больше не вспоминать старое.
Мой милый Джак, остаюсь многолюбящий вас Эдвин Друд.
P. S. Передайте Кошурке мой поклон на первом музыкальном уроке».
– Так вы ожидаете к себе в гости мистера Друда? – спросил Криспаркл.
– Я абсолютно уверен, что он приедет.
Глава XI
Портрет и кольцо
За древнейшей частью Холборна в Лондоне, где старинные островерхие дома в продолжение многих веков мрачно смотрят на улицу, словно отыскивая своими подслеповатыми глазами речку Олд Борн, которая уже давно высохла; чуть дальше, если пройти сквозь арку под этими домами, находится тихий уединенный уголок, состоящий из двух неправильной формы четырехугольных дворов и называемый Степл-Инн. Это один из тех уединенных уголков, завернув в который с шумных улиц, вы чувствуете, точно в ушах у вас заткнута вата, а подошвы у сапог бархатные. Это один из тех уединенных уголков, где задыхающиеся от дыма воробьи гнездятся на задымленных деревьях, словно крича друг другу: «Будем играть в деревню!» – и где несколько футов садовой земли и несколько ярдов песчаных дорожек позволяют им развлекать себя приятной фантазией и предаваться невинной игре воображения. Наконец, это один из тех уединенных уголков, где обитают всякие судейские. Здесь возвышается маленький судебный зал с маленьким стеклянным куполом в крыше, однако истории неизвестно, кем и для чего он был построен. Неизвестно и то, какие судебные дела и в чью пользу здесь вершились.
В те дни, когда Клойстергам негодовал по поводу строительства железной дороги, хоть и не близко проходящей, видя в ней угрозу той чувствительной конституции, за которую мы, британцы, всегда дрожим и которой всегда хвалимся при всяком малейшем событии на свете, хоть и на другом конце земного шара, – в те дни никакие архитектурные излишества в виде громадных домов еще не бросали на Степл-Инн свою мрачную тень. Заходящее солнце посылало ему свои пурпурные лучи, и юго-западный ветер свободно дул на него.
Однако ни ветер, ни солнце не ласкали Степл-Инн в тот декабрьский вечер (около шести часов), а напротив, всюду в воздухе царил густой туман и лишь тускло, расплывчатыми пятнами мерцал свет зажженных свечей из окон занятых комнат, разместившихся в зданиях. Между прочим, были освещены и окна комнат, находившихся в угловом доме во внутреннем четырехугольном дворике, над входом в который была таинственная надпись:
П. Д. Т. 1747.
В этих комнатах, совершенно не напрягая своей головы по поводу надписи над входом и полагая, что она означала «Пожалуй, Джон Томас» или «Пожалуй, Джо Тайлер», в эту минуту, сидя в задней комнате, писал перед камином мистер Грюджиус. Надо заметить, что смысл этой надписи оставался неразгаданным для всех, в том числе и для владельца, который никогда особенно над ней не задумывался, разве что когда она случайно попадалась ему на глаза.
Кто бы мог сказать, глядя на мистера Грюджиуса, что когда-то его терзало самолюбие или он испытывал разочарование. Он воспитывался для адвокатуры и хотел заняться юридической деятельностью, мечтал открыть нотариальную контору, составлять акты о передаче земельной собственности и другого имущества. Но его союз с купчей и вообще с юриспруденцией был так несчастлив, что они разошлись по обоюдному согласию, то есть, если возможен развод, когда не было совместной жизни.
Нет, купчая не хотела мистера Грюджиуса, он ухаживал за нею, но не одержал победы, и они разошлись каждый в свою сторону. Между тем однажды неизвестно откуда свалилось какое-то дело и он участвовал в третейском суде. В результате он завоевал уважение как человек, неустанно ищущий правды и стремящийся к истине. Вскоре ему уже не случайно предложили доходное местечко сборщика по долговым обязательствам. Это принесло ему солидное вознаграждение. Теперь он стал агентом по сбору арендной платы и управляющим двумя крупными поместьями и исполнял все, что требовалось по юридической части. Часть этой работы он передавал помещающейся в том же доме фирме стряпчих. Он затушил в себе искру самолюбия (если она когда-нибудь загоралась в нем) и поселился на всю оставшуюся жизнь под сухим платаном, посаженным П. Д. Т. в 1747 году.
Много счетов, счетных книг, множество картотек, груды писем и несколько железных сейфов заполняли комнату мистера Грюджиуса. Едва ли можно сказать, что они ее загромождали – так аккуратно и в строгом порядке они были расставлены. Мысль, что он может умереть скоропостижно, оставив хоть одну сомнительную, непонятную цифру или не обоснованный полностью факт, убила бы на месте мистера Грюджиуса. Дело в том, что исполнение взятых на себя обязательств было источником главной жизненной силы и являлось главным двигателем этого человека. Есть другие источники жизненных сил, делающие жизнь более приятной, веселой и живой, но нигде нет источника более надежного.
В комнате мистера Грюджиуса не было и намека на какую-либо роскошь. Весь комфорт в ней ограничивался тем, что эта комната была сухой, теплой и с уютным, хотя несколько постаревшим камином. Вся так называемая частная жизнь мистера Грюджиуса ограничивалась камином, мягким креслом и старомодным круглым столом, который ставился на коврике перед камином по окончании службы, а в остальное время находился в углу в сложенном виде, с отвесной доской, спущенной наподобие щита из красного дерева. В этом оборонительном положении он закрывал собой шкаф в стене, в котором постоянно хранились вкусные напитки. Другая, передняя комната, которая вела в описанную, принадлежала клерку мистера Грюджиуса, а спальня самого хозяина находилась над общей лестницей. Кроме того, ему принадлежал далеко не пустой винный погреб под этой же общей лестницей. По крайней мере триста дней в году он каждый вечер переходил улицу и отправлялся обедать в гостиницу Фернивал, а после обеда опять переходил улицу и возвращался домой, отдыхая до той минуты, пока вновь не наступало утро и начинался обычный трудовой день под литерами П. Д. Т. 1747.
Итак, мистер Грюджиус сидел и писал перед своим камином, а в соседней комнате так же сидел и писал перед своим камином клерк мистера Грюджиуса. Это был бледный, с одутловатым лицом, темными волосами, большими мутными глазами человек лет тридцати. Цветом своего лица он так напоминал сырое тесто, что его невольно хотелось поскорее отправить в булочную для выпечки. Этот помощник мистера Грюджиуса был каким-то таинственным лицом и имел над ним какую-то странную власть. Он точно был вызван на свет волшебными чарами, которые потеряли свою силу для его изгнания, и сильно докучал мистеру Грюджиусу, который почувствовал бы себя гораздо свободнее и удобнее, если бы тот от него отстал. Но, несмотря на то что этот мрачный человек с нечесаной шевелюрой казался вскормленным под сенью того ядовитого дерева на Яве[8]8
Писатель говорит о произрастающем на Яве дереве юпас, или анчар, часто упоминающемся в поэзии романтического периода – у Байрона в «Чайльд Гарольде», у Кольриджа в трагедии «Раскаяние», откуда А. С. Пушкин взял эпиграф для своего «Анчара».
[Закрыть], которое укрыло под своими ветвями больше фантастических историй, чем любой представитель растительного царства, мистер Грюджиус всегда обращался со своим помощником с удивляющим окружающих подчеркнутым уважением.
– Ну, Баззард, – сказал мистер Грюджиус, отрывая взгляд от своих бумаг, которые он уже укладывал в папки, когда вошел клерк, – что принес там ветер, кроме тумана?
– Мистера Друда, – ответил Баззард.
– Что с ним? – спросил Грюджиус, заканчивая складывать свои бумаги на ночь.
– Пришел мистер Друд.
– Вы могли бы его провести сюда.
– Я это и делаю, – ответил Баззард.
В эту минуту в комнату вошел Эдвин Друд.
– Батюшки! – произнес мистер Грюджиус, прищурившись, подняв голову и устремляя свой взгляд через пару конторских свечей на вошедшего. – Я думал, что вы только назвали себя, оставили карточку и ушли. Как ваше здоровье, мистер Эдвин? Что с вами, вы еле дышите!
– Это все от тумана, – ответил Эдвин, – мне от него глаза щиплет, словно от кайенского перца.
– Неужели уж так скверно? Снимите верхнее платье. По счастью, у меня как раз камин топится, славный огонек. Мистер Баззард позаботился обо мне.
– Нет, я не заботился, – ответил мистер Баззард, появляясь на пороге.
– О, тогда, вероятно, я сам бессознательно позаботился о себе и даже не заметил, – сказал мистер Грюджиус. – Пожалуйста, сядьте в мое кресло, прошу вас! После прогулки в такую погоду, где вы надышались сыростью, вам надо отдохнуть. Садитесь в мое кресло!
Эдвин поместился в мягкое кресло в углу у камина, и вскоре туман, который он внес с собой в комнату, испарявшийся из снятого им пальто, исчез под теплым дыханием огня.
– Я так расположился, точно здесь остаюсь, – улыбаясь, сказал Эдвин.
– Извините, что я вас перебью, – воскликнул мистер Грюджиус, – но, право, останьтесь! Через часок или два туман, может быть, рассеется, а я могу заказать обед из трактира – это совсем близко, через улицу. Лучше уж вам здесь воспользоваться кайенским перцем, чем на улице; пожалуйста, останьтесь и пообедайте со мной.
– Вы очень любезны, – ответил Эдвин, взглянув на него так, будто сделанное предложение к такому пиру экспромтом показалось ему весьма интересным и очень понравилось.
– Нисколько, – ответил мистер Грюджиус, – это вот вы так добры, что остаетесь обедать у холостяка чем Бог послал и согласились разделить его скромную трапезу. И я позову также, – прибавил мистер Грюджиус, понижая голос и сверкая глазами, словно у него в голове блеснула светлая мысль, – я позову Баззарда. А то он может и обидеться. Баззард!
Баззард появился в дверях.
– Пообедайте сегодня со мной и мистером Друдом.
– Если вы прикажете, то я, конечно, буду, – мрачно ответил Баззард.
– Вот тебе на! Вам никто не приказывает, а вас приглашают.
– Благодарствуйте, сэр, – ответил Баззард, – в таком случае мне все равно, могу и пообедать.
– Значит, дело улажено и, может быть, вы, – продолжал мистер Грюджиус, – не откажетесь сходить в гостиницу Фернивал – это только через дорогу перейти – и попросить принести все необходимое, чтобы накрыть стол, да чтобы прислали кого-нибудь в помощь. Что же касается обеда, то пусть нам пришлют миску горячего крепкого бульона, какой-нибудь салат, только самый лучший, большой кусок мяса (хоть баранью ногу) и наконец гуся, индейку или какое-нибудь жаркое, какое у них есть, – одним словом, пускай присылают то, что у них под рукой.
Эти щедрые распоряжения мистер Грюджиус давал своим обычным тоном, как будто он зачитывал инвентарь, повторял урок или читал что-нибудь наизусть. Баззард расставил круглый стол и отправился исполнять приказания своего господина.
– Вы видите, как деликатно я поступил, – сказал Грюджиус, понижая голос при выходе клерка, – ему могло не понравиться исполнять должность фуражира или комиссариатского чиновника.
– Он, кажется, у вас всегда все делает по-своему, сэр, как ему нравится, – заметил Эдвин.
– По-своему? – повторил Грюджиус. – Нет, вы ошибаетесь. Если бы он делал все только по-своему, как ему нравится, то его бы здесь не было.
«Где ж бы он был?» – подумал Эдвин.
Но он это только подумал, так как в ту же минуту мистер Грюджиус уже подошел к камину и, повернувшись спиной к огню, приподняв полы сюртука, принял позу человека, собиравшегося начать приятный разговор.
– Не обладая даром пророчества, – произнес он, – я могу безошибочно сказать, что вы оказали мне честь, пожаловав только для того, чтобы уведомить меня о вашей поездке туда, где вас, могу заверить, ждут. Кроме того, вы, конечно, думали предложить мне свои услуги, если у меня есть что переслать прелестной Розе, или, быть может, вы хотели побудить меня поторопиться в каком-нибудь деле? Не правда ли, мистер Эдвин?
– Я зашел к вам перед отъездом, сэр, из приличия, это просто проявление внимания с моей стороны.
– Из приличия. Внимания! – сказал мистер Грюджиус. – О, конечно. А не от нетерпения?
– Нетерпения, сэр?
Мистер Грюджиус хотел сказать остроту, хотя об этом никто бы не догадался, но эта острота отскочила от спокойного лица Эдвина Друда, и мистер Грюджиус сам отскочил от огня, к которому уже слишком близко придвинулся, словно хотел эту остроту запечатлеть на своей внешности (ведь наносят с помощью нагрева отпечатки на твердый металл). Он потер припаленное место.
– Я был там недавно, – сказал он, поправляя фалды сюртука, – и поэтому позволил себе сказать, что вас там ожидают.
– Неужели, сэр! Да, я знаю, что Кошурка меня ждет.
– А вы держите там кошку? – спросил Грюджиус.
– Я называю Розу Кошуркой, – ответил Эдвин, слегка покраснев.
– Неужели! Это очень мило, – произнес Грюджиус, проводя рукой по голове.
Эдвин взглянул на Грюджиуса, не зная, одобрял ли он или осуждал подобную фамильярность, но с таким же успехом он мог бы искать какое-либо выражение на стенных часах.
– Это ласкательное имя, – объяснил он наконец.
– Гм! – сказал Грюджиус, наклонив голову, но таким странным тоном, что в нем слышалось нечто среднее между одобрением и осуждением. Эдвин был совершенно сбит с толку.
– К… Роза… – начал было Эдвин и тотчас исправился.
– К… Роза? – повторил мистер Грюджиус.
– Я хотел сказать Кошурка, но передумал. Говорила она вам что-нибудь о Ландлесах?
– Нет, – ответил Грюджиус. – А что это Ландлесы? Поместья? Вилла? Ферма?
– Это брат и сестра. Сестра находится в Монастырском доме и стала подругой К…
– К… Розы! – перебил его мистер Грюджиус, не меняя выражения лица.
– Она удивительно хорошенькая девочка, сэр, и я думал, что, возможно, о ней вам что-нибудь сказали или вам ее представили.
– Нет, ни то ни другое. Но вот и Баззард.
Баззард возвратился в сопровождении двух трактирных слуг – неподвижного и шустрого; все трое снова внесли в комнату столько тумана, что огонь в камине сильно загудел. Шустрый слуга, принесший всю посуду на своих плечах, накрыл стол с необыкновенной быстротой, а неподвижный слуга, не принесший ничего, только находил во всем оплошности и упрекал своего товарища за то, что тот все делает не так. Шустрый слуга тщательно вытер все принесенные стаканы, а неподвижный хладнокровно осмотрел их на свет. Затем шустрый побежал через улицу за супом и примчался назад, потом снова полетел за салатом и снова вернулся, наконец понесся за жарким и птицей и прилетел с ними обратно; он летал туда и назад бесчисленное количество раз, ибо оказалось, что неподвижный слуга ничего не принес и все забыл. Но с какой быстротой ни рассекал воздух шустрый слуга, при каждом его появлении неподвижный осыпал его упреками за то, что он приносит с собой туман, и за то, что так тяжело дышит. Когда обед был окончен и шустрый слуга совершенно умаялся, неподвижный снял со стола скатерть, важно перекинув ее через руку, и торжественно, чтобы не сказать презрительно, взглянул прежде на шустрого слугу, расставлявшего чистые стаканы, и затем на мистера Грюджиуса, как будто говоря: «Поймите хорошенько, что вознаграждение положено мне, а этому рабу ничего не причитается». При этом он взял за плечи шустрого и вытолкнул его из комнаты.
Вообще это была прелестная миниатюрная картинка, изображавшая лордов, начальников английского правительственного департамента или главного управления. Эта поистине нравоучительная картинка достойно заняла бы место в Национальной галерее.
Что касается тумана, ставшего основной причиной сего торжественного банкета, то этот же туман послужил и главнейшей приправой для всех блюд. Долетавшие снаружи звуки, издаваемые клерками, топавшими, чихавшими и сморкавшимися на улице, гораздо сильнее возбуждали аппетит, чем все аппетитные капли доктора Киченера. Постоянные просьбы, обращенные к несчастному шустрому слуге, чтобы он затворил двери, были ароматнее всех соусов в Гарвее. Да позволено нам будет заметить, что ноги этого молодого человека, которые он использовал для открывания и закрывания двери, выказывали такую редкую чувствительность, что при каждом входе на несколько секунд опережали его самого и поднос с предметами, а при уходе всегда оставались на несколько секунд после того, как и он, и поднос уже исчезли, подобно тому как ноги Макбета неохотно следуют за ним со сцены, когда он идет убивать Дункана.
Радушный хозяин после обеда отправился в погреб и принес несколько бутылок с золотистыми, пурпурными и янтарными напитками, которые давно уже созрели в странах, где не бывает туманов, и с тех пор долго дремали во мраке погреба. Пенясь и искрясь после столь долгого сна, они сами выталкивали пробки навстречу штопору (как узники в темницах помогают бунтовщикам ломать двери) и предавались веселой пляске, вырвавшись на волю. Если П. Д. Т. в тысяча семьсот сорок седьмом или каком-либо другом году своего столетия пил такие вина, то, конечно, П. Д. Т. был Пьяница Джо Тайлер.
По лицу мистера Грюджиуса не было видно никаких внешних признаков влияния на него этих забористых напитков. Если бы вместо того, чтобы выпить их, он бы вылил их себе на голову, то выражение его лица осталось бы то же самое. Его манеры также ничуть не изменились. Сохранив обычную деревянную неподвижность лица, он не сводил глаз с Эдвина и после обеда предложил ему снова занять мягкое кресло у камина, на что Эдвин охотно согласился и с наслаждением расположился в нем после нескольких слабых протестов для приличия. Повернув к камину и свой стул, мистер Грюджиус провел рукой по голове и лицу и продолжал сквозь пальцы этой руки внимательно наблюдать за Эдвином.
– Баззард, – произнес он, неожиданно обращаясь к своему помощнику.
– Слушаю, сэр, – ответил Баззард, который в течение всего обеда добросовестно и с усердием исполнял свою обязанность потребителя мяса и напитков, но большей частью молчал.
– Я пью за ваше здоровье, Баззард! Мистер Эдвин, выпьем за успехи мистера Баззарда!
– За успехи мистера Баззарда! – повторил Эдвин с напускным энтузиазмом, а сам подумал: «А в чем, я, право, не знаю».
– И я желаю, – продолжал мистер Грюджиус, – я не могу говорить определенно, но желаю – мое разговорное искусство так слабо, что мне трудно из этого выпутаться… я желаю – надо выразиться образно, а у меня совсем нет фантазии… Я желаю, чтобы мистеру Баззарду удалось избавиться от жестких терниев забот! Это предел образности, на которую я способен.
Мистер Баззард, хмуро уставившись на огонь, перебирал пальцами свои спутанные волосы, словно там находился терновник забот, потом запустил их за жилет, будто рассчитывая найти их там, и наконец в карманы, как бы уже не сомневаясь, что там они уж обязательно окажутся. Эдвин внимательно наблюдал за каждым его движением, точно ожидая, когда же появятся эти самые тернии, но не дождался, а мистер Баззард произнес:
– Внимаю, сэр, и благодарю вас.
– Я сейчас хочу выпить за здоровье моей подопечной – прелестной мисс Розы, – сказал мистер Грюджиус вполголоса, наклоняясь к Эдвину, одной рукой постукивая стаканом по столу, а другой прикрывая себе рот. – Но я раньше предложил тост за Баззарда, так как ему, пожалуй, не понравилось бы и он бы обиделся, если бы я его позабыл.
При этих словах он как-то таинственно подмигнул Эдвину (правда, это движение было бы подмигиванием, произведи его мистер Грюджиус чуть быстрее), и тот ответил тем же, хотя абсолютно не понимал, что это значит.
– А теперь, – продолжал уже громко мистер Грюджиус, – я поднимаю бокал в честь прекрасной и очаровательной мисс Розы. Баззард, за здоровье прелестной и очаровательной мисс Розы!
– Слушаю, сэр, – сказал Баззард и ответил тем же тостом.
– И я так же, – прибавил Эдвин.
– Господи! – воскликнул мистер Грюджиус после обычного непродолжительного молчания (хотя невозможно сказать, почему именно за исполнением какого-либо общественного ритуала должно непременно следовать непродолжительное молчание, ведь ритуал этот не призывает к самоуглублению, не вызывает упадка духа), – я очень Угловатый Человек, но все же мне кажется (я употребляю эти слова, хотя не имею ни малейшей фантазии), что могу нарисовать портрет истинного влюбленного и объяснить, что он чувствует сегодня вечером.
– Мы слушаем, сэр, – сказал Баззард, – рисуйте ваш портрет.
– Мистер Эдвин поправит меня, если я ошибусь, – продолжал мистер Грюджиус, – он придаст портрету более жизненности. Вероятно, я ошибусь во многом и понадобится много жизненных черточек, ибо я родился щепкой и никогда не знавал никаких нежных чувств и не имел никакого в этом опыта. Ну вот! Я полагаю, что ум истинно влюбленного человека проникнут мыслью о предмете его любви. Я полагаю, что ее милое имя так дорого для него, что он не может слышать или произносить его без глубокого волнения и хранит его вечно, свято в своем сердце. Если он называет ее каким-нибудь милым, нежным, особым ласкательным именем, то он произносит его только при ней, оно больше никому не известно и для посторонних оно тайна. Ведь невыразимое счастье произносить это имя наедине, а называть его при всех – разве это не непозволительная вольность, дерзкая холодность, доказательство бесчувственности, равнодушия, почти предательство?
Удивительное зрелище представлял собой в эту минуту мистер Грюджиус. Он сидел гордо выпрямившись, держа руки на коленях, и быстро, ровным голосом, без передышки отчеканивал свои фразы, подобно школьному ученику с хорошей памятью, отвечающему урок катехизиса; при этом ни малейшего волнения, никаких эмоций, соответствующих содержанию его высказываний, не заметно было на его лице, кроме небольшого подергивания самого кончика носа, будто он у него чесался.
– На моем портрете, – продолжал мистер Грюджиус, – истинно влюбленный человек представляется (при условии поправки с вашей стороны, мистер Эдвин) вечно жаждущим быть рядом с предметом своей страсти или хотя бы недалеко от него, никогда не думающим только о своем удовольствии – его не может дать ему другое общество, кроме общества своей возлюбленной. Если бы я сказал, что он стремится к ней, как птица к своему гнезду, я бы показался смешным, ибо это означало бы, что я вступил на почву поэзии, а я так далек от нее, что никогда и не приближался к ее пределам на десять тысяч миль. К тому же я абсолютно не знаком с обычаями птиц, исключая тех, которые вьют свои гнезда в печных и водосточных трубах Степл-Инн, вовсе не созданных благодетельной рукой Природы. Поэтому прошу вас заметить, что я обхожу вопрос о птичьем гнезде… Но все же мой портрет представляет истинно влюбленного человека, каким я его вижу, не имеющего отдельной жизни от жизни своей возлюбленной; он живет в одно и то же время двойной жизнью и половинной. Если же я не ясно выражаю мои мысли, то лишь потому, что, не обладая красноречием, я не умею выражать того, что думаю, или не думаю того, что выражаю. Впрочем, я уверен, что последнее неверно.








